Мой театр. По страницам дневника. Книга I бесплатное чтение
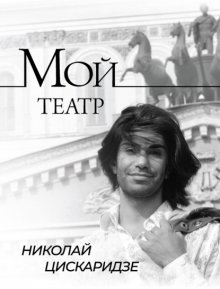
Николай Цискаридзе
Мой театр. По страницам дневника
Книга I
© Н. Цискаридзе, текст, фото, 2022
© И. Дешкова, текст, фото, 2022
© А. Бражников, фото, 2022
© И. Захаркин, фото, 2022
© М. Логвинов, фото, 2022
© С. Шевельчинская, фото, 2022
© АРБ им. А. Я. Вагановой, фото, 2022
© Благотворительный фонд «Новое Рождение искусства», фото, 2022
© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, фото, 2022
© OOO «Издательство АСТ», 2022
В авторской редакции
Автор идеи и литературного текста Ирина Дешкова
Выражаем благодарность за помощь в создании книги Галине Петровой, Зое Ляшко, Ане Верещагиной
* * *
Сколько всего обо мне написано – тонны наглой лжи и всяких небылиц, – что я давным-давно бы сгинул, если б обращал на это внимание. Нужно утешаться тем, что у времени есть сито, сквозь которое львиная доля пустяков утекает в море забвения.
Альберт Эйнштейн
I. Детство
1
Родился я 31 декабря 1973 года в Грузии, в городе Тбилиси, на улице имени Камо. Там находился роддом № 1. А может быть, и не «номер один». На улице, названной в честь, как пишут в энциклопедиях, «российского профессионального революционера», – в общем, на революционной улице. Маме шел сорок третий год. Срок моего появления на свет врачи назначили на январь 1974 года. На девятом месяце беременности мама сама решила выяснить, когда же родится ее ребенок. Раскинула карты, она умела гадать, – и выпал 1973 год. Мама так и говорила родным: «Я гадаю, у меня не получается семьдесят четвертый, получается семьдесят третий!»
«Ламара провела весь день 30 декабря у нас дома, – рассказывала ее близкая подруга, – съела весь дом, просто выела пространство, и ушла домой. Я срочно заново стала что-то готовить к Новому году, потому что все, что я приготовила, она съела. И вдруг Ламара приезжает с последним троллейбусом опять. С пакетиком в руках. А там – зубная щетка, очки, роман Сомерсета Моэма „Театр“ и батон колбасы! Больше ничего. Я ей: „Ламара, ты куда?“ – „Я погадала, я завтра рожу, я пошла в роддом“. У меня дыхание перехватило: „Ты что, с ума сошла? В роддом не с этим набором ходят! Туда надо ночнушку, халатик…“ Стала ее собирать, дала кружку и другое – все, что нужно для роддома. А она говорит: „Наверное, там всё дадут“. – „Нет, там ничего нет!“»
В общем, с горем пополам, маму собрали, и она отправилась на улицу Камо. Пришла в роддом поздней ночью. Медперсонал на нее накинулся: «Зачем пришли, у вас еще неделя – срок в январе! Уходите! Приходите к Рождеству! Может, вам повезет, и вы родите миллионного жителя Тбилиси!» Но это предложение маме совсем не понравилось. Она тяжело опустилась на стул и сказала: «Я не уйду. Я завтра буду рожать».
И вот поздно вечером, под самый Новый год, случилось то, что ей предсказали карты. Я – вечерний ребенок, самым последним в тот день родился в этом роддоме. Весом в два с немногим килограмма. Все говорили, что мама родит тройню, такой живот огромный у нее был, а получилось, гора родила мышь. Когда ей меня показали, она в ужас пришла: «Боже, что это?!» Вместо нормального дитя, по ее выражению, «были ноги, одни только ноги».
И еще мама рассказывала – в тот вечер в Тбилиси пошел снег. И что она лежала, смотрела в окно, как кружатся белые хлопья, и чувствовала себя очень счастливой. И снег этот лежал всю ночь. А снег для Тбилиси – вещь экстраординарная.
Наверное, я нужен был Небесам еще и для статистики. Своим рождением я выполнил план роддома за неделю, за квартал, за месяц, за год. У них в то время по отчетности катастрофически не хватало мальчиков. Потом, когда стали оформлять бумаги, мама просила записать мой день рождения на 1 января, даже деньги предлагала, чтобы не прибавлялся год для армии. Но ей категорически отказали. Сказали, что в эти сутки, с 30 на 31 декабря 1973 года, в их роддоме родился только один мальчик – я. «И не надо портить статистику!»
Все женщины в маминой палате мечтали о мальчиках, и все родили девочек. И одна она, которой было все равно – девочка или мальчик, – родила мальчика. По традиции, в Грузии появлению мальчика всегда радуются больше, как бы девочек и так много. Мама потом говорила, что, наверное, девочка была бы все-таки лучше…
2
Цискаридзе – гурийская фамилия. Грузия – страна, на территории которой проживает множество народностей: сваны, картлийцы, мегрелы, рачинцы, гурийцы, имеретинцы, кахетинцы и многие другие.
Цискаридзе – это обыкновенная, простонародная фамилия. Но в переводе с грузинского она звучит очень красиво. Слово «ца» – значит «небо», «кари» – это «врата». Словосочетание это пишется вместе – «цискари» – и имеет два значения. Если слово произносится утром – это «заря», если вечером – «первая звезда». Всё, что первым появляется на небе, является как бы небесными вратами и зовется «цискари».
Под фамилией Цискаридзе мама прожила всю жизнь. Но, судя по всему, это не настоящая фамилия ее семьи. Конкретных тому доказательств у меня нет, потому что все документы были уничтожены в 1930-е годы, когда в Грузии начались репрессии.
В 1990-е годы было очень модно обнаруживать свое «благородное происхождение». Появилось Дворянское общество. Я тогда маме сказал: «Слушай, пойди восстанови свои семейные документы! Ты-то можешь!» Она очень рассердилась: «Никогда не забывай, что Цискаридзе – это простая фамилия, никаких князей! И чтобы ты этих глупостей не нес никогда!»
Трудно сказать, почему мама так раздраженно и даже испуганно реагировала на любой мой вопрос, касавшийся нашей родословной. Пресекала все мои попытки что-либо разузнать. Я теперь думаю, она просто боялась. Она же 1932 года рождения – не понаслышке знала, что такое репрессии.
Если же я опять об этом заговаривал, мама тут же парировала: «Ника! Бьют не по паспорту, а по морде!» Это была ее любимая фраза. И все время повторяла: «Забудь про это все, постарайся стать Человеком и заслужить признание, уважение не благодаря каким-то припискам, а сам по себе». Ее второе любимое высказывание звучало так: «Багажник к гробу никто не привязывает, и квартира в итоге у всех будет одинаковая, на расстоянии от поверхности земли».
Но, как бы мама ни сопротивлялась, ни старалась держать язык за зубами, она иногда проговаривалась. Однажды летом мы с ней приехали в Кутаиси, я был еще маленький. Она привела меня к красивому особняку с садиком. На входе вывеска: «Музыкальная школа». Я еще подумал: как странно, вроде мы живем в Тбилиси, зачем она меня в музыкальную школу в Кутаиси ведет? Зашли внутрь, и мама вдруг говорит: «Это дом моей бабушки». Да, так и сказала…
Позднее я узнал, что мамина семья до революции 1917 года владела домами в Петербурге и в Москве на Грузинском Валу. Там раньше находилось большое поселение грузин. Однажды мы с мамой туда пришли. Ходили-ходили, она не смогла дом найти, говорила: «Вот где-то здесь, а где – не знаю». Старые кварталы, видимо, были уже снесены, и после войны там множество новых зданий построили. Собственный дом был у них и в Тбилиси в районе Ваке, самом престижном в городе. После революции семью уплотнили, и мамина мама – Нина Максимовна – перебралась в две комнаты полуподвала, в цокольный этаж, который французы красиво называют «le rez-de-chaussé». Хорошо, хоть окна во двор выходили, а не на шоссе! Там бабушка и умерла в 1950-х годах.
В Грузии советскую власть установили в 1921 году. С этого момента, судя по отрывочным высказываниям мамы, семья ее матери постепенно теряла свою собственность. А вот у семьи отца всё сразу забрали. Последнее место, откуда их выселили, – это из Кутаиси. Оставили только небольшой летний домик в двадцати пяти километрах от города, около деревни Багдати. И когда туда советская власть дошла, семья деда, чтобы выжить, поменяла фамилию. Как гласит предание, ее местный дворник записал на себя. Сказал, что это его семья, чтобы их не тронули. Вот откуда появилась фамилия Цискаридзе.
Мы в Багдати с мамой тоже ездили. Конечно, первым делом она рассказала, что здесь родился великий поэт Владимир Маяковский. А потом добавила, что отец Маяковского служил лесничим у ее бабушки… Когда я был маленьким, мы ходили в Дом-музей Маяковского. И я, помнится, давал там концерт – читал стихи Маяковского, «Облако в штанах».
Все, что я знаю о своей семье, это, по большей части, истории, которые рассказали мне родные, знакомые, соседи уже после кончины мамы. Такая была ее воля.
3
О своем папе я узнал, когда мне исполнилось 23 года. Перед смертью мама попросила наших тбилисских соседей мне о нем рассказать. Но не сразу. Только через три года после маминой смерти я узнал имя отца.
Разгадка оказалась очень простая. Я с детства знал папу. Видел его много раз. Просто мне не приходило в голову, что это мой отец. Не знаю, знал ли он о моем существовании. Его сын Дато, мой единокровный брат, который, к сожалению, недавно скончался, утверждал, что нет. Что если бы отец знал, то сказал бы.
Отец был женатым человеком, когда встретился с мамой, имел замечательную семью. Не думаю, что между ними была какая-то долгая связь. Просто так получилось. Видимо, я должен был родиться от этих родителей.
А потом еще выяснилось, что мама моего папы – и это уже не догадки, а реальная история – француженка по происхождению – Эжени Роде. Евгения то есть.
В Тбилиси до 1917 года жило много иностранцев, в том числе французов, итальянцев и немцев. Французы в основном обустраивались в районе Сололаки, а немцы – в районе проспекта Плеханова, где мой дедушка, мамин папа, жил.
В молодости Женя Роде, еще до того, как стала драматической актрисой, занималась вместе с Вахтангом Чабукиани и Еленой Чикваидзе (впоследствии мамы танцовщика Михаила Лавровского), в известной балетной студии итальянки Марии Перини. Частная школа потом превратилась в Тбилисское хореографическое училище.
Женя была девушка красивая, но по балетной части не пошла. Ее выбрал в актрисы своего театра Котэ Марджанишвили (Константин Марджанов), один из самых известных режиссеров своего времени. Но вместо того, чтобы делать карьеру, молодая актриса вышла замуж. Муж – грузин из купеческого сословия, небедный человек, но он был категорически против актерства жены.
Наивная француженка думала, что вышла замуж по большой любви за красавца грузина, а попала в очень строгую патриархальную семью. Он быстро сделал ей четверых детей, и ее карьера… закончилась. На самом деле жизнь этой женщины – бразильский сериал, но даже бразильцы такое придумать не смогли бы.
Не знаю причин и подробностей всей истории жизни бабушки, но в итоге Евгения с мужем рассталась. Вернее, он с ней расстался. Детей не отдал, просто выставил супругу на улицу. И больше никогда ее к детям не подпустил. Мой папа с братом втихаря с ней общались, а две дочери – нет, по гроб жизни не общались.
Со временем Евгения вышла замуж за еврея по фамилии Макогон и родила еще одного сына – Альфреда, который стал уважаемым человеком, директором школы. Именно под его началом работала моя мама: преподавала физику. Дальше – больше. Маминой лучшей подругой была жена Альфреда Макогона, Лина. Когда у них родился ребенок, моя мама крестила эту девочку, потому что Макогоны выкрестами были. Их принявшая православие француженка баба Женя крестила.
Когда мама купила кооперативную квартиру, оказалось, что на одной лестничной клетке с ней проживает старшая сестра Альфреда. Так они общались много лет. А потом папа и мама встретились. Мама понятия не имела, что отец ее будущего ребенка – прямой родственник ее близких друзей и соседки по дому.
А потом появился я. Вот тогда-то маму к бабе Жене и привели, та меня видела совсем маленьким. Когда я стал учиться в Тбилисском хореографическом училище, часто слышал от мамы: «Ну надо же, все-таки Женины гены пробились!» Я понять не мог, про какую Женю она говорит.
4
Главным в нашей семье в моем детстве был дедушка Николай Иванович Цискаридзе. В честь него меня и назвали. У нас в семье всех называли в честь какого-нибудь святого. А отчество я получил от маминой мамы – Нины Максимовны. Вот и вышло – Николай Максимович Цискаридзе. Хотя в семье и в школе все звали меня Ника.
Дед в свои 80 лет, как я его помню, красавец был. Густые темные волосы с легкой сединой. Особенно бросались в глаза бесподобно красивые кисти рук с длинными изящными пальцами и всегда аккуратными лунками ногтей. Наверное, поэтому, когда вижу нового человека, первым делом смотрю на его руки…
Дедушка был огромного роста, за два метра. А у нас с мамой в квартире мебель стояла по моде 1960-х, на тонких ножках. Я и сегодня терпеть не могу этот стиль. Когда дедушка садился, мне всегда казалось, что ножки кресла обязательно должны разъехаться, потому что такой гигантский дядька не может сидеть на вот этом!
Дедушка отдельно жил, в старой части города, в типично грузинском доме с внутренним двориком. Рядом проходили трамвайные пути. Окна его огромной комнаты выходили на место, где трамвай поворачивал. И каждый раз, когда трамвай подъезжал, он давал сигнал. И всё содержимое комнаты начинало «др-др-др», трястись. Подпрыгивал весь дедушкин антиквариат.
Комната, как и ее хозяин, казалась мне необыкновенной. Огромное количество книг, старинная массивная дубовая мебель. Помню лампы, как я позже стал понимать, в стиле art déco. Видимо, с тех пор я люблю ирисы, потому что они были и на шкафу, и на прикроватных то ли тумбочках, то ли этажерках. С потолка свисала красивая люстра, бронзовая, а не современный хрусталь, как у нас с мамой.
Дома все в хрустале было, потому что маме как педагогу на каждый праздник этот хрусталь дарили. Не только вазочки – всё несли. У нас такое количество французских духов было, что я играл этими нераспечатанными коробками, как машинками, расставляя их по цветам.
А у дедушки все другое… На столе столовое серебро: приборы, сахарница. Под тарелки тоже какие-то серебряные ажурные подставки подкладывали. И очень много маленьких штучек: вилочек, щипчиков, ложечек… Мне это все очень нравилось, хотелось поиграть. Старшие меня одергивали: «Здесь не играй, тут не вставай!»
Судя по огромной библиотеке, дедушка был хорошо образованным человеком, думаю, он знал немецкий и французский языки. Мама свободно владела немецким, но всю жизнь это скрывала. Когда маму хоронили, я случайно спросил ее подругу: «А мама могла знать немецкий язык?» – «Она на нем идеально разговаривала!» – «Откуда?» – «Ну как же, Ника! Все соседи немцы! Когда она приехала в Тбилиси, то училась в классе, где половина класса были немцы!» Кстати, на улице Калинина, где дедушка жил, и теперь находятся действующие русский православный храм и немецкая кирха.
Кем по профессии был мой дед? Мама говорила, что все мужчины в нашей семье были юристами. Но, как я подозреваю, дед был человек еще и с погонами. Он вернулся в Тбилиси в конце Великой Отечественной войны после контузии. Откуда он вернулся – никто не знал, кем он был – тоже никто не знал. Документов нет.
Когда дедушка скончался в 85 лет, в дом пришли серьезные люди. Документы, книги – всё забрали. У нас ничего не осталось. Даже клочка бумаги, на чем можно было бы писать… Ничего.
Родной брат дедушки – Тарас Иванович Цискаридзе – всю свою жизнь провел в Москве, и, судя по его адресу, жил в Сокольниках в ведомственном доме. Он служил в комендатуре Кремля. Вот потому-то мама и побывала в конце 1930-х годов на главной елке страны в Колонном зале Дома союзов.
Вообще, в жизни деда много непонятного. Например, еще до войны, в 1935 году, дед трехлетнюю маму забрал и уехал с ней из Тбилиси в Москву. К тому времени они с бабушкой уже разошлись и, насколько я знаю, никогда друг с другом не общались.
Кстати, о дедушкиных женах. Их было много, и многие из них были младше мамы! Он и из жизни ушел женатым человеком. Правда, ни на одной из этих женщин, кроме маминой мамы, он не был женат официально.
Дедушка перенес три инфаркта, на четвертом его не стало. Вот почему мама считала, что рано умрет, – в нашей семье все от сердца умирали.
Детей у деда осталось… не сосчитать. Но, что интересно, мама была его единственным «официальным» ребенком. Дедушка ее от себя никогда не отпускал. Мама практически всегда при нем находилась.
С возрастом я многое понял по поводу мамы. Когда у девочки такой отец, являющийся для нее кумиром, очень тяжело найти достойного мужчину и выйти замуж. Я маму вспоминаю… когда она о папе говорила, у нее дыхание перехватывало. Незадолго до ее смерти у нас был разговор. «Господи, как же тебе было тяжело в кого-то влюбиться!» – сказал я. «Да, – ответила она, – когда я смотрела на отца, то понимала, что рядом никого поставить не могу».
Но вернусь к рассказу, когда дед привез маму в Москву. Незадолго до начала войны они переехали жить в только что отстроенный дом на улице Горького, теперь – Тверской. На нижнем этаже сегодня, как и много лет назад, располагается книжный магазин «Москва». Думаю, это была служебная квартира. Находилась она на самом последнем этаже, была угловой, окнами выходила на Столешников переулок. Мама любила шутить: «А из нашего окна – площадь Красная видна!» Говорила, что смотрела из окна на парады и демонстрации.
Из этой квартиры мама и в школу пошла, расположенную где-то в Козицком переулке. Когда в 1941 году началась война и город стали бомбить, уроки проходили в метро, на станции «Маяковская». И ночевали, и учились там. Мама показывала мне какие-то архивные фотографии, но в детстве меня это не интересовало, я мало что запомнил.
Знаю, что в Тбилиси они вернулись после 1943 года, ей 11–12 лет было. Мама рассказывала, что их отъезд из Москвы оказался неожиданным: дед пришел, они быстро собрали вещи, и все. Непонятно почему, отвоевав, он не захотел возвращаться в Москву, остался в Тбилиси. Уже потом она узнала, что квартиру на улице Горького дедушка как бы «сдал», вернул государству.
У мамы, как у многих людей того времени, был всегда наготове чемоданчик на случай ареста. Первый раз деда забрали в 1953 году, когда Сталин умер, но потом отпустили. Второй раз – когда Берию расстреляли. У мамы-студентки тогда из-за отца проблемы начались в институте, ее чуть не отчислили.
5
10 января 1974 года маму со мной выписали из роддома. И принесла она меня в квартиру на улице Сабурталинской, дом 63а. Это была кооперативная квартира, которую мама «выстроила», то есть – купила. Однокомнатная, на двухкомнатную денег не хватило. По тем временам отдельная квартира – очень «козырно», да еще в Сабуртало. Этот район в Тбилиси считался привилегированным, вторым в городе по «козырности» после Ваке.
13 января на старый Новый год в нашей квартире появилась моя няня – Фаина Антоновна Чередниченко – и стала с нами жить. Поскольку к моменту моего рождения маминой мамы – Нины Максимовны – уже не было в живых, мама заранее договорилась с Фаей, что та будет за мной ухаживать. Они знали друг друга лет пятнадцать, не меньше: Фая была соседкой маминой подруги по коммунальной квартире.
Когда няня развернула пеленки и увидела мои ноги, она серьезно сказала: «Балеруном будет». Меня с детства все вокруг и называли: «балерун».
Няню я называл Баба. Родилась она в Киеве, получила хорошее образование, потом ее семья почему-то оказалась в Чимкенте, то ли они сами там остались, то ли были сосланы…
После окончания Великой Отечественной войны она вместе с мужем-военным попала в Грузию. И, когда тот скончался, никуда не уехала, осталась в Тбилиси. У ее единственного сына была своя жизнь. Баба стала нянчить чужих детей. Однажды я спросил няню: «А почему ты дружила с мамой?» Она прямодушно выдала: «Вот сколько я знала твою мать, она всегда приходила с одним и тем же мужиком и никогда не курила!» Что мне, ребенку, было возразить против таких убийственных аргументов?!
Баба была очень крупная, дородная, такая вкусная украинская женщина, с огромной косой, короной уложенной вокруг головы. Помню, как она эту косу красиво гребнем закалывала. Я обожал, когда няня мыла голову, потому что мне разрешалось расчесывать это море роскошных волос. Мне было, наверное, лет шесть, когда она ни с того ни с сего обрезала косу. Просто взяла при мне – раз, и срезала. Я так плакал: «Боже, Баба, ты лысая, Баба!»
Няня в доме была «наше всё»: она готовила, убирала, стирала с утра до вечера. А в свободное время, если Баба меня не кормила, то, значит, она мне читала. Вернее, когда она меня кормила, она мне читала, потому что покормить меня можно было только тогда, когда я открывал рот. Если мне было неинтересно, я рот не открывал. Меня надо было удивить, чтобы рот открылся. В этот момент ложка влезала, и до следующей ложки. Пока я жевал, слушал дальше. Правда, ночью, под впечатлением от услышанного, я долго не мог заснуть. Баба уже спит, уже книга упала, а я ей: «Баба, а что дальше?» А она: «Спи, бесенок, спи!»
Сначала няня читала мне сказки, потом мы пошли по «Вильяму нашему по Шекспиру» – он ближе всех стоял на книжной полке. Трагедия «Ромео и Джульетта» не произвела на меня, трех-четырехлетнего ребенка, впечатления, я их что-то не пожалел. А вот над судьбой Дездемоны я рыдал. Няня, видимо, тоже вошла во вкус, потому что, когда Шекспир закончился, у нас пошел Грибоедов. Но Чацкого мне совсем не было жалко. Потом Грибоедова сменил Пушкин, его у нас было двенадцать томов. Мама отказалась мне их читать, а Баба – нет. Значит, Пушкина мы всего прочитали – пошел Лермонтов. История Тристана и Изольды мне тоже очень нравилась. Но больше всего я любил слушать «Марию Стюарт» Шиллера. Я заливался слезами, меня просто трясло от горя, потому что такой хорошей Марии голову отрубили.
Да, много книг прочитала мне Баба. Но до Льва Николаевича мы не дошли, Толстой был уже в школе…
6
Сначала мы жили все вместе – мама, Баба и я. Если дома, кроме нас с няней, был еще кто-то, мы говорили между собой на русском языке. Но если мы оставались один на один, она говорила со мной только на украинском, даже скорее на суржике, приправляя речь изрядной порцией ненормативной лексики. Но это, как ни странно кому-то может показаться, никогда не было ни вульгарным, ни пошлым. В том, как она это произносила, была особого рода эстетика, даже красота. Если я шалил, она ласково кричала мне: «Паскуда!» Баба и шлепнуть меня могла – ну так, очень любя.
Она меня обожала, а я ее. О том, что она мне неродная бабушка, я узнал, когда в школу пошел, – кто-то из детей рассказал. Я был полностью уверен, что Фая – моя родная. У меня дороже ее человека не было.
Потом я подрос, в доме появился отчим. Я стал жить у няни. Именно с ее квартирой связаны мои первые и самые счастливые воспоминания детства.
Жилплощадь Бабе досталась от мужа. Он работал на городском молочном комбинате, который построили вместе с жилыми домами еще до революции – в конце XIX века, наверное. Потом дома эти переделали под коммунальные квартиры.
В такой трехкомнатной квартире с невероятно высокими потолками – метров по шесть, – с огромной кухней и прочими удобствами у няни была всего одна комната, но какая! С большой кладовкой. И эта кладовка вся была забита банками с «закрутками». Мы закатывали все, что можно было закатать. В моем распоряжении маленькая серебряная ложечка имелась, я ею выковыривал косточки из вишни, которая на варенье шла.
Кроме того, в этой квартире было главное для Тбилиси – веранда. Перегородки делили ее на три неравные части. Няне принадлежала самая большая часть. Недавно, когда я там оказался, очень удивился: господи, как мы здесь могли помещаться?! Но в детстве веранда казалась гигантской. И еще это была солнечная сторона. Солнце там с утра до вечера стояло. Деревянные полы, выкрашенные в красный цвет, всегда горячие, и на них можно запросто сидеть… Это ли не счастье?!
Вся веранда была увита лианами и заставлена цветами в горшках. Растения няня подбирала со знанием дела. Она смешивала их цветки, листья, измельченные стебли и готовила лечебные отвары: от температуры, от горла, «чтобы лучше ранка заживала». В мои же обязанности входило за этими цветами ухаживать, для чего использовались две лесенки: высокая и средненькая. Я с леечкой по ним лазил, цветы поливал.
В этом раю стояла большая кровать, на которой я спал днем, а в теплую погоду мы там и ночевали.
7
Пока я был маленьким, каждый год мы с Бабой уезжали в марте в Цхнети, где мама снимала дачу, и оставались там до ноября. К июню в Тбилиси становится так жарко, что все стараются выехать за город. Цхнети – это «тбилисская Рублёвка», с особенным микроклиматом, где на высоких холмах, в сосновом бору, стоят очень приличные дома.
Мама приезжала к нам на выходные, а посреди недели привозила продукты: сливочное и оливковое масло, сахар, черную икру в банках. Уже в апреле могла привезти дыню, фрукты какие-то диковинные, потому что клубнику и все остальное мы с няней покупали на месте. Я и сейчас помню вкус этих продуктов. В общем, я не знал, что такое голод или «чего-то в доме нет».
Няня кормила меня в основном украинской кухней. Борщ – естественно, щи, сырники, вареники всякие и еще драники вкусные делала. Она волшебно готовила жареную картошку: резала ее почти ажурно, жарила сначала с одной стороны, томила ее, потом с другой стороны жарила, опять томила и только потом перемешивала. Получалось так вкусно!
Детство у меня было наисчастливейшее. Бо́льшую часть дня я проводил на улице. Мы с няней ходили покупать молоко, по дороге я «общался» с коровами, телятами, козами, знал, что такое куры, гуси, утки, и любил за ними наблюдать. Иногда играл со своими ровесниками, но вокруг меня в основном были взрослые люди, и с ними мне было интереснее, чем с детьми. Кроме того, я много времени проводил сам с собой. Мне и теперь никто рядом не нужен, у меня не было и нет дефицита в общении. Я совершенно спокойно могу общаться сам с собой…
Также летом, а иногда и зимой вместе с мамой мы ездили к моему дяде, Нодару Цискаридзе, жившему в Абастумани.
Это курорт, расположенный в горах на границе с Турцией. В XIX веке он назывался Аббас-Туман и получил известность, когда там поселился Великий князь Георгий Александрович – младший брат Николая II. За год до своей смерти от туберкулеза он пригласил к себе художника Михаила Нестерова, чтобы тот расписал дворцовую церковь Александра Невского. Нестеров работал там лет пять или шесть и создал около пятидесяти работ. Я обожаю этого художника! Его «Георгий Победоносец» в Третьяковской галерее – одна из моих любимых картин. И храм в Абастумани необыкновенный. Он в плохом состоянии был при Советском Союзе, но мы с мамой все равно его очень любили.
Когда в Третьяковской галерее проходила большая юбилейная выставка Нестерова, Абастумани посвятили целый раздел. Кроме картин, эскизов росписей, там показали фотографии церкви, строительство дворцов и дома, в котором я рос, где жил мой дядя.
В Абастумани находились два дворца Великого князя – летний и зимний. В моем детстве там санаторий размещался. Помню в зимнем дворце бальный зал, который был превращен в огромную столовую. А за этим дворцом стоял флигель, в котором прежде жила вся дворцовая обслуга. Дядя имел в этом флигеле трехкомнатную квартиру. Он был начальником Абастумани «по культуре». Оканчивая университет, Нодар попал в аварию и повредил легкие. Его послали лечиться в санаторий в Абастумани, там он устроился на работу и оттуда уже никогда не уезжал. Заглядывал иногда на несколько дней в Тбилиси, но начинал задыхаться. Дядя мог жить только в горах.
В Абастумани потрясающие места, красота – Швейцария «отдыхает». Там дикая, нетронутая человеком природа и целебный, чистейший воздух. Леса, озера, поля – бескрайние. Мы когда ходили по грибы, по ягоды, иногда даже не понимали, не ушли ли мы в Турцию. Граница никак не обозначена. Из-за этого в Абастумани ехали как в другую страну: полагалось получить специальный вызов, вроде приглашения. Туда могли приехать или больные на лечение, или родственники местных жителей. Пограничная зона.
Погостив у дяди, мы с мамой улетали в Москву или в Ленинград, на мое «окультуривание», а затем на море, в Пицунду. В двадцатых числах июля уезжали из Пицунды, обычно на рейсовом автобусе. Проезжали через деревни, чтобы повидать всех родственников, заглядывали к родне в Кутаиси. Приехали, переночевали, и поехали дальше. Мама со всеми поддерживала теплые отношения. А первого сентября она была уже за учительским столом, я – либо с Бабой, либо за школьной партой.
Однажды, вернувшись с моря, мы пошли навестить мамину тетю. Заходим в комнату, полную антиквариата, она там сидит, вся такая белоснежная, с фарфоровым цветом лица, несмотря на свои преклонные годы. На ее кожу никогда в жизни не упал ни один луч солнца. А мы с мамой черные как уголь. Тетя, глядя на маму, с сожалением произнесла: «Ламарочка, ты же похожа на крестьянку, ты позоришь нашу семью». Я не понял, почему мама похожа на крестьянку, вроде прилично одета. Когда вышли, спрашиваю: «Мама, а почему ты похожа на крестьянку?» – «Никочка, она считает, что загорать неприлично. Она сумасшедшая, она уже старенькая, не понимает, что это полезно для кожи».
А тетка эта выходила на улицу только утром до полудня и обязательно с кружевным зонтом, в перчатках кружевных и шляпе, чтобы все было закрыто! У грузин есть такое выражение: «папанебас сицхе» – «в воздухе марево стоит от жары». Мама все удивлялась: «Как такое возможно?»
8
Мама была противником телевидения, у нас в доме вообще не было телевизора, пока я не пошел в школу. Я телевизор ходил смотреть к соседям – «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!». Маленький стульчик у меня был, я со стульчиком приходил, садился. Исключение «по репертуару» делалось только в том случае, если няня хотела посмотреть что-то типа «Следствие ведут знатоки» или «Тени исчезают в полдень».
Я сидел со взрослыми и слушал, как няня ругала героинь, то и дело раздавалось: «Б… какая!» В кино с ней было безумно смешно ходить. Можно представить, какие комментарии она выдавала на индийских фильмах!..
А с мамой я с самого детства ходил на фильмы Пазолини, Висконти, Феллини и все такое, высокоинтеллектуальное. Суббота-воскресенье считались «мамиными днями». А значит, меня вели или в Консерваторию, или в драмтеатр, кукольный театр, на балет, оперу, планировались посещение музея и «умные разговоры». И если мы с мамой шли в гости, то к очень приличным людям, где все мужчины были в костюмах, а женщины нарядно одеты. И разговоры велись исключительно о высоком. Поскольку в «высоком» я ничего не понимал, то должен был сидеть тихо в углу и молчать.
За столом я умел себя вести, пользовался ножом и вилкой, знал, что такое нож для рыбы и так далее. Если мама находилась дома, мы ели только за белой скатертью. Если мамы не было, мы с Бабой ели «по-хохляцки». Это значит, можно намазать на хлеб много масла, положить варенье, налить чай в блюдечко и вот так сидеть, кусать и пить. И когда однажды мама неожиданно вернулась домой, увидела меня за этим занятием, крик стоял такой, что летали няня, я и все остальное.
Мне было три года, когда мама первый раз повела меня в театр – на «Травиату», утренний спектакль. Я застал времена, когда в Тбилиси женщины приходили в театр в перчатках, в шляпках, в вуалетках, с веерами в руках. «Никочка, – сказала мама, – там, в театре, не будет слов, артисты петь будут на итальянском языке, но ты все поймешь». Когда я пришел работать в Большой театр, а это был 1992 год, все оперы там шли еще на русском языке, а в Тбилиси моего детства Верди пели на итальянском, и пели потрясающе. Страна-то поющая.
Хорошо помню, как мы ехали в оперный театр на троллейбусе и как мама подробно рассказывала про Дюма-младшего и его историю, что он влюбился в девушку, но папа не разрешал им быть вместе. Когда я последний раз был в Тбилиси, ехал мимо тех же домов, у меня в ушах звучал мамин голос и ее рассказ…
Правда, мама тогда умолчала, что Виолетта являлась девушкой с «низкой социальной ответственностью». Она просто сказала, что Виолетта влюблена. Я только через много лет понял, что она любила многих… А что до подробностей, я узнал их, когда мне было лет шестнадцать.
Еще мама сказала, что в конце оперы Виолетта умирает от чахотки. Но когда в финальной сцене я увидел эту Виолетту, лежащую на кушетке, я возмутился и громко на весь зал заявил: «Мама, она не похожа на умирающую!»
И все же «Травиата» мне безумно понравилась. Няню я «Травиатой» просто замучил. Не выдержав, в какой-то момент она мне ответила: «Да паскуда она была, эта твоя Виолетта!» Я не понял, почему Виолетта была паскудой, мне было ее так жалко. Я говорю: «Бабуля, ты понимаешь, он ей деньги бросил в лицо!»
Я не понял, почему Альфред бросил Виолетте деньги, и этот факт не давал мне покоя. Тогда я спросил об этом маму и задал новый вопрос, который заставил ее сильно задуматься: «А почему Альфред бросил Виолетте деньги вместо того, чтобы самому ей что-то хорошее купить?» Не помню ее ответа.
Мама меня никогда не обманывала. Например, она не говорила, что нашла меня в капусте, или про аиста. Она честно сказала, что я родился. Я констатировал: «Хорошо». В какой-то момент залез в книжный шкаф, нашел медицинскую энциклопедию, открыл букву «р», где во всех деталях, благодаря десяткам фотографий, посмотрел, что такое роды. Теперь меня мучил новый вопрос – откуда достают ребенка? На себе я такого места не нашел: ну, пупок же не может так раздвинуться… Я и спросил. Мама посмотрела на няню: «Фаина Антоновна, это что?» – «А я виновата? Это вы поставили такие книги внизу!»
9
Как я уже говорил, у дедушки была огромная библиотека. Мама без книг вообще жить не могла: если у нее появлялась свободная минута, она читала. Про классическую литературу даже говорить не буду. Мама была одной из первых в Тбилиси, кто читал все новинки самиздатовской, диссидентской литературы. Ей все время кто-нибудь приносил какие-то рукописи, кому-то она что-то отдавала, потом кто-то ей что-то отдавал…
Но при этом ее любимой книгой был «Театр» Моэма. Если она хотела срочно отвлечься, сразу открывала роман, и ей, видимо, становилось очень хорошо. Где бы мама ни находилась, именно эта книга всегда лежала около ее кровати.
Мама была большой поклонницей Владимира Высоцкого. Она и меня хотела к этому увлечению приобщить. Я даже был на последнем концерте Высоцкого в Тбилиси – в октябре 1979 года, а летом 1980-го его не стало. Сказала, что мы на балет идем, а сама привела меня во Дворец спорта. Когда я увидел, что нет кулис, на сцене стоят два микрофона и стул (я знал, что во Дворце спорта балет не танцуют), заподозрив неладное, я спросил: «Какой балет будет?» Мама заюлила: «Ну, сейчас дяденька попоет, потом балет будет». Это был редчайший случай, когда мама сказала неправду.
А я бардовскую песню терпеть не мог, дома с утра до вечера: Александр Галич, Юрий Визбор, вся эта компания, люди с плохими голосами. Окуджава? Ну, у Булата Окуджавы хоть музыка красивая. Они же еще те певцы, а я на классической опере воспитывался! Мама-то наслаждалась смыслом – а мне что, ребенку? Я Пугачеву любил, «Abba», «Boney M»…
Как же я мучился на том концерте, еле высидел. Все время просился уйти, мама шипела: «Сиди, я тебе сказала!» Только два произведения Высоцкого нашли отклик в моей детской душе – это «Песенка про жирафа» и «Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!». Теперь-то я понимаю, почему мама повсюду меня таскала, буквально впихивала в меня все, что только было можно. Хотела, чтобы я видел все своими глазами. Благодаря этому у меня есть воспоминания о концерте Высоцкого – кто из моего поколения может таким похвастаться?
Но однажды мама чуть не стала жертвой своего метода воспитания. По-моему, в 1979 году мы отдыхали где-то около Севастополя и поехали посмотреть город. Там в Комсомольском парке стояло «Дерево сказок» с «котом ученым», с цепью, с русалкой, которая «на ветвях сидела». В эти дни Севастополь, готовившийся к приезду Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, весь был заклеен его фотографиями. Это я хорошо помню, продолжение истории знаю со слов мамы.
Брежнева должны были привезти в этот парк пообщаться с народом. А мы пришли туда утром, чтобы не попасть в самое пекло. Но люди в штатском уже заняли свои позиции, была готова и трибуна с микрофонами, с которой генсеку предстояло произнести речь.
Гуляли мы с мамой, гуляли, туда-сюда, и вдруг я исчез. Она бросилась искать ребенка и видит, что перед трибуной собралась толпа. Перед микрофоном стою я и, показывая на большой портрет Брежнева, размещенный тут же, говорю: «А вы знаете, кто это?» Люди, вероятно пришедшие туда по спискам от разных организаций, оживились, и кто-то в толпе задорно крикнул: «Нет!»
«Это дедушка Брежнев», – важно заявил я и сделал, как заправский актер, многозначительную паузу. Мама схватилась за сердце, понимая, что, если я сейчас расскажу анекдот, хотя бы один из тех, что слышал дома, мы поедем отдыхать… на Север. Она рассказывала, что, пока я, веселый пятилетний ребенок в шортиках, держал эту паузу, у нее вся будущая жизнь пронеслась перед глазами: чемоданчик с вещами первой необходимости, сухари, рельсы и стук колес…
«Он хороший человек, он хочет мира во всем мире!» – радостно выдохнул я. Народ дружно зааплодировал, кто-то взял меня на ручки, кто-то дал конфетку, кто-то сунул в руки воздушный шарик. Когда я наконец попал в мамины объятия, она больно схватила меня за руку и бросилась бежать. Потом завела за кусты и от души надавала мне по заднице. Когда страсти поутихли, и мама пришла в себя, мне была прочитана лекция «как воспитанный ребенок должен вести себя в общественном месте».
10
Мама – физик по образованию, окончила МГУ, всю жизнь преподавала. Она великолепно играла в шахматы и в нарды, всегда всех обыгрывала. Обычно я слышал такой диалог: «Ламара, давай сыграем?» – «Нет, сейчас опять проиграете, будете со мной ругаться». – «Не-е-ет, умоляем, давай сыграем!» Мама садилась к доске и выигрывала, потом поворачивалась ко мне: «Они все время мечтают у меня выиграть, но не с тем связались!»
При всем своем аналитическом уме и математическом таланте, мама никогда ничего не могла продать, ей было легче подарить. Но на рынке как она торговалась!!! Я стоял неподалеку и повторял: «Я с тобой не знаком… Тебя сейчас побьют…» Например, продавец называет цену в двадцать копеек. Она в ответ: «Ты обалдел? Пять копеек». – «Женщина, двадцать копеек!» – «Пять копеек!» В итоге мама брала за три копейки. Бедный дядька уже готов был ей все подарить, лишь бы мама ушла.
У нас была соседка, та самая, которая оказалась моей родной теткой по папе, так они с мамой соревновались – кто меньше денег потратит на рынке и больше купит. Мама всегда выигрывала.
Второй момент, касающийся денег: мама никогда не платила в общественном транспорте, никогда. Это был ее своеобразный акт мести советской власти. У нее в кошельке всегда лежали старые билетики: троллейбусный и автобусный. Один из них она с важным видом предъявляла, когда в транспорте появлялся контролер. Я ей говорил: «Тебя арестуют. Ты понимаешь, что тебя арестуют?» – «Я упаду в обморок», – невозмутимо отвечала она. «Тебе жалко пять копеек? Ты идешь по улице, всем нищим раздаешь деньги. Ты же можешь купить билет…» И слышал в ответ: «Никочка, это государство меня так поимело, что я его тоже хочу поиметь!» В этом плане ее было не переубедить. Когда ввели бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров, мама была страшно расстроена.
Если же дело касалось каких-то житейских проблем, мама не любила вести долгий диалог. Она сразу выясняла: «Сколько?» В смысле сколько надо дать денег, чтобы что-то получить.
Приехали мы как-то в Ленинград, стоит очередь в Исаакиевский собор – вокруг собора оборачивается четыре раза. Мама подошла сразу ко входу, привычно достала из сумочки три рубля – и мы – в Исаакиевском соборе. Около Эрмитажа я запаниковал: «Я тебя умоляю, нас побьют!» Мне семь с половиной лет. Эту очередь, длиною в жизнь, я никогда не забуду. Мы зашли… через две минуты. Мама снова достала три рубля, и контролерша нас пропустила как родных.
11
Умевшая «устраиваться» в жизни, в быту мама часто давала слабину. Возможно, потому, что ей это было неинтересно. Как-то прихожу из училища домой, мама лежит и читает, на столе стоит немытая чашка. «Мам, ну что, трудно чашку помыть? – возмутился я. «Никочка, скоро придет Нателочка и все уберет!» – «Зачем кого-то ждать, – не унимался я, привыкший, чтобы все стояло на своих местах, – разве сложно встать и помыть за собой чашку?!» «Господи! – воскликнула мама. – Никогда не жила со свекровью так родила ее!»
Она была почти беспомощна на кухне. В моем детстве могла приготовить только три блюда: лобио, сациви, пхали. Больше ничего! Если мама бралась жарить картошку – сгорала сковородка; если не дай бог она решала что-то запечь или испечь – горело на кухне все; в общем, нельзя ее было на кухню пускать.
Поэтому меня мама научила делать все по хозяйству! Я умею: готовить, стругать, класть электропроводку, забивать гвозди, чинить кран и остальное… Но когда меня спрашивают: «Ты хочешь это сделать?» – я всегда честно отвечаю: «Нет!» Я обязательно найду способ, чтобы это сделал за меня кто-нибудь другой.
Вспоминаю такой случай. Как-то я прибежал домой со двора страшно расстроенный. Соседские мальчишки дразнили меня за ровные ноги. Мама лежала и читала. Я ей: «Мама, почему у меня ровные ноги?» Мама медленно опустила книгу, посмотрела на меня со значением, приподнялась и важно сказала: «Никочка, наши предки очень давно пересели с лошади на фаэтон».
И вот теперь, когда меня кто-то спрашивает: «Почему ты не хочешь это делать?» – я отвечаю, что мои предки очень давно пересели с лошади на фаэтон.
Даже когда у нас с мамой в Москве, в 1990-е годы, не хватало денег ни на что, она умудрялась найти их на домработницу и маникюр. И еще – косметичка приходила к ней на дом раз в неделю!
Чтобы про эту женщину все было понятно, я намного забегу вперед и расскажу, как она уходила из жизни. В Москве мама лежала в больнице. Пришла она туда в середине января, а умерла 7 марта. Я ее видел последний раз 6 марта. И когда я приехал в морг, я должен был засвидетельствовать, что у нее во рту есть одна золотая коронка. В общем, меня туда завели, естественно, я ничего не видел, зажмурился, все подписал.
Но я заметил, что у мамы на ногтях свежий лак. Я тогда сказал ее подруге: «Тетя Лиля, лак? Как? Какой сервис в морге – сделали даже маникюр!» А она говорит: «Никочка, это Ламара позавчера дала взятку девочкам в реанимации. Сказала: „На днях я умру, я не могу лежать в гробу без маникюра и педикюра“». Мама вызвала свою маникюршу, и та ей всё сделала! Вот такая была эта женщина.
12
До пяти лет я в основном говорил по-русски, но мог и по-украински, и на армянском. Дома все говорили на русском языке. Грузинский я понимал, но делал вид, что не понимаю. Потому что, когда родня хотела от меня что-то скрыть, переходила на грузинский язык.
Дедушка со мной пытался говорить по-грузински, читал мне на грузинском сказки, но я сопротивлялся. Мне было пять с чем-то лет, когда кинорежиссер Тенгиз Абуладзе, наш дальний родственник, собрался снимать свой фильм «Покаяние». А младшая сестра Тенгиза – тетя Дали – преподавала русский язык и литературу в той же школе, что и мама. Они были закадычные подруги. И так как мама была уверена в своем уходе из жизни раньше, чем я стану взрослым, она оформила доверенность на опекунство надо мной на тетю Дали.
Кто-то из окружения Абуладзе меня увидел и сказал Тенгизу, что я очень похож на взрослого артиста, которого хотели сделать главным героем фильма. Мне предстояло сыграть его в детстве. Загвоздка заключалась лишь в одном: я не говорил на грузинском языке.
Маме дали сценарий, там несколько фраз, которые я должен был произносить на грузинском – без всякого акцента, естественно. Меня отвезли в деревню и всем, кто находился рядом со мной, запретили говорить по-русски. Я-то на грузинском заговорил, но и все соседские дети заговорили на русском!
Тут взрослые меня раскололи: поняли, что грузинский язык я все-таки знаю и раньше знал. И мой фокус с тем, чтобы втихаря что-то узнать про родню, больше «не работал».
Пока я «изучал» в деревне грузинский язык, Абуладзе переписал сценарий. История разоблачения шла теперь от лица внука, который из ребенка превратился в юношу и выяснял, кем на самом деле был его дед. По новому сценарию главному герою было лет шестнадцать. А мне-то всего пять! Получилось, в фильме я уже не нужен. Но толк от этой истории все равно был: я стал свободно говорить по-грузински. И в мой обширный «концертный репертуар» вошли грузинские стихи.
В кино я не попал, но это обстоятельство не изменило моего желания выступать везде и всюду. Я должен был петь, танцевать, декламировать, разыгрывать какие-то сценки. Мне очень нравились концерты, которые показывали по телевидению на Новый год и 10 ноября, в День милиции. В них кто только не участвовал! Я тоже не отставал, устраивая свои концерты, на дому.
Я вплывал в комнату через дверной проем Людмилой Зыкиной, а потом выходил уже Муслимом Магомаевым, появлялся снова Аллой Пугачевой, а затем вылетал уже Майей Плисецкой. Иногда я успевал что-то переодеть, иногда просто использовал какой-то платок, веер, цветок. Главное, я менял амплуа и жанр!
Естественно, все зрители, а это могли быть родные, соседи, знакомые и даже совсем незнакомые люди, глядя на меня, покатывались со смеху.
А в Грузии еще отдельно праздновали и свой День милиции: там тоже концерт. Я и его исполнял как положено, показывая всех участников по очереди.
Я не только актерствовал, но и сам ставил спектакли. Все, что видел в театре – допустим, «Иоланту» или «Травиату», – я должен был разыграть дома. Сам делал кукол из ниток, из тряпочек – из всего, что попадалось под руки…
Один раз я для своих декораций использовал занавеску из ванной – вырезал оттуда очень красивые цветы. Чтоб было понятно, занавеска немецкая, купленная по блату, дорогущая. Няня на кухне в тот момент что-то делала и не видела моего творчества. Мама вернулась домой и сразу углядела в занавеске огромные дыры вместо цветов. Ой, мне досталось… Я обратно все эти цветы вшил, вернул «флору» на место.
13
К слову, руки у меня к вышивке и шитью очень пригодные. Я смотрел на няню, она часто вышивала в свободное время, и учился. Вся одежда, которую я носил, если это было не привезено из Москвы, какие-нибудь модные костюмчики и рубашечки, была связана Бабой. Она вязала крючком все – вплоть до пальто. И делала это с невероятной скоростью и ловкостью. Утром перед тобой свитер, а вечером уже две кацавейки из него. Обычно как делают? Сначала распускают вещь, мотают нитку в клубочек, потом из него вяжут. А она, распуская старую вещь, вязала новую.
Но вязать я не научился – нет. Баба говорила, что я скупой. В смысле у меня характер скупого человека, потому что нитка не тянется. Зато я научился отлично вышивать. У няни в комнате стояли огромные пяльцы, она могла смотреть на какую-нибудь картину в книге и тут же вышивать ее, без всякой подготовительной разметки. У нас был огромный мешок с нитками: старинные мулине, не знаю откуда. Старинные мулине с этикетками допотопными – чуть ли не со времен царя Гороха.
Сначала я вышивал цветы на носовых платках, они были в моде. И я что-то такое вышил для мамы. Она очень рассердилась, считая, что мальчик должен строгать, пилить и все такое прочее. Мне тут же покупали набор для выжигания или «Юный конструктор». Но все, что имело надпись «Сделай сам!», я собирал с такой скоростью, что меня это больше чем один раз не интересовало. Слишком простое задание. Мне же, наоборот, хотелось что-нибудь необычное сделать, какую-нибудь корону смастерить. Я любил все, что связано с творчеством. Няня моя несчастная мучилась из-за этого. Не было ей со мной никакого покоя!
У меня было много пластинок со сказками, но в какой-то момент я стал покупать оперы и балеты. Стоили эти пластинки дорого, рублей по пять. Но денежка на них у меня имелась, ее часто дарили родственники.
С утра я включал проигрыватель, и начиналось нянино мучение, длившееся до самой ночи. Я вешал на дверь одеяло, типа декорации, залезал сзади на табуретку, поднимал вверх своих кукол – и начинался мой театр! Все было по-настоящему: звучала музыка Верди, Виолетта пела, а я с помощью кукол изображал сюжет.
Моей любимой постановкой являлась опера «Аида», потому что там надо долго показывать марш, у меня на такой случай были приготовлены слоны и верблюды. Няня не выдерживала: «Никочка, а можно сократить второй акт? У меня на кухне подгорает!» Но меня такими вещами не проймешь: «Бабуля, осталось недолго на часах». На самом деле мама и Баба святые были. Им пришлось столько всего из моего раннего творчества пересмотреть!
14
Мой первый выход в театр, который я помню, состоялся в возрасте 3 лет. Сначала мама сводила меня в грузинский кукольный театр, потом в русский кукольный театр, потом в знаменитый Театр марионеток. С тех пор я этот жанр просто обожаю.
Затем меня начали мучить консерваторией. А мне скучно, потому что никакого действия нет, театра нет, еще и свет в зрительном зале зажжен. Тогда мама сводила меня на «Травиату». Но главное, вскоре я посмотрел «Жизель». Мне исполнилось три с половиной года. С этого дня балет стал № 1 в моей жизни.
Шел утренний спектакль, танцевал чудный состав: Виктория Лаперашвили – Жизель, Мирта – Лиана Бахтадзе. Уже премьером Большого театра, приехав в Тбилиси, я встретил этих балерин: «Вы погубили мою жизнь! Вы так, бессовестные, хорошо танцевали, что заставили меня влюбиться в балет! Был бы я юристом – горя бы не знал!»
А когда я оказался на «Лебедином озере»… У нас шла ленинградская версия балета в 4 актах. На III акте мама, видимо, стала проклинать тот день, когда решила меня на балет привести. «Никочка, – сказала она вкрадчиво, – только что объявили, что у балерины болит нога, четвертого акта не будет». Я говорю: «Я не уйду». – «Ну ты же видел: Лебедь билась в окно, уже закончился балет». Я не сдаюсь: «Нет, еще будет озеро, Принцу должно быть плохо и стыдно». Из театра я не ушел.
В балете мне нравились все спектакли, без исключения. А в опере в приоритете был Верди: «Риголетто», «Аида», «Травиата», «Трубадур»; «Иоланта» Чайковского и, естественно, грузинские оперы «Латавра», «Даиси». Особенно я любил «Кэто и Коте» Долидзе.
Помню, с «Трубадура» измученная моей любовью к театру мама тоже меня хотела вывести – я кричал: «Нет, ее еще не сожгли!»
Я бесповоротно влюбился в Театр. Мне было все равно что смотреть, лишь бы там быть. Я когда увидел роскошную люстру в зрительном зале Тбилисского театра оперы и балета имени З. Палиашвили, лестницу, фойе с витражными окнами, узорчатые потолки, понял, что бесповоротно погиб!
На самом деле – что мне, ребенку, так понравилось в театре оперы и балета? Отвечаю: «обстановочка»! Вот оно – мое: шикарная лестница, много золота, хрусталя, большие пространства. После роскоши нашего тбилисского театра интерьеры Большого театра на меня в первый раз не произвели особого впечатления, не хватило помпезности, что ли. Это как в том анекдоте из 1990-х, когда «нового русского» спрашивают, мол, как ему Эрмитаж? А он отвечает: «Чистенько, но скромненько».
15
Мое детство прошло в Тбилиси. О том времени, времени Советского Союза, у меня какие-то радужные воспоминания остались, быть может, потому, что между людьми все очень по-доброму было.
В Грузии не притесняли никого, никогда. Там чтили все религии и национальности. Я помню праздники моего детства, когда люди надевали свою национальную одежду, готовили свои национальные блюда, ходили друг к другу в гости.
В 1980-е годы, когда в Советском Союзе прошла последняя перепись населения, в Тбилиси проживало всего тридцать процентов грузин, все остальные: евреи, армяне, русские, украинцы, немцы, французы, очень много азербайджанцев. Большинство жили по своим районам.
Что было в Тбилиси прекрасно – праздник там не заканчивался никогда. Если у евреев Ханука, мы идем в еврейский квартал, где у мамы много подруг, там безумно вкусно готовили. Потом европейское Рождество, потом наш Новый год, потом православное Рождество: стол – не стол, а скатерть-самобранка! Потом Сурб-Саркис, армянский праздник – День влюбленных, – мы идем к армянским родственникам. Когда завершался Рамадан, мы шли к азербайджанским знакомым, а там вообще все очень вкусно. И это продолжалось круглый год, ко всеобщему удовольствию.
Еще в Тбилиси жили езиды. У них собственная вера, не ислам и не христианство. Семья езидов жила прямо под квартирой няни, этажом ниже. Четыре девочки и один мальчик, Кемаль. Когда их папа умер, боже, какие были похороны шикарные! Как женщины рыдали, как гроб несли… На меня эта картина произвела большое впечатление.
Курдов в Тбилиси жило очень много. Колоритный народ. У женщин много юбок надевалось, все разноцветные. И чем больше юбок, тем больше достаток у этой женщины, значит, все у нее хорошо. Если курд собирался жениться, невесту полагалось выкупать, надо было много денег иметь. И все люди вокруг знали, что, например, одну невесту «продали» за 7000 рублей, а другую – за 5300 рублей.
Во дворе дедушкиного дома жила семья курдов с прыщавой, страшной дочкой. Ее отец говорил моему дедушке: «Пришло время, я ее за семь тысяч рублей не продам – за девять!» На что мой дед сокрушенно вздыхал: «Господи, у моей дочери два высших образования, аспирантура! Я бы сам приплатил эти деньги, но ее никто не берет!» А у той, курдянской девчонки, трех классов школы нет, ничего не знает вообще. «Нет, семь тысяч рублей не возьму, нет, семь тысяч рублей мало!» – продолжал сосед.
Еще курды в Тбилиси работали дворниками. Город находился в идеальном состоянии, чистейший. Но однажды, прямо в одну ночь, курды из города ушли. Жители поняли это утром, потому что улицы оказались завалены мусором. Советский Союз распался – у курдов появилась возможность вернуться на свою историческую родину, и они ушли в Турцию.
На самом деле с уборкой у курдов было не просто так. Они «держали» этот бизнес. Кроме них, город не убирал никто. Практически в каждом дворе обязательно жила семья курдов, которая там заправляла.
16
Жизнь в городе была настолько спокойная, что двери квартир не запирались вообще. Ключами практически никто не пользовался, если только ты не уходишь надолго или не уезжаешь. К соседям никогда не стучались. Мы просто открывали дверь и говорили: «Я пришел!» Когда я приехал в Москву, никак не понимал, что за дикие люди тут живут?! Если мне на уроке нужен ластик, я просто поворачивался и брал у кого-то ластик. Что тут такого? Потом, если у кого-то в Грузии был день рождения, вся школа праздновала. А не так, что: «Ты, Маша, приходи, а ты, Вася, не приходи».
Я же застал Тбилиси, когда на каждой двери писали, кто за этой дверью живет: профессор такой-то, академик такой-то, зубной врач такой-то. А в Москву мы приехали, здесь ничего подобного не было. И я все время удивлялся, почему не написано, кто живет?
С пяти лет я ходил по городу один, на большие расстояния ездил. Никто не волновался. У меня всегда денежки в кармане – сел и поехал, куда хотел. Я ездил от няни к маме и наоборот. Путь неблизкий: сначала на троллейбусе или автобусе, потом в метро с двумя пересадками, а потом еще пешочком шел. Няня жила в русской части города, индустриальной – там, где заводы. Мы-то жили совсем в другой.
Я абсолютно спокойно мог подойти на улице к любому человеку и сказать: «Тетя, здравствуйте, я заблудился, вы не можете мне помочь дойти туда-то?» Меня бы за ручку отвели! Помню, как я в пять лет на самолете летел из Тбилиси в Москву. Мама в очереди, где мы сдавали багаж, с кем-то договорилась, чтобы за мной присмотрели, и все.
Чемодан, который обычно ехал со мной в Москву, всегда превышал мой собственный вес: он был просто набит продуктами! Из Грузии обычно везли приправы – хмели-сунели, суджук, бастурму, зелень, сыр – то, чего не было в Москве. Хлеб я очень часто в руках вез, настоящий лаваш – шоти, целую сумку. Фрукты, вино. Боже, сколько вина в канистрах я перетаскал, будучи ребенком…
А из Москвы мы везли колбасу, особенно я любил венгерскую колбасу с перцем. До сих пор ее покупаю, когда бываю во Франции, в магазине «Hediard». И всегда везли сливочное масло: в Грузии сливочного масла в те годы не было, его выдавали, как и сахар, по талонам.
17
Я полюбил Москву сразу. Мне тогда исполнилось годика три, наверное. Приехали с мамой на зимние каникулы к ее единокровной сестре по отцу тете Зине. Мама, хоть и училась в МГУ, никогда не хотела в Москве жить, а я – наоборот. Однажды я услышал разговор. Мама вспоминала лето 1973 года, когда была беременна. По телевизору впервые показывали сериал «Семнадцать мгновений весны», в Подмосковье горел торф, и вся Москва стояла в дыму. Мама говорила: «Не переношу этот фильм, потому что, когда я слышу эту музыку, сразу вспоминаю ужасный запах гари и вкус творога». Видно, родня ее творогом кормила для моей крепости. Я ее спросил: «Зачем ты поехала в Тбилиси рожать?» – «Грузин должен был родиться в Грузии», – отрезала она. На что тетя Зина и говорит: «Я ей твердила то же самое: рожай в Москве, что ты едешь в Тбилиси?» Да, тогда мама меня не спросила, но я все равно вернулся туда, куда хотел…
В Москве я ходил на все елки, в музеи. Третьяковская галерея с утра до вечера, консерватория, «Рождественские встречи». Я не сопротивлялся, мне нравилось. Единственное, мама меня в Большой театр долго не водила. Мы ходили в Кремлевский дворец съездов, туда было легче достать билеты. Но настал день, когда я, десятилетний, в Большой театр все-таки попал. Я вошел туда и сказал себе: «Всё. Стоп, теперь я еду сюда!» Я сказал – и я сделал.
18
Мама, чтобы мы жили ни в чем не нуждаясь, все время работала, давала частные уроки, готовила к поступлению в вузы, и на физмат в том числе. Как педагог она обладала феноменальным терпением, могла в миллиардный раз объяснить одно и то же, не повышая голоса. В отличие от меня, у которого сразу летит стул и я – вслед за стулом. Даже двоечники, у нее занимаясь, сдавали на «5» ее предмет. Она даже «дерево» могла научить! Частные уроки обычно проходили на кухне нашей однокомнатной тбилисской квартиры.
Про курдов я уже рассказывал. Так вот: однажды у мамы появился новый ученик – курдянский мальчик. Его папа – какой-то очень богатый человек – хотел, чтобы сын поступил в престижный институт. А мальчик – абсолютное «дерево». Когда он с мамой занимался, я не мог сдерживаться, выбегал из комнаты и кричал: «Это закон Ома!»
Мама своего ученика очень жалела, время от времени пыталась его папе объяснить, что не надо мучить ребенка, он не может. На что неизменно получала ответ: «Я хочу, чтобы мой ребенок получил образование!» Няня этого мальчика тоже жалела. Он приходил, Баба его сразу кормила. А отец привозил его на урок и сидел в машине, сторожил. В итоге курдянский мальчик успешно сдал экзамен. Его отец принес маме какие-то дорогие подарки: «Мой сын вас очень полюбил, поэтому учился».
Хотя курды в то время как представители малых народов имели квоту при поступлении в учебные заведения. Они часто вообще отказывались учиться, даже школу не заканчивали. Просто в какой-то момент переставали туда ходить, их не могли заставить. Даже если их пригоняли силой, они сидели на уроках специально не отвечая. Их с такой «учебой» даже не могли перевести в следующий класс. А девочек, по-моему, после третьего класса родители вообще не пускали в школу.
19
Мама увлеклась театром в юности, когда вернулась в Тбилиси, в 1943 году. Она училась в средних классах женской школы. Тогда женские и мужские школы отдельно существовали. И только в последний год у них был общий класс с мальчиками. В районе проспекта Плеханова, где жили дедушка и мама, находились Театр имени К. Марджанишвили, грузинский Театр юного зрителя и русский Театр юного зрителя. Теперь улица отреставрирована, стала очень красивой и называется проспект Давида Строителя, в честь царя Грузии, Давида IV.
Так вот, тогда в русском ТЮЗе служил молодой начинающий актер Евгений Лебедев, впоследствии звезда ленинградского БДТ, друг и родственник тбилисца по рождению Георгия Товстоногова, который в это время уже ставил в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. Грибоедова.
Буквально через четыре дома от русского ТЮЗа стоит роскошный особняк, по-моему прежде принадлежавший богатому армянскому купцу. Это был Дворец железнодорожников, в котором Лебедев для приработка вел театральный кружок. И весь мамин класс – девицы – были в него влюблены, ходили на все его спектакли и, конечно, записались в этот кружок.
Мама мне рассказывала про все спектакли Лебедева, и особенно смешно про Бабу-ягу. Это была его самая знаменитая роль тогда. Слава богу, советское телевидение успело Лебедева в этой роли заснять!
Однажды я спросил маму: «А что вы ставили в этом кружке?» – «Мы играли „Ромео и Джульетту“», – важно сказала она. «Боже, а ты кем была?» – «Я была леди Капулетти». И она начала читать: «Тибальт! Тибальт! Дитя родного брата! О сын! О князь! О страшная утрата!..» Я знаю наизусть этот монолог, потому что мама часто его декламировала.
Хочу еще сказать, что мама обладала отличной памятью. Когда в школьные годы я зубрил, проклиная все на свете, «Песню о буревестнике» Горького, мама прочла мне ее наизусть от начала до конца, без запинки.
В 1986 году в школе, где работала мама и где начинал учиться я, закрыли русский сектор, то есть преподавание на русском языке. Маме пришлось срочно переучивать всю программу на грузинском, ей до пенсии оставалось два года или полтора. Она стала вести уроки на грузинском языке, наизусть заучивала эти учебники, потому что специальные люди – «проверяющие» – по классам ходили. Естественно, мама великолепно говорила на грузинском, но термины в физике – дело, конечно, специфическое.
Вернусь к театральному кружку Лебедева. Актрисами никто из этих девочек, его учениц, не стал, но театр они полюбили пламенно и дружили всю жизнь. Когда у Лебедева случались премьера или юбилей, они летели в Ленинград-Петербург. Если БДТ приезжал в Тбилиси, а театр часто тогда гастролировал, мамины подруги покупали билеты на все спектакли. Благодаря чему я видел «Историю лошади», «Хануму», «Энергичные люди», и не один раз.
Встречи «девочек» с Лебедевым после спектакля в Тбилиси или Ленинграде, куда меня тоже тащили, я наблюдал из угла, в котором мама меня оставляла. Они окружали его, и каждую он узнавал. Каждая рассказывала, сколько у нее детей, внуков и так далее. Он так их любил, этих девочек! Ну, «тетенек» уже тогда, конечно. В них он видел свою молодость.
Я помню какой-то разговор маминых подруг о том, что никто из них никогда не мечтал стать профессиональной актрисой. Если я сегодня встречаю кого-то, кто не хотел бы стать актрисой или балериной, то очень уважительно отношусь к этому человеку. Потому что актер – не профессия. Это диагноз на самом деле.
Меня в детстве очень интересовало, как так – мама занималась с Лебедевым и не захотела быть актрисой? Я тут же получил совершенно откровенный, в мамином духе, ответ: «Никочка! Ты что?! У всех наших отцов было одно мнение: артистки – это проститутки. Потому что у всех наших отцов были любовницы – артистки!»
Был у этих «девушек» еще один кумир – гениальный пианист Святослав Рихтер. Они постоянно летали и на его концерты. И не только на Рихтера… Есть в архиве советского телевидения запись 1986 года с концерта другого гения – Владимира Горовца. Среди зрителей в зале и я с мамой сижу.
Билеты нам доставала одна из маминых подруг по московской школе. Она служила главным администратором московской гостиницы «Варшава» – интуристовская гостиница, прямо за станцией метро «Октябрьская». Туда привозили дефицитные билеты в театры. Когда я уже учился в Московском хореографическом училище, мама мне дарила билеты в Большой театр, видимо, тоже «интуристовского» происхождения. Ничто меня не могло обрадовать так, как билет в Большой театр на балет «Щелкунчик». Это была самая большая радость в моей жизни. Сейчас думаю: кошмар какой, надо было деньги просить!
20
Поскольку я родился зимой, то должен был пойти в школу в 1979 году, но тогда мне исполнилось бы только 5 лет и 9 месяцев. Мама сказала: «Нет, надо нагуляться». И меня отправили в школу в 1980-м, после московской Олимпиады. Я пошел туда, где работала мама, на русский сектор средней школы № 162.
Раньше тбилисские школы имели по два сектора: русский и грузинский. Они размещались в одном здании: одна половина русская, другая – грузинская. Некоторые педагоги преподавали и на том и на другом секторе. Мама преподавала на русском. В эту школу она с тетей Дали Абуладзе перебралась из элитной школы в районе Ваке, где русский сектор «прикрыли». В то время во многих школах Тбилиси переходили на обучение только на грузинском языке.
Я пошел не в первый класс, а в класс «нулевой». Особой радости по поводу поступления в школу не испытывал. Азбуку я знал, читал на двух языках, говорил хорошо на четырех – русском, грузинском, украинском и армянском. Сейчас я армянский язык уже забыл. Но тогда говорил на нем довольно бегло, потому что отчим был армянином. Я общался с его племянниками, моими ровесниками, которые часто приходили к нам в гости. Мы разговаривали между собой, когда – на грузинском, когда – на русском, когда – на армянском, потому что все взрослые вокруг нас свободно говорили на этих языках. Вместо того чтобы учить французский и английский, я учил не то, что надо!
Умел считать я очень хорошо и без всякой школы. Мне мама объясняла задачи и примеры очень быстро с помощью уравнений. Какой-то квадратный корень я все время извлекал. И пока другие ученики делали длинные вычисления, я с помощью квадратного корня быстро получал ответ. И меня ругали за то, что уравнение у меня не на всю страницу, а в одну строчку – бац! Мне это не нравилось.
А вот театральное дело… За год до моего поступления в хореографическое училище в Тбилиси приехал на гастроли Театр кукол под руководством Сергея Образцова. Они привезли четыре спектакля. Я ходил каждый день, перезнакомился со всей труппой. Даже бегал им за пивом, лишь бы мне дали куклу в руках подержать, рассмотреть ее как следует. Если бы детей брали на работу в кукольный театр, я бы ушел туда сразу!
Видимо, я и в балет подался из-за того, что ребенком можно было легально на сцену выйти. Мне было все равно кем, лишь бы на сцену выпустили!
В первый же день в школе нас спросили: «Кем вы хотите быть?» Когда очередь дошла до меня, я почему-то ответил, что хочу быть воспитателем в детском саду. У меня реализовалось все! Теперь я действительно как ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой часто работаю «воспитателем в детском саду».
Но это не конец истории. Потом нам сказали: «Нарисуйте картинку, кто что хочет». И я нарисовал балерину. Такую полненькую, одетую в голубую пачку, с цветочками на голове. Сзади я изобразил что-то типа озера, и даже за́мок какой-то намечался. И большими буквами написал сверху: «БОЛЕТ». Теперь я могу с уверенностью сказать, что реализовалось все: и балет, и воспитатель детского сада, и боль.
Картинка очень долго у нас дома хранилась, но потом при переездах затерялась. Мама хохотала ужасно, когда ее увидела. Я помню, как стоял у нее в кабинете, а она мне говорила: «Никочка, какой позор, ты мой ребенок, как можно написать „болет“? Ты столько раз был в театре!» А я долго думал, как это слово написать. «Молоко» же через «о» пишется, я и написал. Не могло же это слово через «а» писаться! «Корова» и «молоко» через «о». Мне же говорили: «оро» и «оло». Раз там «л» стояло после «о», я подумал: ну, значит, «о»!
Со временем в школе стало как-то повеселее. В моем классе учились грузины, русские, украинцы, немцы, курды, армяне. Многонациональный класс, большой и дружный.
Вместе со мной учился Гриша Джагаров, он занимался плаванием. Я пошел с ним в бассейн. Мама уходила к 9:00 на работу, а мне в школу только к 14:00, мы во вторую смену занимались. Она и не догадывалась, что я на плавание стал ходить. Через три месяца моих тренировок к ней кто-то подошел: «Ламара Николаевна, вы знаете, надо за Нику заплатить». Она говорит: «За что заплатить?» – «Ну, он уже три месяца ходит на плавание». Она удивилась: «Как ходит на плавание?» Спрашивает меня: «Ника, а почему ты не сказал?» – «Все дети ходят туда, и я пошел». Очень самостоятельный был ребенок.
Уроки я тоже готовил самостоятельно, мама ничего не проверяла. Я знал, что, если не дай бог будет что-то не сделано, мне уши оторвут. Зачем рисковать?
Как можно быть не отличником с такой мамой? Стоило мне пошалить, ей тут же докладывали. Во время урока раздавался вежливый стук в дверь нашего класса, она открывалась – в проеме стояла моя мама. Она была крупная женщина, и фигура ее выглядела очень внушительно. Ровным голосом она обращалась к нашей учительнице: «Алла Михайловна, извините, можно Ника выйдет?» Я тихо выходил. Меня заводили в туалет и как следует поддавали. Потом я тихо возвращался в класс…
Поэтому, когда я поступил в Тбилисское хореографическое училище, я был самый счастливый человек на Земле. Мама уже не могла зайти в класс и позвать меня «на выход».
21
В школе я продолжал давать концерты, танцевал всегда и везде. Паркетные полы в то время натирали мастикой. Вся школа – коридоры, просторные вестибюли – блестели. А на мастике безумно удобно крутиться! Я крутился на ушах, на бровях, прыгал как ненормальный, пока с уроков маму ждал. У нее как педагога физики была лаборантская комната. Я там сам себе декламировал что-нибудь, а когда появлялся зритель, и сплясать мог.
Все вокруг говорили: «Ламара, отведи Нику в школу Чабукиани!» Сейчас Тбилисское хореографическое училище носит имя Вахтанга Михайловича Чабукиани, тогда оно так не называлось, но почему-то все говорили именно так. И когда я услышал слова «хореографическое училище», я их накрепко запомнил.
Я не раз просился на сцену, а мама объясняла: «На сцене выступают дети артистов. Ты же не ребенок артистов, кто тебя туда возьмет?» Она не видела мое будущее на сцене, ни в какие театральные кружки не водила. Скорее, «отводила» от этих кружков, чтобы я не знал, что они есть. Мне постоянно твердили, что все мужчины в нашей семье юристы! Какая может быть сцена, мальчик?
К моменту, когда я пошел в общеобразовательную школу, большой цветной телевизор мама все-таки купила. Правда, уходя из дома, она вынимала из него предохранитель и уносила его с собой, чтобы у меня не появилось искушения смотреть телевизор вместо домашнего задания. Но у меня на такой случай имелся собственный предохранитель, о чем мама, конечно же, не знала.
Но зато, даже когда все были дома и по телевизору показывали балет, никто уже не мог ничего другого смотреть. Я не позволял. Однажды показывали балет «Спящая красавица» с Ириной Колпаковой. У меня стояла парта раскладная, сижу за ней, делаю уроки и смотрю «Спящую красавицу». Пошли титры, читаю: «В спектакле принимают участие учащиеся Ленинградского Академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой»! Я к маме: «Вот, видишь, хореографическое училище!» А она: «Да, но это в Ленинграде, это далеко. Ты же там был, ты же видел Ленинград».
…1982 год, июль. Помню, мы сидели в «Катькином садике» – так называют сквер с памятником Екатерине Великой. Мама рассказала мне сначала про императрицу, потом очень подробно про Александринский театр, потом про балетную школу. Мы даже прошлись по улице Зодчего Росси, где эта знаменитая школа находится.
«Я тебя никуда одного не отпущу, – сказала мама. – Мы живем в Тбилиси, а в Тбилиси нет хореографического училища!» Вопрос был закрыт.
Я был очень подвижным ребенком, меня все время куда-то несло. Однажды поехал в гости к родственникам отчима, сел в троллейбус. Проезжаю какое-то здание, закрытое забором, а на заборе – огромное объявление, где красными буквами написано: «Набор в Тбилисское хореографическое училище». Светофор загорелся красным светом, троллейбус затормозил, и прямо перед глазами оказалась афиша с перечнем документов и датой вступительных экзаменов. Если б не красный свет, я бы, наверное, прожил счастливую и спокойную жизнь.
Но. Я доехал до следующей остановки, выскочил, побежал назад и заучил объявление наизусть. Пошел по указанному адресу – Плехановская улица, чтобы проверить, есть ли это училище на самом деле. Тбилисское хореографическое училище было мной обнаружено! Здание пряталось в кронах огромных старых платанов, и заметить его вход с вывеской со стороны улицы было непросто. Я пришел в замешательство, не мог представить, что мама меня обманывает. Она же не умела врать!
Дома я собрал все необходимые для поступления документы: свидетельство о рождении, фотографии. Заявление о приеме я написал за маму сам. Мне даже подпись ее не нужна была – я за нее все школьные дневники подписывал. Мне нужно было только одно: чтобы она со мной пошла за медицинской справкой, потому что мне, ребенку, ее не выдали бы.
Когда я сказал об этом маме, разразился страшный скандал. Разверзлись небеса. Крик, шум был такой! А я ей вдруг: «Тебя вообще кто спрашивает здесь? Твое мнение вообще никого не интересует. Это моя судьба, и я буду ее решать».
Мама была очень воспитанным человеком. Она не говорила громко, это только со мной было громко. Она была танком в образе кошечки: проезжая, не оставляла от оппонента следа, буквально закатывала в асфальт, но делала это всегда с доброй улыбкой и милой обходительностью. Мама всегда добивалась своего.
На ее пути мог стоять только один «заградотряд» – это дедушка. Потому что, когда дедушка появлялся в нашей квартире, мама становилась невидимой. Она ходила «по стенке», она вообще на меня не то что прикрикнуть, даже замечание мне не смела сделать. И я понимал: что-то здесь не то! Для дедушки Ника – это было всё. Он так долго ждал, когда его единственный официальный ребенок, его дочь родит… Тем более родился мальчик, и тем более – назван его именем.
Как-то дедушка сидел у нас, разговаривал с отчимом. Я как мужчина тоже сидел за столом. Мама что-то подносила, ставила на стол, уходила, но в какой-то момент вмешалась в их разговор: «Папа, мне кажется, ты неправ». В общем, вставила слово. Дед, не поворачивая к ней головы, сказал ровным голосом: «Ламара, а кто-то спрашивал твое мнение?» Мама стала тихо пятиться, и, когда дошла до двери, он, внятно произнес: «Место женщины на кухне».
И вот, через несколько лет, я, десятилетний ребенок, сказал ей, что «место женщины на кухне», что «твое мнение здесь вообще никого не волнует», что «от тебя требуется только подпись». Услышав это, она пришла в ярость. Но я не отступал: «Тебя просил кто-то меня рожать? Родила – подпиши!» И она вдруг сказала: «Хорошо. Ты хочешь по-мужски, значит, жить? Ладно. Но ответственность будет больше, чем у взрослого мужчины. Попробуй теперь сделать что-то не так!»
22
И сразу повела меня на бальные танцы.
Там мне совсем не понравилось, потому что на меня сразу накинулись все мамаши девочек, которые в этой студии занимались. Девочек много, мальчиков наперечет. Эти мамаши так меня напугали! А потом: я хотел в театр, мне нравились люстры, оркестровая яма, кресла, грим… А бальные танцы я не понимал. И хотя сам зал, в котором проходили занятия, был красивый и располагался в ротонде XIX века, я сказал: «Не-не-не-не, я туда больше не пойду».
Но мама не собиралась сдаваться. Что угодно – только не балет! И повела меня в Ансамбль народного танца Грузии под руководством Илико Сухишвили и Нины Рамишвили. Поступить в их школу было почти невозможно: конкурс сумасшедший, ансамбль имел мировую известность, много ездил за рубеж, и его ученики тоже ездили. Обучение как в хореографическом училище, только без общеобразовательной школы. Потому что и Нина, и Илья сами окончили хореографическое училище. Они были артистами Тбилисского театра. С детства дружили с Вахтангом Чабукиани, Наталией Дудинской, стажировались в Ленинграде. Где-то во время гастролей познакомились с Джорджем Баланчиным, у них сложились очень теплые отношения.
Именно Сухишвили и Рамишвили все танцы грузинские пересочинили и систематизировали. До них танцевали, как хотели. Именно они создали знаменитый грузинский танец «Лезгинка». Сами лезги, то есть дагестанцы, к этой пляске вообще никакого отношения не имели, у них такого танца и в помине не было. Никто до Сухишвили – Рамишвили этими вещами в Грузии не занимался. Канонические национальные костюмы разных народностей Грузии специально для ансамбля создали художники Сулико Вирсаладзе и Пётр Лапиашвили.
Но вернусь к моменту, когда мама привела меня на прием в ансамбль. В очереди отстояли, завели меня в зал. Ноги-то у меня красивые, фигура не похожая на остальных детей, стоящих рядом. И когда комиссия меня увидела, рассматривали пристально очень. Тут я «подъем» и вытянул. Все – ах! Лучше, чем у девочек. Стали со мной разговаривать по-грузински. Я ответил на русском, чем сильно их удивил, вид-то у меня чернявый. Кто-то попросил повторить показанное движение. А я говорю: «Не хочу грузинскими танцами заниматься». – «А чем ты хочешь заниматься?» – «Я хочу заниматься балетом, но мама меня привела к вам». Они говорят: «Есть же хореографическое училище, надо сказать маме, чтобы она тебя повела туда». – «Моя мама говорит, что в балете все мужчины – не мужчины, и привела сюда», – пояснил я без всякого смущения. Вместо «не мужчины» я использовал другое слово, которое произносила мама, но его значения я тогда, конечно, не понимал. Я просто не знал такого слова.
Комиссия умерла! Люди рыдали от смеха, в голос рыдали! Нина Рамишвили говорит: «Позовите, позовите маму!» Меня вывели, а маму завели. Когда мама оттуда вышла, мне очередной раз наподдали. Я тогда не понял, за что.
Оказалось, маме сказали: «Отведите его в балет», во-первых. Во-вторых, ей сказали, что не все мужчины в балете «не мужчины». В-третьих, стали ей объяснять, что у меня феноменальные ноги, абсолютный слух и редкое чувство ритма.
«Мы-то вашего ребенка возьмем, – сказала Нина, – но он ОТТУДА. Отведите его в хореографическое училище!»
23
Хотя все мои родственники по-прежнему считали, что неприлично быть артистом, мама после разговора в ансамбле повела меня в хореографическое училище. Оно находилось неподалеку от здания ансамбля Сухишвили – Рамишвили, с другой стороны площади Марджанишвили.
I тур. Хорошо помню, как все проходило. На меня это произвело впечатление. В комиссии – грузинские дамы с веерами: июнь, жарко. Детей заводят по очереди – в трусиках. И когда заводили мальчика, комиссия восклицала: «О, мальчик! Слава богу!» Мальчиков приходило мало.
И тут завели меня. Охи, ахи, вздохи, типа сделай так… Но – за «шаг» мне поставили «3»! Я ногу за ухо закладывал, не говоря уже о стопе́, а они! Сумасшедшие люди. Я видел эти документы собственными глазами. И еще в приемных документах, в графе «Отличительные черты», стояло: «короткая шея, большие уши». Причем рядом вклеена моя фотография – вот с тако-о-ой длинной шеей. Да, уши большие, ничего не скажешь, уши большие у ребенка были.
Кстати, когда позднее меня просматривали в Московском хореографическом училище, мне тогда тоже за «подъем» – «4» поставили! Я спросил своего педагога П. А. Пестова, почему так нечестно они поступали, он заявил: «Потому что, если ребенка отчисляли или травма какая-то происходила и мамаша шла в суд… Мы ей на основе таких документов с низкими оценками: „Видите, какого неспособного ребенка мы взяли?!“» Я ему: «А мамаша возьми и предъяви мою ногу с „подъемом“?!» – «А-a-a! Так это мы развили!» – тут же нашелся Пётр Антонович.
Но самое ужасное чуть не произошло на II туре вступительных экзаменов. И здесь я рисковал навсегда потерять балет. Мы пошли на медицинский осмотр в поликлинику.
Меня как позднего ребенка с детства проверяли доктора постоянно. Мама считала, что с моим здоровьем может пойти что-то не так и что надо за ним серьезно следить. Она все держала под контролем. Я кровь сдавал каждые полгода. Накануне II тура меня доктора снова проверили. Все было в норме. Каждый раз, когда мама приводила меня в больницу, знакомый врач говорил: «Оставь ребенка в покое, Ламара, ну оставь». – «У него не хватает веса!» – «Оставь, он просто другой конституции». – «Что значит – „другой конституции“? Я же – нормальная!» – «Он мужчина, у него по-другому». – «Нет, он плохо ест!»
Представьте себе, меня будили в 6:00 и вливали в меня взбитое яйцо с рыбьим жиром и какой-то дополнительной гадостью. А потом она хотела, чтобы в 9:00 я снова ел. В меня впихивали дикой величины бутерброд со сливочным маслом и черной икрой, слоем в палец. И тут же: «А второй бутерброд?» Я говорю: «Мама, я не хочу». Бутерброд был размером с мое тело! Вечером все повторялось заново.
Но маму можно понять. Все мои ровесники: пухленькие розовые, сдобные дети, коротконогие, короткорукие. А я – худой, без щек и без румянца. Я был виноват во всем, даже в том, что мои тощие длинные руки спускаются ниже колен. В общем, ужас, а не ребенок!
…Итак, мама сидит в коридоре поликлиники, я брожу по докторам. Сдал кровь, выхожу из очередного кабинета – в коридоре толпа. Подхожу и вижу, что мама лежит в обмороке. Оказывается, вышла медсестра: «Кто здесь мамаша Цискаридзе? У вашего сына гемоглобин как у покойника!» Потом выяснилось, что лаборантка перепутала пробирки! К счастью, тут же сделали повторный анализ, гемоглобин оказался в норме. Но как только мы вышли из поликлиники, мама, ругаясь, что я плохо ем, повела меня в «Хачапурную», где заставила съесть три огромных хачапури. И еще в меня влили несметное количество полезных соков с витаминами.
В общем, на III тур я пришел сильно поевший. И нас, детей, попросили… спеть песенку! Это же Тбилиси!
…У нас был завхозом в училище армянин, Аркадий Тигранович – к сожалению, забыл его фамилию – такой полный мужчина с усами. Его все Аликом звали. Во время приемных экзаменов он, такой грозный, сидел обычно у двери, откуда запускали-выпускали детей, и говорил: «Что, это тебе что, папин дом, мамина контора?! А ну, зайди-выйди!» И вот стали просматривать одного армянского мальчика. Физических данных никаких, хоть убейся. Алик, как армянин армянину, решил помочь. Спрашивает мальчика: «Ва, может, ты песню знаешь?» А ему из комиссии: «Алик, отпусти его, не надо! Жарко! Давай уже следующего смотреть!» – «Не-не-не, пусть споет», – уперся Алик. Мальчик в ответ: «Ну, знаю я одну песню…» – «Ва, только одну песню?» – «Да». – «Какую?» – «Мама». – «Ну, пой!» И ребенок запел: «Я ва-а-а-ашу маму, я ва-а-а-ашу маму, я ва-а-а-ашу маму…» Комиссия полегла от хохота. И когда мальчик вышел, Алик огорченно подвел итог: «Ва-а-а, он еще и нашу маму!»
Для своего III тура я взял самую «легкую» песню, конечно. До сих пор не знаю, зачем в хореографическом училище петь. Но я спел: «В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и крылатые качели…» Комиссия рыдала, «петуха» я давал постоянно… Сначала я вообще хотел петь «Миллион алых роз». Но когда я репетировал, отчим мрачно сказал: «„Миллион разных поз“ не надо петь комиссии!» Потом я хотел петь «Айсберг». «Айсберг» тоже не разрешили. Репертуар Аллы Пугачевой в моем исполнении был безвозвратно забракован. И я остановился на песне «Качели» Е. Крылатова, потому что мне нравилось очень, что «взмывая выше елей».
Песню-то я спел, но, когда III тур закончился, мне никто ничего не сказал: приняли – не приняли? Это же Тбилиси! Мама тут же отправила меня с двумя трехлитровыми банками черной икры в Абастумани – укреплять здоровье. Я ждал, когда она приедет и все расскажет. Я не сомневался, что принят.
Наконец мама приехала и сказала, что я учусь в хореографическом училище. Мы привычно съездили в Москву, потом вместо Пицунды поехали на море в Леселидзе. Месяц жили на море. Я готовился к балету.
24
Вы думаете, 1 сентября 1984 года я шел в хореографическое училище? Нет! Я рвался на сцену. Я был уверен, что уже завтра участвую в «Жизели», в «Дон Кихоте», в «Лебедином озере»…
Мое 1 сентября пришлось на субботу, никаких уроков. Я томился в своих ожиданиях. Занятия начались только 3 сентября. Ирина Ивановна Ступина стала моим первым педагогом классического танца. Грузинских детей она не жаловала. Сразу нам сказала: «Вы бездарные, страшные дети!» Мама, узнав об этом, отреагировала: «Видимо, какой-то грузин ее все-таки недолюбил».
Потом выяснилось, что Ступину нашим классом наказали. Обычно она вела девочек: 1—5-й классы. Ирина Ивановна окончила Вагановское училище, Чабукиани привез ее в Тбилиси из Ленинграда. У нас в театре она значилась солисткой, шустрая, ловкая, с очень красивыми ногами и изумительной стопой, танцевала все вставные pas de deux.
На момент моего поступления Тбилисское училище возглавлял Гоги Алексидзе. Работали: ученица А. Я. Вагановой – Маргарита Гришкевич, одноклассница Аллы Шелест, в прошлом пермский педагог; ученица Е. Н. Гейденрейх – Нинель Сильванович. Педагогический костяк был в школе на уровне, хороший.
В первый же день Ступина нам сказала, чтобы на следующий урок мы принесли маечку, трусики для занятий и большое полотенце. Я маме и говорю: «Наверное, мы будем плавать». Мне в голову не приходило, что нас на пол положат. Два месяца мы занимались только гимнастикой, лежали на полу, делали шпагаты, пресс качали… Несчастные дети. Я танцевать шел, понимаете? У меня репертуар был! А меня положили на полотенце и заставили делать какую-то физкультуру. Мало того, Ирина Ивановна на первом же уроке села на меня – и я растянулся в шпагат. Сразу! С диким криком. Я крикнул так, что меня слышно было в Москве.
Мы все стояли на одной боковой палке, там другой не было. Зеркало размещалось не на большой стене, а на той, что поменьше. Полы ровные, без поката, потому что в Тбилисском театре на сцене ровный пол. Вот мы у станка и делали plie с tendu до конца октября.
Я, что греха таить, сильно приуныл, но терпел. Как я мог не выдержать? Мама же сказала: «Ты не выдержишь. Что? Ты будешь стараться? Ты не будешь стараться!» И добавила: «Принесешь хоть одну тройку – вылетишь в окно». Но, так как все в училище сразу поняли, что я – «будущее мирового балета», мне «3» никто и не ставил.
Однако скоро случилось такое, что меня едва не отчислили. Классы соревновались – к какому-то празднику коммунистическому мы должны были сделать стенгазету. Ну, естественно, я был старостой, я же очень активный ребенок.
Тут надо сделать отступление: во дворе у Бабы жила пожилая русская пара – дедушка с бабушкой. Они очень меня любили, чем-то угощали всегда, я к ним часто в гости ходил. У них никого из родни не осталось, и, когда они скончались, их вещи разобрали соседи. Кто мебель взял, кто книги – у них огромная библиотека была. И какие-то альбомы по живописи, журналы, связанные с балетом, взял я.
У меня на веранде стоял шкафчик, где игрушки хранились. Я стал вырезать из этих журналов разные балетные фотографии и маленькими гвоздиками прибивать их внутри шкафчика. Поразительно, но и шкафчик, и фотографии до сих пор находятся на своих местах…
И вот стенгазета. Называлась она – «Наша мечта». Соревновались все классы. Комиссия из педагогов ходила и выясняла, чья же «мечта» лучшая, какой класс выиграет? Я как староста подошел к делу творчески, подготовился. Достал дома свои журналы и навырезал оттуда очень красивых фотографий. Принес их в школу, приклеили, повесили. И оказалось, что все – «дети как дети», а наш класс – диссидент! Потому что у меня в стенгазете рядом с фотографиями Е. Максимовой, В. Васильева, Н. Павловой оказались: М. Барышников, Н. Макарова, Р. Нуреев, А. Годунов…
Когда в наш класс зашла комиссия, они сделали так: «А-ах!» На дворе 1984 год. Такой скандал разразился… Такой стоял крик… «Кто сделал? Цискаридзе сделал? Мамашу в школу! Как вы могли, вы же педагог?! Вы что, не можете объяснить ребенку, что это предатели Родины?»
А газета – ватман гигантский с большими портретами. И в центре моей композиции – Макарова, а над ней написано – «Наша мечта». Годунов, слава богу, хоть с Плисецкой сбоку красовался.
Мама пришла в училище объясняться: «Вы поймите, ребенок не знает, кто эти люди, он не знает, что такое предатели Родины, он не знает, что они сбежали». – «Как?! Вы должны такие вещи рассказывать». В общем, тогда я узнал, что, оказывается, это люди, которые сбежали. Куда сбежали, зачем сбежали – мне никто, естественно, не объяснил. В общем, меня из школы чуть не выставили.
1984 год был последним, когда мы учились в старом здании училища. Переезд готовился постепенно, понемногу все выносили, выносили…
Что мне очень нравилось в училище? Если на специальных дисциплинах и репетициях я старался, готов был из кожи лезть, то на общеобразовательных уроках я мог вообще ничего не делать. Меня вся школа обожала за красивый «подъем». А если я ногу вынимал в écarté… – это вообще было все! Ставили «5» по любому предмету.
Рассказываю, как меня научили ноги на adagio держать. Наш зал размещался на четвертом этаже особняка. Но этот четвертый легко тянул на седьмой, потолки там очень высокие. Ступина мне говорит: «Если ты еще раз опустишь на adagio ногу, я тебя выкину в окно». Но я, видимо, опустил. Она меня схватила и… в открытое окно – носом! Помню крупным планом кроны деревьев, а внизу троллейбус едет. После этого случая я в adagio стоял как вкопанный.
Но в какой-то момент мама обнаружила, что я пишу с дикими грамматическими ошибками. Что по-французски, кроме слова «бонжур», я не знаю ничего. Что на фортепиано я не ходил полгода, даже не заглядывал туда. А я рассуждал так: если у ребенка есть écarté, зачем ему фортепиано и все остальные предметы? Мама страшно рассердилась. А я ей ответил, что я типа «звезда», артист, зачем мне читать-то? У нас есть радио, есть пластинки. Зачем читать?
Влетело мне за такие слова основательно. Но самое страшное мамино наказание было – «ты не пойдешь в театр». Я сидел дома, писал, читал и ей все пересказывал. Чудовищная была экзекуция, когда она заставила читать «Алые паруса» Грина, будь они неладны! Мама сказала: «Не прочтешь – не встанешь». Я должен был дочитать до вечера эту книгу. Хотя я знал сюжет – я же фильм видел! Но «дознание» проходило по всему тексту, «с пристрастием».
25
Как я уже говорил, в годы моих занятий в Тбилиси училище возглавлял Гоги (Георгий Дмитриевич) Алексидзе. Он практически не заходил в школу, появлялся там только на госэкзаменах или когда ставил нам какой-нибудь номер. В то время Алексидзе руководил еще и театром.
Внешне Гоги мне совсем не нравился. Невысокого роста, брюнет с проседью. А у меня вообще все, что темное и невысокое, – не считалось красивым. Человек с темными волосами выбывает из списка «первых красавиц Королевства»! Я тоже у себя в этом смысле по красоте не рассматривался…
Но как человек Алексидзе был очень симпатичным, с хорошими манерами, прекрасно говорил на грузинском и на русском. Непосредственно с Гоги я встретился во 2-м классе. Он ставил номер на музыку Ж. Бизе из цикла «Детские игры». Всегда приходил на репетиции с тетрадкой, у него уже было все поставлено и записано, он только показывал.
В том номере танцевало много детей, человек сорок. Я был «шагаст», и Гоги сочинил мне соло в три прыжка. Это было так ответственно, что перед выходом, за кулисами, мне все желали каких-то удач. Помню, мои fermés всех приводили в восторг. Мальчик ножки открывал почти в шпагат…
На годовом экзамене по классическому танцу я получил свою «5» у Ступиной… Хотя Ирина Ивановна держала нас в ежовых рукавицах, мы ее очень любили. Именно она меня «поставила на ноги» – на экзамене в конце года все мальчики делали préparation и стояли в позе, а я делал три pirouettes вправо, потом три pirouettes влево. В легкую! Ступина сразу учила ногу держать при вращении на высоком passé. И это правильно.
25 апреля 1985 года в выпускном концерте хореографического училища я танцевал номер на музыку Д. Шостаковича «На реке». Это был мой первый выход на сцену в качестве профессионального артиста. Сюжет номера простой – маленький мальчик удит рыбку и нечаянно удочкой цепляет купальник одной девочки. Тут выходят восемь ее подруг, отпускают всех пойманных рыбок, отбирают у мальчика удочку и спихивают его, бедного, в воду.
Шостакович для меня – счастливый композитор, поэтому, когда в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой я сочинял для учеников свой первый в жизни выпускной экзамен, то взял его музыку. Да и первая моя сольная партия Конферансье на сцене Большого театра была в балете Шостаковича «Золотой век».
В конце года меня заняли в «Дон Кихоте». В редакции В. Чабукиани, которая шла на сцене Тбилисского театра, в жмурки с Санчо Пансой играют дети, мальчики, а не шесть танцовщиц, как в классической версии. (Я всегда недоумевал: почему эти девицы там находятся?)
Всей полноты своего счастья я еще не понимал. Нет. Мне нравился запах кулис, мне нужно было видеть, как одевается в декорации сцена, чтобы по ней режиссер ходил… После первого выступления в «Дон Кихоте» я каждый свободный от школьных репетиций вечер ходил в театр. Администратор сказал маме: «Слушай, Ламара, поставь ему лежанку в моем кабинете, пусть живет здесь. Что ты его все время домой? Зачем он туда-сюда ездит, тратитесь на троллейбус». В театр меня пускали без всяких пропусков. Меня знали все! Когда я шел, они говорили: «Никочка, привет!» Там меня все обожали.
В Тбилиси часто приезжали ленинградцы: у нас хорошо платили. Танцевали «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель». И вот как-то приехала Маргарита Куллик с Махаром Вазиевым танцевать балет «Дон Кихот». Я, естественно, в кулисе. Вижу, Вазиев не может Риту в поддержку поднять. Она стоит в кулисе, его уговаривает: «Махарчик, я сама прыгну, ты только подставь руку!»
В этот момент я увидел Вахтанга Чабукиани. Он пришел, потому что Рита была любимой ученицей Н. М. Дудинской, его многолетней партнерши в Ленинграде. Вахтанг обошел Махара, стоявшего на его пути, с какой-то откровенной брезгливостью, подошел к Рите, поцеловал ее и подарил огромный букет кавказских гвоздик с потрясающим ароматом. Таких гвоздик больше нет нигде. Рита до сих пор их вспоминает…
Китри в «Дон Кихоте» на сцене театра Палиашвили была переименована в Челиту, потому что «китри» по-грузински переводится как «огурец». В этой роли есть момент, когда балерина должна кому-то на сцене отдать свой веер и взять взамен бубен. Рита подошла к режиссеру, ведущему спектакль, я называл ее «тетя Рузанна», и говорит: «Мне надо отдать веер и взять бубен. К какому артисту я могу обратиться, скажите, пожалуйста?» Тетя Рузанна отвечает: «Какой артист? Вон Ника ходит, Нике скажи, Ника вам все сделает». Я помню, Рита ко мне подошла: «Молодой человек… – а мне одиннадцать лет, – вы точно знаете, в какой момент надо взять веер, не перепутаете?» Я на нее посмотрел и выдал: «Да я за вас станцевать могу!»
Вспоминая об этом сегодня, Рита говорит, что этого ребенка она не забудет никогда…
На спектакле я все точно сделал. Дело в том, что Рите я не соврал, я действительно знал всю партию Китри – Челиты наизусть. И не только ее. Я знал ВСЕ партии в этом балете. У меня феноменальная память на танец. Мне ничего специально не надо показывать. Я запоминаю танец… не знаю, каким образом. Я смотрю – и я знаю. Тетя Рузанна потому и указала на меня: «Какой артист? Нику позовите!»
Как же мне нравилось, когда тетя Рузанна, стоя на сцене, говорила в микрофон: «Дорогие артисты, я даю третий звонок…» Я уже был известным исполнителем, и, когда приезжал танцевать в Тбилиси, тетя Рузанна по-прежнему была на своем месте и говорила в микрофон: «Дорогие артисты, я даю третий звонок…»
Мне с детства было важно, просто жизненно необходимо, состоять при Театре. Я не только в балетах, но и в операх участвовал. Есть фотография, где я рядом с Паата Бурчуладзе в «Дон Карлосе» стою. Я мог и «Аиду» спеть от начала до конца, и «Риголетто». Я выходил во всем. Если надо было пройти по сцене позади всех три шага – это был я.
26
Когда заканчивался мой первый год учебы в училище, В. М. Чабукиани исполнялось 75 лет. Он долгие годы был персоной нон грата. В 1970-х годах случился громкий скандал. Рассказывали, что однажды Вахтанг уехал на дачу с каким-то красивым балетным мальчиком. Вечером туда нагрянули соответствующие органы. Чабукиани потерял сразу все посты и в театре, и в школе. Но в год юбилея все вдруг изменилось.
Чествовали Чабукиани с большим размахом в театре. Сначала шел балет «Горда», легенда о Сурамской крепости, на музыку Д. Торадзе. Вахтанг поставил его и сам станцевал главную роль на этой же сцене в конце 1940-х. Очень красивый национальный балет с потрясающими танцами.
Когда спектакль закончился и снова открыли занавес, Чабукиани сидел на сцене в золотом кресле, к которому вела лестница. Мы, дети, стояли рядом с цветочками в руках. Так как я был «самый-самый», тетя Рузанна поставила меня прямо у кресла. И началось… Выходили разные люди, говорили какие-то дежурные слова, к ногам Вахтанга возлагали подарки. Все как обычно и страшно скучно.
И вдруг заиграла музыка. На сцене появилась Вера Цигнадзе, которая танцевала с Чабукиани в «Отелло». В руках у нее были цветы. Она появилась так же, как в балете, когда Отелло впервые видит Дездемону. В отличие от всех, Вера молча подошла к подножию лестницы, опустилась на колено и рассыпала у его ног свои цветы… Именно в этот момент зазвучал «Мавританский танец» из балета «Отелло». Вахтанг вдруг вскочил с кресла и затанцевал!
Я стоял в полуметре от него и не верил своим глазам. Еще пару часов назад я видел перед собой старого, почти немощного человека в не очень ловком паричке, с палкой в руках. Его вели под руки. Какое разочарование! Я же помнил Чабукиани «по телевизору» – красивым, сильным, с рельефно очерченным телом… А тут передо мной, еле передвигая ноги, шел дряхлый дяденька.
Но когда Вахтанг начал свою гениальную пляску, произошло что-то неимоверное. От него пошел ток такой невероятной силы, как будто целая электростанция заработала. Что началось в зале! Публика просто в голос вопила от восторга. Когда музыка умолкла, Чабукиани пришлось подхватить и помочь ему сесть обратно в кресло.
С этого момента Вахтанга «воскресили», пригласили в школу преподавать. Я во 2-й класс перешел, а на II курс, где учился Игорь Зеленский, пришел преподавать Чабукиани.
Новый учебный год начинался уже в новом здании училища, на улице Орджоникидзе. Есть фотографии и даже видеозапись – я там стою, и Вахтанг перерезает ленточку. Но сегодня тбилисская школа находится в другом месте. Старый особняк сильно пострадал во время землетрясения, пришлось снова переезжать.
27
Летом 1985 года в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Меня, среди других учеников Тбилисского училища как участников культурной программы, привезли на два месяца в столицу. Из них мы полтора месяца репетировали и неделю с лишним выступали. Было несколько программ на разных площадках в «Лужниках». Помню номер на музыку И. С. Баха. В нем принимало участие более двухсот детей из Новосибирского, Пермского и Тбилисского училищ. Танцевали мы под аккомпанемент пятисот скрипачек – маленьких девочек, которых тоже со всего Союза собрали. В финале танцующая масса выстраивалась в разноцветный пятилистник – эмблему фестиваля.
Мы жили около метро «Войковская» в доме-интернате, директор которого громко возмущалась: «Мы наших детей кормим в день на 1 рубль 20 копеек, а вы каждый день едите на 3 рубля 25 копеек!» Но мы же были не виноваты, что у нас в столовой банки с черной икрой на столах стояли! Кстати, эту икру и не ел никто, потому что она никому на вкус не нравилась.
Кроме репетиций и выступлений, нас возили на экскурсии по городу, по музеям и по магазинам. Параллельно с фестивалем в Москве проходил V Московский международный конкурс артистов балета. СССР представляли: Нина Ананиашвили с Андрисом Лиепой, Вадим Писарев, Жанна Аюпова, Татьяна Чернобровкина и Галина Степаненко.
Между I и II турами конкурса в Большом театре, на дневном спектакле, показывали балет «Щелкунчик» Ю. Григоровича. Помню, мы, дети, тянули жребий: кто-то шел в Мавзолей В. И. Ленина, а кто-то – в Большой театр. Я вытащил билет в ГАБТ, на 3-й ярус, неудобное место. Но какое счастье!
Поскольку мама старалась не оставлять меня одного, она и на этот раз поехала за мной в Москву. И, естественно, тоже решила отправиться в Большой театр. Мама долго прихорашивалась, я понимал, что мы опаздываем, и ужасно злился. Разругавшись в метро, я бросил ее и понесся навстречу своему счастью. Правда, успел договориться увидеться с ней в антракте. Увертюры Чайковского к «Щелкунчику» в тот раз я не услышал. В 12:00 все входы в зрительный зал оказались закрыты, и я побежал на самый верхний, 4-й, ярус, куда пускали опоздавших.
Я уже говорил, что никогда не был в этом здании. Но удивительное дело! Как только я туда попал, понял – я этот театр знаю как свои пять пальцев. Та скорость, с которой я поднялся на 4-й ярус, никуда не свернув и не заблудившись, необъяснима. В общем, впервые я увидел сцену Большого театра с центрального прохода 4-го яруса, сквозь огромную хрустальную люстру зрительного зала. Спектакль уже начался. Я смотрел I акт «Щелкунчика» стоя.
А дальше случилась совершенно мистическая история. В антракте, спускаясь к маме, я пробегал мимо одного из больших зеркал, справа и слева у входа в партер были такие зеркала. Много людей, а я бегу, потому что мы договорились встретиться у двери центрального входа. И вдруг я останавливаюсь у зеркала и вижу себя, сразу в трех возрастах: я маленький, я, которому лет тридцать пять или сорок, и я, которому, наверное, лет семьдесят – восемьдесят. И больше нет никого. Всего три фигуры, и все – я… Стою, смотрю на это изображение, обалдевший абсолютно. Это странное видение длилось несколько секунд…
Но II акт «Щелкунчика» я смотрел уже из партера. Волевым решением забрал мамин билет, купленный ею у спекулянтов около театра. Я не был удивлен, увидев маму, сидящую недалеко от меня. Ее традиционные три рубля «работали» и в ГАБТе.
Прошло много лет. В 2005 году я пришел прощаться с Большим театром перед его закрытием на так называемую реконструкцию. В абсолютно пустом здании ходил. Целовал стены, трогал стулья, вдыхал любимый запах кулис – в общем, я с ним прощался, потому что на следующий день театр начинали рушить. И случайно – не знаю, как оказался на том же месте, – я опять увидел в зеркале партера себя в трех возрастах! Мистика какая-то…
Когда мы вернулись из ГАБТа, взрослые стали спрашивать нас, детей, кто и кого хотел бы станцевать в этом балете. Кто-то говорил – Испанскую куклу, кто-то – Чертовку. Я сказал: «Я буду этим дядей – в красном!» Дядей в красном оказался Вячеслав Гордеев, танцевавший Щелкунчика – Принца. А партию Маши в тот день исполняла Наталья Архипова. Ровно через девять с половиной лет именно с Архиповой я танцевал свой первый «Щелкунчик» на сцене Большого театра.
28
В Тбилисском хореографическом училище я прозанимался три года. После 1-го класса со Ступиной 2-й и 3-й классы мы учились у Зураба Георгиевича Лабадзе. Он танцевал в нашем театре, потом в Ленинградском училище окончил курсы повышения квалификации у известного педагога Варвары Павловны Мей, ученицы А. Я. Вагановой. Ему нужна была практика, и Зурабу дали наш класс.
Это был очень высокий и красивый мужчина. В театре исполнял партии Эспада, Злого гения, Ганса. Подозреваю, что женщин он очень любил. Как я в театр ни приду, вокруг него всегда какие-то дамы вертятся. Но, если честно, я его меньше любил, чем Ступину.
В это время приехала к нам в театр из Ленинграда Татьяна Терехова – танцевать «Дон Кихот». А в Тбилиси был прогрессивный театр, его руководство старалось шагать в ногу со временем. Прознали, что на Западе уже не танцуют на дощатом полу, купили где-то очень задорого шикарный линолеум в шашечку, коричнево-песочного цвета. Издалека даже казалось, что это не шашечка, а земля. Хотя линолеум и оказался кухонным, для танцев годился. Его регулярно чем-то поливали, канифолили, чтобы не скользил. И меня тогда просто потрясло, что Терехова – Китри – Челита на fouetté встала носком пуанта на одну точку и все тридцать два fouettés не сдвинулась с места!
С этого момента для меня началась новая жизнь. Как я уже говорил, теперь наше училище размещалось в просторном здании, в старинном особняке на улице Орджоникидзе. Интерьеры дома, к сожалению, оказались утрачены, но весь паркет конца XIX века сохранился. Вестибюли, классы – в старинном резном паркете, с цветами, с какими-то необыкновенными узорами. Бесподобно красиво! И вот в одном из вестибюлей я вставал на узорчик, и у меня была цель – не сдвинуться с места на fouetté. Я крутился как сумасшедший. Шестьдесят четыре fouettés на спор крутил, не сходя с этого квадратика! До сих пор могу fouetté крутить где хотите.
Вернусь к Лабадзе. Он занимался с нами по ленинградской системе. В конце 2-го класса на экзамены приехали педагоги из Ленинграда, они с москвичами чередовались. Появилась и Варвара Павловна Мей. Пришла к нам в зал. Такая маленькая, сухонькая старушка, злая, очень злая. На меня смотрела и говорила: «Ну надо же, ну надо же» – он, то есть я, не падает. Мне поставили «5». Когда я в Петербурге о том рассказал, услышал в ответ: «Этого не может быть!» Она, видимо, «3+» поставила, только если бы перед ней Анна Павлова стояла. Помню, как в конце нашего урока она громко сказала Зурабу: «Я ему подпишу „5“, но танцевать он не будет НИ-КОГ-ДА!»
Мей посчитала, что с такими, как у меня, ногами не танцуют. Она не видела таких ног у мальчиков. Девочки вынимали ногу и тряслись в ее Ленинграде. А я стою как вкопанный, мне все равно, в какой arabesque встать. Он у меня красивый. Это раздражало, и не одну Мей, как оказалось впоследствии.
Еще во 2-м классе я участвовал в опере «Красная шапочка» какой-то местной композиторши. Я танцевал Петушка, моя одноклассница изображала Курочку, и было у нас с ней, по-моему, двенадцать цыплят. Я там так прыгал! У меня сохранилась фотография, где я в pas de chat, в шпагате, как мой кумир детства – балерина Надя Павлова.
29
Пока я учился в 3-м классе, мы готовились к 70-летию училища. Шел 1987 год. На юбилейном концерте я должен был танцевать pas de trois из «Щелкунчика» в постановке В. Вайнонена. Его с нами готовила Нина Георгиевна Дидебулидзе, педагог девочек моего класса. Она была ученицей московского педагога Натальи Викторовны Золотовой, занималась у нее в МАХУ на курсах стажеров.
На последние репетиции, когда мы работали над pas de trois, стал приходить Чабукиани и заниматься со мной. Поменял какие-то движения в вариации. Вместо того чтобы двигаться в «заносках» вперед, с его легкой руки, я двигался назад. Все знали, что я «любимчик» Вахтанга. По школе ходил слух, что он выпустит класс Зеленского и возьмет класс Цискаридзе. А мы должны были идти в 4-й класс. Это было смешно, что Вахтанг возьмется учить таких маленьких детей.
Вернусь к юбилею училища. На него съехались представители едва ли не всех хореографических училищ СССР. Приехали из Москвы, из Ленинграда, из Перми во главе с Людмилой Павловной Сахаровой. Увидев наше pas de trois, она пригласила меня учиться к себе в Пермь.
Когда мы заканчивали 3-й класс, в экзаменационную комиссию вошли теперь уже московские педагоги: Н. В. Золотова и А. А. Прокофьев. Я получил очередную «5» по классике. Золотова и Прокофьев захотели пообщаться с мамой. Прокофьев сказал: «Где вы были? Почему вы еще не в Москве? Почему вы…»
Мама сказала, что мы дважды приезжали в Москву – в 1986 году в январе, а потом в августе, и оба раза нам отказали. «А вы как вообще поступали, расскажете?» – поинтересовался Прокофьев.
30
С начала моей учебы в хореографическом училище маме то и дело говорили: «Отчего вы держите ребенка в Тбилиси?» И у нее впервые зародилось сомнение: а может быть, действительно стоит попробовать?
Когда мы в очередной раз приехали в Москву, то доехали до 2-й Фрунзенской улицы, посмотрели на здание Московского хореографического училища, мама спросила: «Хочешь здесь учиться?» Я ответил: «Конечно да!»
В январе 1986 года мы приехали поступать в МАХУ. Маме кто-то подсказал, что лучше иметь что-то типа ходатайства, чтобы ребенка посмотрели в середине учебного года. Благодаря своим тбилисским связям, она выправила соответствующую бумагу на имя директора МАХУ С. Н. Головкиной. Там написали: «Уважаемая Софья Николаевна! Просим вас просмотреть…»
И вот мы с тетей Зиной, не с мамой, а с ее единокровной сестрой по отцу, во время зимних каникул пошли в училище. Тетя Зина, Зинаида Ивановна Романова, была женщина не рядовая. Сначала – директор совхоза «Московский», который кормил всю столицу, потом – директор по снабжению «Росконцерта». Характер имела твердый, решила, что будет представляться моей мамой. Сестре она не доверяла: «Ламара! Ты дашь взятку, а ребенок должен учиться по способностям!»
В училище к нам вышел М. С. Мартиросян, в то время – художественный руководитель МАХУ. Он оглядел меня с неприязнью: мы были с ним одного роста и сразу откровенно друг другу не понравились. Да к тому же Максим Саакович взглянул на мою бумагу, а в ней написано: «Уважаемая Софья Николаевна!»
В балетном зале второго этажа меня смотрела Н. А. Ященкова. Не увидеть, что я – одаренный ребенок, было невозможно. И тем не менее… Вот сколько раз в жизни я спускался по училищной лестнице, столько вспоминал этот день. Как иду по ней и у меня текут слезы, потому что Ященкова объяснила моей тете, что: «Не надо мучить ребенка, у него нет никаких способностей. Это не его профессия».
Я вернулся в Тбилиси, доучился еще полгода. Но маме проел весь мозг, чтобы мы поехали в Москву еще раз. На Фрунзенскую со мной опять поехала тетя Зина, снова отстранив сестру со словами: «Ты дашь взятку, а ребенок должен учиться по способностям!»
30 августа. На этом просмотре я с Леной Андриенко познакомился. Мы с ней вместе провели весь день, потому что она из Киевского училища переводилась, я – из Тбилиси. Но ее приняли, а меня нет. Когда стало ясно, что меня не взяли, мимо проходил Мартиросян. Увидел мою тетю, узнал ее: «Не мучайте мальчика, он не может танцевать!»
В Тбилиси у меня постоянно был с мамой конфликт. Она говорила, что надо уходить из балета, а я объяснял, что никуда не уйду. Иногда доходило до того, что я грозил: «Сейчас пойду в милицию, напишу заявление, чтобы тебя лишили родительских прав, ты не даешь мне реализовываться!» Рыдая, я доставал 12-й том энциклопедии – «Искусство», открывал страницу на слове «Балет» с фотографией юной Нади Павловой, стоящей в позе écarté. Я так же высоко и красиво поднимал ногу и говорил маме: «Ты видишь, она так может, и я так могу! У меня все данные есть!» И все педагоги ей говорили: «Ну не может быть, Ламара, ну не может, чтобы у этого ребенка не нашли данных. Поймите, мы не сумасшедшие. Тем более он танцует с утра до вечера…»
Теперь вся моя родня рассказывает, что они с детства видели во мне гения. Но на самом деле все считали, что ребенок просто сошел с ума.
В 3-м классе я вновь убедил маму на весенних каникулах ехать просматриваться, но на этот раз – в Ленинград. Надо же было еще найти знакомых, у кого остановиться, гостиницу снять – нереально.
Само хореографическое училище, его кабинеты, залы, коридоры произвели на меня жуткое впечатление, особенно после нового здания МАХУ. Пахло какой-то сыростью, затхлостью, отовсюду дуло. Мне Ленинград вообще-то очень нравился – фонтаны, красивый город, но в марте… Я пребывал в состоянии ужаса. Все в снегу, на улице, как мне показалось, мороз минус сорок.
И опять на просмотр со мной отправилась тетя Зина. Меня смотрели в классе Валентина Оношко, где учились Андрей Баталов, Евгений Иванченко, какие-то дети из Монголии. Потом завели в комнату, где сидели три дамы, очень старые. Они разглядывали мои ноги, гнули меня во все стороны. Я не вытерпел: «Зачем вы меня гнете? Вы что, не видите, что меня можно в узел завязать?» Наконец объявили, что они меня берут.
К нам с тетей Зиной вышел Оношко: «Что вы делали с мальчиком?» – «Такой родился». – «Мы никогда такого не видели, возьмем его для эксперимента».
Мы вернулись в Тбилиси, где на юбилейном концерте меня увидела Сахарова… И получалось, что у меня есть приглашение учиться и в Ленинграде, и в Перми. А моя мама была зациклена на чем? Ребенок должен расти здоровым! Доктора сказали маме: «Ни Пермь, ни Петербург – никогда! Мальчик – грузин, у него легкие не для этих городов».
Вот в этот момент и приехали на наш годовой экзамен москвичи – Золотова с Прокофьевым. Сан Саныч, как его звали, сказал маме: «Я его возьму в свой класс. Приезжайте».
Но этого приглашения было мало. Дидебулидзе, которая делала все, чтобы я попал в Московское училище, устроила маме встречу с Золотовой. Та объяснила, что Головкина не разрешит мне идти к Прокофьеву, тот вел более старший класс, а через год учебы перепрыгнуть не разрешат. «Подходящий класс ведет Пётр Антонович Пестов. Это очень хорошо. Я поговорю с ним. Но нужно, чтобы Головкина приняла вас хорошо, ищите подход…»
Тут выяснилось, что в Московском хореографическом училище должность замдиректора занимает Дмитрий Аркадьевич Яхнин. Царствие ему небесное! Золотой человек для меня. Дмитрий Аркадьевич после войны служил в Тбилиси, потом работал в Артиллерийском училище, он артиллеристом был. Мама узнала, кто из родителей ее учеников имеет отношение к артиллерийскому училищу. Возник чей-то дедушка-генерал, который дружит с Яхниным с войны. Тут же ему и позвонили. Дмитрий Аркадьевич сказал: «Я обещаю: если у ребенка есть способности, он будет учиться. Мне не надо ни денег, ничего. Вообще забудьте. Но только, если есть способности!»
II. Отрочество
1
Приехали мы опять в Москву. Мама пошла к Яхнину. Она ему привезла письмо от друга и коньяк – всё как полагается от грузин. Дмитрий Аркадьевич маму очень любезно принял. Как человек, имеющий отношение к определенной организации, он заранее, видимо, запросил кое-какие сведения, касающиеся нашей семьи, выяснил, кто мама, кто ее папа…
Мы пришли 31 августа на просмотр, я опять просидел целый день в очереди. Яхнин пришел в школу. Когда стали нас просматривать, он тихо зашел в зал, сел в углу, смотрел… Меня попросили вытянуть «подъем», подняли ногу, согнули. На III туре в Москве полагается что-то станцевать. Я все лето занимался, чтобы исполнить свою «коронку» – вариацию из pas de trois, но меня и без нее приняли.
Так я попал в класс Петра Антоновича Пестова. Потому что, как и предполагала Золотова, Головкина отказала Прокофьеву в зачислении меня в его класс.
Потом Наталия Викторовна передала маме свой разговор с Пестовым. «Петя, ну приди, пожалуйста, 31 августа, приди, ну, посмотри на этого мальчика из Тбилиси!» На что Пётр Антонович ответил: «А что смотреть? Если ты говоришь – возьму, а отчислить его я всегда успею». Вот это гениально: «Отчислить его я всегда успею»! Он не суетился.
Если в первые две попытки моего поступления в МАХУ мы приезжали с вещами, то в 1987 году я приехал наобум. Решили, если не получится здесь, мы едем в Ленинград. Куда везти вещи-то?
И вот мы с тетей Зиной выходим из училища в районе 16.00. Она вдруг говорит: «У тебя что-нибудь есть?» – «В смысле?» – «А в чем ты завтра пойдешь в училище?» У меня ни портфеля, ни тетрадок, ни школьной формы – ничего, только балетная форма. Зина – меня в охапку, приезжаем в «Детский мир». 31 августа, вечер, миллиард народа. Быстро купили: школьную форму, галстук, какие-то тетрадки, рюкзачок.
Маме к тому моменту исполнилось 55 лет, и она улетела в Тбилиси оформлять пенсию. Но что оказалось! Только придя оформлять пенсию, она заметила, что в паспорте, с которым она прожила много лет, перепутана дата ее рождения – 19 июля вместо 19 июня. Из-за этого месяца маме пришлось дорабатывать в сентябре. В итоге, оставив меня на попечение тети Зины, она улетела в Грузию.
Уезжая, мама предупредила сестру: «Зина! Цветы на 1 сентября должны быть хорошие, чтобы поняли, что он не нищий!» И вот утром тетя Зина встала ни свет ни заря, сгоняла на рынок, купила шикарные розы с меня ростом, потратилась сильно. Классному руководителю полагалось пять роз, Пестову девять.
2
До этого дня с момента рождения меня звали Ника Цискаридзе. Но рано утром, за завтраком, Зина мне вдруг говорит: «Слушай, Ника, у нас в Москве не принято мальчиков называть Никами. Давай-ка ты не скажешь в школе, что тебя зовут Ника». – «А как меня будут звать?» – «Ну, Колей». Я замотал головой: «Нет, мне не нравится это имя! У нас дома во дворе жил дядя Коля, пьяница, все время под машиной лежал, ремонтировал ее. Я – Ника».
…И вот я, окрыленный, что меня сюда допустили, поднимаюсь по лестнице к дверям Московского Академического хореографического училища. И слышу, кто-то кричит: «Ника, Ника!» Я повернулся. Вижу, а это девочка свою подружку зовет. И я понял: «Точно, здесь у них в Москве только девочек зовут Никами».
Пройдя через «Московский» холл здания, с другой стороны есть еще и «Интернатский», я оказался во внутреннем дворе школы. Там толпа детей. Все жутко нелюбезные. А я, кроме одного, что я учусь в 4-м классе у Пестова, не знаю ничего. Я стал ходить и всех подряд спрашивать: «А у кого Пестов?»
В общем, кто-то подвел меня к незнакомой женщине. Неприветливо взглянув на меня, она сказала: «К Пестову? В класс? Ну, встань в эту линию!» Меня тут же обступили незнакомые дети: «Как?! К нам в класс?» На их лицах не было и тени доброжелательности. И это по отношению ко мне, ребенку, которого все так любили в прежней школе?! Я был для них «чучмек из аула», они не слыхали ни о Грузии, ни о Тбилиси… К тому же в 1986 году в Большом театре ставился балет «Анюта», и Илюша Кузнецов, теперь мой однокашник – «звезда» пестовского класса, вместе с тремя другими счастливчиками, танцевал с самими Е. Максимовой и В. Васильевым!
Моим классным руководителем оказалась Н. Г. Гуминская. «Как тебя зовут?» – наконец поинтересовалась она. «Меня зовут Цискаридзе». – «А имя у тебя есть?» Я говорю: «Да. Николай». Она сказала: «Коля, значит?» – «Ну, наверное…» Вот с этого момента я стал Колей Цискаридзе.
Сначала у нас по расписанию шли четыре общеобразовательных урока, мы ватагой понеслись на третий этаж. И вот я бегу, такой счастливый, и, в прямом смысле слова, натыкаюсь на Мартиросяна! Он отшатнулся, увидев меня, потом за плечо как схватит: «Так тебя все-таки приняли?!» Потом я узнал, что 31 августа, когда меня взяли в училище, Головкина уволила этого художественного руководителя из своей школы…
В классе мальчишки меня сразу спросили: «Что у тебя по классике?» Я сказал: «5». – «Илюша, Илюша, у него „5“!» А у Ильи Кузнецова тогда было «4+». Он подошел не спеша, недобро на меня посмотрел, Илья тогда уже был ниже ростом и сказал: «Что, „5“? Ну, это мы еще посмотрим!» Конфликт организовался моментально.
Но и я был не из робкого десятка. Зашел в класс, сел за первую парту в центральном ряду, за которой и просидел до конца своей учебы в училище. Чем вызвал к себе, естественно, еще большую «любовь» одноклассников.
В итоге, пока первые четыре урока шли, они мне объяснили, что наш педагог по классике Пестов – самое страшное чудовище на земле и что мои дела как никогда плохи. Потом поинтересовались: «У тебя сеточка на голову есть?» Я сказал: «Нет». В Тбилиси никто классикой с сеточкой на голове не занимался, как потом выяснилось, в Москве тоже. «В сеточках» из года в год занимались только пестовские ученики…
Наконец, пришло время урока классического танца – классики, пятый-шестой урок, с 12.40 до 14.30. Мы из мальчиковой раздевалки бежим по коридору к залу № 19, рядом с лифтом второго этажа. Не заходим, стоим, я со своим букетом цветов. Дима Кулев ткнул в бок: «Вот он!» За своими цветами я ничего не видел, выглядываю из-за букета – рядом стоит дядька ниже меня ростом, в сабо, лысый. После моего тбилисского красавца – педагога Лабадзе, два метра ростом, косая сажень в плечах… От неожиданности, глядя на Пестова, я сказал одноклассникам: «Он такой маленький и вы ЕГО боитесь?»
Пётр Антонович на меня посмотрел «по-доброму», он вообще был «добрый» человек, и говорит: «Ты что, ко мне в класс?» Я кивнул: «Это вам», – и протянул ему свои красивые розы. Он взял цветы и швырнул на подоконник. С этой минуты мы невзлюбили друг друга. Я с детства обожал цветы, а он их взял и швырнул.
Вошли в балетный зал. Оказалось, что именно сегодня, 1 сентября, дежурным буду я. Лейки, которой обычно поливали деревянный пол во время урока, в зале не оказалось. И где ее взять ребенку, который всего четыре часа находится в этом здании, неизвестно. Я вылетел в коридор, чудом нашел где-то лейку с оторванным носиком, за что мне тут же влетело по первое число. Пока я бегал за лейкой, Пестов какую-то лекцию ребятам читал. Меня он поставил последним на боковой правый станок. Если смотреть в окно, то прямо подо мной находилась лестница, ведущая к «Московскому» входу в училище.
Начали урок лицом к станку. Я стою к ребятам спиной, какую они комбинацию делают? Никто же комбинации не показывал. Я тихо пытаюсь косить глазом, а Пестов кричит: «Не поворачивай головы!» В общем, ужас! Когда мы наконец развернулись, Пестов сказал, что я такой же бездарный и нахальный, как Вовочка Малахов, и что у меня ноги вставлены не оттуда… Володя выпустился у него два года назад, у них был конфликт. Вся ненависть, скопившаяся в тот момент у Пестова к Малахову, вылилась на мою голову. Он отомстил мне за слова, что «он такой маленький».
Потом мы стали делать поклон, я в зеркало увидел, что, кроме меня, в классе «подъема»-то нет ни у кого! А я-то думал, что меня в эту школу не берут, потому что здесь учатся одни Нади Павловы, а оказалось, что Надя Павлова тут – один я!
Когда мы дошли до adagio, я тут, конечно, постарался, ногу задрал а́ la Надя Павлова. Ножку мне быстро опустили, и ближайшие три года я ее не поднимал. На pirouettes мои соученики не могли сделать и одного, а я мог три-четыре сделать вправо и влево. Но Пестов мне тут же опустил passé, и я прекратил вращаться на много лет. В итоге только на выпускном III курсе нам с Петром Антоновичем удалось как-то договориться. Я поднял passé и закрутился опять.
3
На протяжении долгих лет общения с Пестовым мне приходилось много с ним спорить, ругаться едва ли не вусмерть, доказывать ему, что эстетика танца меняется и не надо танцовщику, как прежде, брать партерные вращения со II позиции… Став артистом, я смог сказать: «Пётр Антонович, ну, в конце концов, на улице двадцать первый век, уже надо очнуться! Вы неправильно это движение учите…» И однажды он согласился: «Ладно, ты доказал, что ты умеешь танцевать, хорошо, я тебя послушаю».
Но это было спустя много лет. А 1 сентября 1987 года, когда я выходил из зала, со своего первого урока классического танца в новой школе, слышал, как Пестов тихо говорит обо мне гадости моему однокласснику Илюше Кузнецову. Примерно то же самое думал о нем я. Мало того что он был маленьким и некрасивым, он еще заикался и не любил цветы…
Вернувшись домой, я попросил тетю Зину срочно «превратить» мое черное балетное трико в трусики. В Тбилиси уже в 3-м классе мы, как взрослые, занимались в трико. А у Пестова в 4-м классе ученикам полагалось быть одетыми с белую майку, черные трусы, на ногах белые носки, на голове сеточка. Полночи тетя Зина трудилась над черными трусами, отрезая «ноги» у моего благородного тбилисского трико.
Тетя Зина жила в Измайлово, на 13-й Парковой улице. Дорога до училища занимала в одну только сторону полтора часа. Занятия начинались в 9.00. Сначала я ехал на троллейбусе до метро «Первомайская» или до метро «Щелковская». Но я предпочитал «Щелковскую». Это была конечная станция, я мог сесть и спать до самой «Арбатской», там я пересаживался на «Библиотеку им. В. И. Ленина» и ехал до «Фрунзенской», оттуда или на троллейбусе одна остановка, или пешком до училища 10–15 минут. На обратном пути из школы, прямо в метро, я уроки делал. Ехал до «Парка культуры», от «Парка культуры» до «Киевской», чтобы опять-таки сесть. Но на эти сложности я не обращал никакого внимания. Главное, что я в Москве и что у меня появился ученический пропуск. Он давал право на вход в театры – бесплатно! Вот тут началась моя новая жизнь.
Когда я учился в Тбилиси, в 1986 году вышла книга Л. Т. Жданова, солиста Большого театра, педагога МАХУ, известного фотографа, – «Вступление в балет». Это был фотоальбом про Московское хореографическое училище. Я его выучил наизусть. Благодаря книге знал, что в школе есть музей. Я очень хотел туда попасть. И две недели несчастный грузинский мальчик ходил по зданию, искал музей. Он в Эрмитаже был, в Русском музее был, в Третьяковке был, бог знает где был. В Кремле был, а в МАХУ не может найти музей.
И вот случайно, в поисках музея, я зашел на сцену школьного театра. Там шли занятия класса А. А. Прокофьева, в котором занимались: Лёня Никонов, Юра Клевцов, Сергей Филин, Сергей Антонов, Тимофей Лавренюк. Сан Саныч был нелюбезный человек, но меня сразу узнал. Вывел на сцену, поставил в центр и сказал, что я уникальный ребенок из Тбилиси, что он способствовал, чтобы меня приняли в училище, чтобы они меня не обижали, и попросил поднять ногу в écarté. Я поднял. С этого дня я стал местной знаменитостью, ученики самых разных классов останавливали меня в коридоре: «Покажи écarté!»
Но вернусь к рассказу про музей. В итоге мне кто-то подсказал, что надо найти Зою Александровну Ляшко, которая являлась секретарем директора школы С. Н. Головкиной и директором музея. Я же простой ребенок, я же из Тбилиси – пришел в приемную Головкиной, открыл дверь и сказал: «Здравствуйте, мне нужна Зоя Александровна». «Это я», – удивленно на меня глядя, ответила невысокая, очень интеллигентная женщина. «Я хочу посмотреть ваш музей!» – «В смысле?» – «Ну, я знаю, что в школе есть музей, и мне бы очень хотелось его увидеть». – «Боже! – радостно воскликнула Зоя Александровна. – Хоть один ребенок в этой школе интересуется тем, чем я занимаюсь!»
А у нас был обед перед классикой. Я пошел посмотрел музей. Своим поступком я, видимо, так потряс Зою Александровну, что она успела рассказать о нем Пестову…
Я пришел на классику, начинали разогрев, как полагалось, сами, не дожидаясь Пестова. В этот момент в зал входит Пётр Антонович и говорит: «Стоп!» Одно только это слово уже не предвещало ничего хорошего. Последовала команда: «Повернитесь!» Мы разворачиваемся. Он спрашивает: «Кто из вас знает, где в школе находится музей?»
Скажу еще, что Пестов, ни в первый, ни в последующие дни занятий, не спросил, как меня зовут. Он, видимо, даже не пытался посмотреть мое имя в классном журнале. Я был для него просто Грузин, а через полгода стал «что-то» на «ц». Любое слово на «ц»: Цапля, Цыца-дрица, в общем – что-то гадкое, все гадкое на «ц».
И вот мы стоим. Я уже по голосу, выражению лица Пестова понял, что сейчас нас будут «прищучивать». Начиная с учеников, стоявших на левой палке у рояля, Пестов стал спрашивать: «Где находится школьный музей?» В ответ звучало: «Не знаю». Дошел до Ильи Кузнецова, стоявшего в середине центральной палки, что означало «звезда класса». Илья говорит: «Я не знаю, где музей». – «Да?! – злобно отозвался Пётр Антонович, – а Грузин знает! А Грузин в музее уже побывал!» Кто-то может подумать, что меня за это Пестов похвалил? Ничего подобного! Он злобно изводил меня все следующие полгода за то, что я своих одноклассников в музей не повел! А то, что они со мной просто не разговаривали, что им вообще этот музей был не нужен, он не знал? К слову, Илью на балет «Лебединое озеро» в Большой театр впервые повел я, когда мы учились на III курсе училища…
Не для похвальбы, а ради справедливости скажу – к моменту поступления в Московское училище моими любимыми режиссерами были: в театре – Георгий Товстоногов и Франко Дзеффирелли в кино. Фильмы П. Пазолини, Ф. Феллини, Л. Висконти для меня были обычным делом. Поскольку мама любила Висконти, его «Семейный портрет в интерьере» я смотрел раз девятнадцать, не говоря уже, что такие фильмы, как «И корабль плывет…» или «Ночи Кабирии» я мог сыграть от начала до конца, не то что рассказать. Мои одноклассники даже не знали, что такое существует. Имена Чехова и Шекспира были для них пустым звуком. Мне в свои 13 лет не о чем было с ними разговаривать. Но Пестову это не объяснить. Я оказался абсолютным чужаком среди своих сверстников.
4
Наш классный руководитель Гуминская терпеть меня не могла. В Тбилиси мне ставили «5» на общеобразовательных предметах за красивое écarté, а здесь от меня требовали совсем другое. Конечно, у меня был говор, такая смесь хохляцкого с тбилисским русским. Я до сих пор, второпях, вместо «что», могу «шо» сказать. Нянины хохляцкие корни то и дело прорываются. Вместо «пионер» у меня выходило «пионэр», и я, как говорится, получал «рэлсом по бэрэту». Когда я отвечал, одноклассники начинали хихикать, и я замолкал не потому, что не знал, а потому, что считал ниже своего достоинства их смешить. Я стал бояться сказать что-то неправильно с точки зрения русского языка. Меня дразнили «чучмеком из аула» и устраивали «темную». Когда я входил в класс, на меня накидывались с кулаками. Я отвечал, мы дрались. В итоге: за первую четверть мне поставили «2» по французскому языку, фортепиано, истории, литературе, алгебре, геометрии.
Зато Пестов за главный предмет в этой школе – классику – поставил «4+». Пётр Антонович, который изводил меня и сравнивал с землей на своих уроках, поставил «4+», прекрасно понимая, что, если он этого не сделает, меня просто выгонят из школы.
Мама уже вернулась из Тбилиси в Москву, пошла к Пестову поговорить. Сначала он отказывался с ней встречаться, но она настояла: «Знаете, давайте просто познакомимся…» При встрече мама подарила Петру Антоновичу стек, чем лошадей погоняют. Придя в себя от неожиданного поворота событий, он спросил: «Это что?» Мама сказала: «Вы знаете, я пошла на очень серьезный шаг в своей жизни. Я ненавижу Москву, я обратно сюда вернулась из-за сына, и мне нужен результат. Если надо бить – бейте, я вам разрешаю». Потом Пестов сказал мне, что такое он первый раз в жизни видел. Он ждал грузинскую мамашу, которая скажет: «Не обижайте ребенка, он у меня единственный…» А тут пришла женщина и сказала: «Надо бить – бейте, я разрешаю». С этого дня они стали друзьями.
Первая четверть моего первого года обучения в МАХУ закончилась не только множеством двоек, но и грандиозным скандалом. Родители моих одноклассников написали гнусную бумагу в соответствующие инстанции, что с их детьми в одном классе учится некий Николай Цискаридзе, а у мальчиков таких данных не бывает… Случались и другие неприглядные истории, грозившие мне отчислением из школы, о которых даже не хочется вспоминать. И только благодаря заступничеству моего «ангела-хранителя» Д. А. Яхнина, все закончилось благополучно, не нанеся мне – ребенку – тяжелой психологической травмы.
После одной из таких гадких историй я пришел в кабинет Дмитрия Аркадьевича. Гуминская бросила мне вслед: «Иди! Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу!»
Яхнин сразу предложил присесть, мне – тринадцатилетнему мальчику! Сделал для меня чай, угостил конфетами и стал говорить: «Коленька, за то, что написано в этой докладной от завуча, я должен тебя отчислить из школы. Но, понимаешь, я здесь столько лет работаю, что могу сказать – через несколько лет эта школа будет гордиться тем, что ты здесь учился. До тебя у нас учились только два таких одаренных мальчика – это Володя Деревянко и Володя Малахов. Тебе надо быть очень аккуратным, никогда не шалить…» Он меня от многого предостерег тогда, многое объяснил. В общем, Дмитрий Аркадьевич долго со мной беседовал, а потом сказал: «Иди», – и на моих глазах порвал эту проклятую докладную…
Но на родительском собрании бомба все-таки взорвалась. Выступая на нем, наш классный руководитель сказала, что я «должен учиться в школе для умственно отсталых детей», что я «необучаемый», что я «на уроках ничего не могу усвоить». И это все она говорила моей маме – педагогу не ей чета!
Тогда мама встала: «Дорогие родители одноклассников моего сына, хочу вам сказать такую вещь. У меня сын один, родила я его очень поздно. Я – заслуженный педагог Советского Союза с многолетним стажем работы в школе. Поэтому рассказывать мне, какие способности у моего ребенка, не надо. Я знаю, какие у него способности. И хочу вам сказать, что, если по отношению к моему сыну в классе не прекратится травля и бойкот, я долго разбираться не буду. Я просто предупреждаю. Мне терять нечего, ребенок у меня один. Я возьму ружье и нажму на курок! Мы с вами, Наталья Георгиевна, поговорим в конце года, я уверена, что вы будете мне приносить извинения!» С этими словами мама вышла из класса. Что там, на собрании, происходило дальше, не знаю. Но с этого дня мама по вечерам садилась со мной, и мы вместе готовили все уроки. Она понимала, что меня надо не столько подтянуть, сколько мне надо просто перестать бояться. Произошло так, как предсказывала мама. Через полгода Гуминской пришлось извиниться за свои слова, стоя перед нашим классом.
Зато у Пестова в зале я был «из лучших», что морально компенсировало многие неприятности на третьем этаже. В то время в школе восстанавливали балет «Тимур и его команда». Меня полюбила Валерия Сергеевна Самарокова, отвечавшая на репетициях за младшие классы. Она сразу меня поставила в «Вальс» первым составом. Я стоял рядом с одноклассницами – сестрами Леной и Катей Родькиными, так они меня еще лягнуть норовили за то, что я ногу выше них поднимал.
В полугодие Пестов снова поставил мне «4+». По общеобразовательным предметам опять было много двоек. Однако год я заканчивал только с двумя «3» – по русскому языку и алгебре. Гуминская мне ни в какую не ставила «4», хоть двадцать раз сдавай! Если я тянул билет, и там было четыре вопроса, мне задавали восемь. «Нет, он не знает! Я докажу, что он не знает», – все время кричала она.
5
На зимних каникулах училище отдыхало, но мы с Пестовым продолжали заниматься. Я уже говорил, что в Тбилиси я участвовал во всех операх и балетах, каких возможно. Но одну оперу я знал особенно хорошо – «Дон Карлос» Дж. Верди. Я был не просто занят в ней. Вместе с несколькими своими ровесниками я участвовал в ее постановке, изображал маленького кардинала. Мы появлялись в разных сценах на протяжении всех актов. Мы, дети, копошившиеся где-то там, внизу, казались такими маленькими по сравнению с огромным и мрачным Эскориалом – монастырем и дворцом Филиппа II, подчеркивая слабость человека перед лицом королевской власти.
«Дона Карлоса» ставил режиссер Г. Мелива. Он нам – детям – рассказывал про Верди, про эпоху Филиппа II, про его сына Дона Карлоса. Опера ставилась на П. Бурчуладзе, уже тогда мировую звезду. Он приезжал, потом уезжал на гастроли, снова приезжал, и опять уезжал, и постановка спектакля длилась очень долго. Поэтому я даже сосчитать не могу, сколько раз я слушал «Дона Карлоса».
А Петя, как за глаза Пестова называли ученики, очень часто приносил на урок магнитофон, подаренную кем-то «мыльницу» с кассетами, и давал нам слушать оперы. Кто-то ему подарил записи Марии Каллас. Помню, мы стоим и слушаем в балетном зале ее голос. Там было несколько арий. Перед каждой арией Пестов говорил – это Россини, сейчас будет «Севильский цирюльник», а теперь Пуччини, это почти XX век, и так далее. До Каллас он давал нам слушать то фрагменты немецких опер, то французских, объясняя разницу. А тут сказал: «Сейчас я вам поставлю арию. Понимаю, что вы не знаете, кто ее автор. Я хочу, чтобы вы мне ответили, это итальянская опера, французская или немецкая?»
И ставит нам оперу «Дон Карлос», пела Каллас. Пестов нам: «Что скажете?» Конечно, первым отвечать полагалось Илюше, как лучшему ученику, но он какую-то ерунду сказал. Дальше все по нисходящей. На меня вообще никто не обращает внимания, я же «из аула». Я так тихо руку тяну, Пестов вдруг ко мне поворачивается: «Ну что ты, цыца-дрица, можешь сказать?» И я ему, так спокойно, говорю: «Джузеппе Верди, „Дон Карлос“, IV акт, ария Эболи „O don fatale, o don crudel che in suo furor mi fece il cielo…“». В общем, у Пестова «отпала челюсть».
Он же не знал, что эту оперу я могу всю спеть, так же как станцевать весь «Дон Кихот», за всех. Вечером, видимо не выдержав, Пестов позвонил маме: «Ламара, откуда Коля знает так хорошо оперы?» – «Пётр Антонович! Во-первых, его с трех лет водят в театр. Во-вторых, он вырос в театре. В-третьих, он участвовал во всех этих спектаклях. Вы с Никой поговорите, он вам может еще лекцию по этому поводу прочитать», – пояснила мама.
С этого момента Пестов начал со мной общаться, не говоря уже о том, что запомнил, как меня зовут. Поняв, что я знаю столько, сколько ребенку в тринадцать лет не свойственно, он ко мне стал относиться по-другому. На уроке Пётр Антонович, конечно, на меня орал, но оскорблений стало меньше, и они были теперь не такие обидные, как прежде. Они больше не унижали моего человеческого достоинства. Слово «аул» уже не летело с его стороны. По-другому на меня стали смотреть и одноклассники.
6
В результате Пестов оценил мою музыкальность, способность моментально схватывать комбинацию и впитывать все как губка. Потом Пётр Антонович выяснил, что Цискаридзе – организованный ребенок, и с этого момента я заполнял за него классный журнал. Пестов только расписывался. А я получил негласный доступ к папкам с протоколами пестовских экзаменов разных лет. Сидел с журналом за столом в методкабинете долго, делая вид, что пишу, а на самом деле я читал эти старые протоколы. А на втором этаже, куда вела железная винтовая лестница, прямо над моей головой, за шкафом, на кушеточке, похрапывая, спал Пётр Антонович.
Еще Пестову очень нравилось, что я читал много про балет, что я хожу в театр. Он позволял мне – ребенку – даже спорить с собой, что было почти невероятным с его характером. Например, я любил Майю Плисецкую, а он не любил Плисецкую, он любил Наталью Макарову. Он высоко ценил Владимира Васильева, а я – Михаила Лавровского. Я был неистовым поклонником Сильви Гиллем с первого дня, как на видеокассете увидел ее танец. Пестов, желая меня поддеть, все время повторял: «Эта твоя Сильва Вареску!», намекая на героиню оперетты И. Кальмана «Королева чардаша».
Мы спорили с ним не только по поводу своих балетных пристрастий, но даже по поводу его учеников. Параллельно с нами, он вел класс старшекурсников. Они иногда приходили посмотреть на наш урок, а мы приходили к ним. В этом классе занимался Серёжа Орехов. Когда я его увидел, у меня как у ребенка родилось настоящее чувство влюбленности, потому что Серёжа был невероятно красив и талантлив. Он имел великолепные данные, а Пестов взял и выгнал его из своего класса. Орехов уже в классе у Л. Т. Жданова училище заканчивал. Тогда я первый раз высказал Петру Антоновичу «за Орехова». А у Пети характер был не приведи боже какой. Обижал ребят, не все могли это стерпеть, а Орехов из казаков был. И он, видимо, Пестову ответил. Тот его выгнал. Я тогда Петру Антоновичу и выдал прямо в лицо: «Как вы могли его выгнать из класса?! Как вы могли его отдать?! Он – самый лучший!» Пестов от моей наглости просто дара речи лишился.
Выгнав Орехова, Пестов то и дело нахваливал мне, ставя в пример, другого ученика из этого класса. На мой взгляд – совершенно бездарного, ничем, кроме положения своей родни, не примечательного. Пётр Антонович любил убогих. Он сам был убогий и любил убогих. Помню, стоим рядом на совместном уроке: его любимчик и я. Пётр Антонович кричит на меня, что я – бездарность и меня надо гнать отсюда, а его – убогого – в пример ставит и нахваливает. Я и теперь этого понять не могу.
7
Когда я учился в 1-м классе Тбилисского училища, как-то увидел из троллейбуса, что в киоске «Союзпечать» продается журнал с балериной на обложке – «Советский балет». Выскочил, побежал к киоску, а тот закрыт на перерыв. Недели две ходил туда, киоск по-прежнему был закрыт «на перерыв». Но я этот журнал все-таки купил. Там мое внимание привлекла большая статья, посвященная Софье Николаевне Головкиной, а на центральной вкладке находилась ее фотография в роли Царь-девицы в балете «Конёк-горбунок». Во-первых, я ахнул от красоты, а во-вторых – у меня в голове пронеслась мысль, что этот человек мне очень нужен…
С моей точки зрения, в период директорства С. Н. Головкиной, с 1960-х и до середины 1990-х, ничего равного Московскому хореографическому училищу не было. Да, почти все основные педагоги классического танца, включая: О. Г. Иордан, Н. В. Беликову, Н. В. Золотову, Е. Н. Жемчужину, И. В. Уксусникова и других, являлись выходцами из ленинградской школы, художественным руководителем училища несколько лет при директорстве С. Н. Головкиной был Л. М. Лавровский. Но это же Софья Николаевна сделала, она такой коллектив собрала! А педагоги младших и средних классов – потрясающие: В. С. Самарокова, И. Т. Самодурова, Н. М. Попова, Е. Н. Баршева, И. Н. Дашкова… Скольких детей они выучили!
Я терпеть не могу разговоров о разнице между петербургской и московской балетными школами. Если в этом смысле рассуждать о Головкиной, то хочу напомнить, что она выпускалась в Москве по классу петербургского педагога А. И. Чекрыгина. Тот в свою очередь – был учеником П. Карсавина, Н. Легата и А. Ширяева. Недавно внучка Головкиной – Соня Гайдукова – переслала мне фотографию. На ней Софья Николаевна с маленьким сыном, на обратной стороне надпись: «Дорогой, любимой Агриппине Яковлевне от ее ученицы Софьи и ее сына Вовульки». С конца 1930-х годов многие московские артисты ездили в Ленинград заниматься у Вагановой. Головкина тоже ездила. Возможно, именно тогда она познакомилась с близкой подругой Вагановой – Е. Н. Гейденрейх.
Пестов, закончивший Пермское отделение Ленинградского хореографического училища, являлся учеником Екатерины Николаевны. Он рассказывал, что Головкина, никогда это особо не афишируя, училась преподавать именно у Гейденрейх, брала у нее уроки частным образом, приглашая в Москву. Это был конец 1940-х годов. Используя свои связи, Софья Николаевна могла делать Екатерине Николаевне разрешение на въезд в обе столицы, потому что до смерти Сталина ей, как репрессированной, запрещалось посещать Москву и Ленинград. Гейденрейх, очень стесненная в средствах, имела благодаря этим урокам приличный приработок, могла легально приехать в родной город.
Когда Головкина стала директором Московского хореографического училища в 1960 году и начала преподавать, Генденрейх помогала составлять ее первые экзамены, учила всему, что знала и умела.
С того момента, как я стал ректором Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, у меня на столе стоит портрет Софьи Николаевны – та самая фотография в роли Царь-девицы. Каждый раз, когда я принимаю какое-то решение как ректор, я веду с ней внутренний диалог. Что бы сделала она, как бы она поступила, как бы она разрулила ситуацию…
Мне нравится, как Головкина строила коллектив, как она «строила» педагогов, как она «строила» детей. И еще она имела фантастическое чутье на материал, никогда не промахивалась. Головкина была и стратег, и тактик в своем деле, настоящий государственный деятель в области искусства. Как большой дипломат и царедворец, Софья Николаевна умела дружить с власть имущими. Пользуясь их поддержкой, она выстроила новое здание училища с двадцатью балетными залами в центре Москвы, на 2-й Фрунзенской улице, и обеспечила ему безбедное существование. Да, в школе учились и дети нужных, важных людей. Она давала им зеленую дорогу, но в итоге впереди все равно оказывались те, кто имел способности. И я в этом смысле – лучшая тому иллюстрация!
Конечно, Головкина была человеком с очень непростым характером. А кто из людей подобного калибра был другим? Н. В. Золотова рассказала мне такую историю. Она приехала в Тбилиси на госэкзамены, Чабукиани выпускал класс Игоря Зеленского. На обсуждении Наталия Викторовна – председатель Государственной комиссии – сделала какие-то методические замечания в адрес педагога. Вахтанг сидел тихо, слушал, что-то записывал. Когда она закончила свою речь, он спросил: «Простите, а как ваша фамилия?» Она говорит: «Золотова». Чабукиани задумчиво посмотрел на нее: «Золотова, Золотова… Уланову знаю, Семёнову знаю, Золотова – не слышал!» «В тот момент, – смеялась Наталия Викторовна, – я поняла очень важную вещь: Чабукиани замечания не делают!»
8
Многие педагоги школы, втихаря конечно, не считали Головкину хорошей балериной. Рядом с Улановой или Семёновой она была другая, но была! Есть запись ее вариации из «Баядерки», а Раймонда какая, великолепная. Миф, что Софья Николаевна плохо танцевала, – не соответствует действительности.
К тому же она была очень хорошим педагогом. Когда в Большом театре я стал заниматься в классе М. Т. Семёновой, она как-то сказала: «Ой, Соня гениальный директор, но ей преподавать не надо». Я возмутился: «Плохой педагог разве может двенадцать человек в классе научить сделать fouetté на одном месте?» – «Нет, это надо постараться!» – задумалась Марина Тимофеевна. «Ну, три-четыре человека сами крутятся. А остальные? – продолжил я. – Возьмите любой класс Головкиной, есть записи в школе, и посмотрите!»
Я об этом постоянно напоминаю в Петербурге, в Академии, нашим педагогам: «Fouetté – трюк, если ребенок начинает двигаться, значит, вы не умеете его научить». У Головкиной в уроке все было выверено: диагональ так диагональ, остановка грамотная, круги грамотные… И это не фразы: передо мной видеозапись. Стоят двенадцать девочек, и двенадцать девочек всё делают. Никакого шахер-махер. Пестов мне как-то сказал: «Я головкинские классы люблю больше, чем золотовские». – «Почему, Пётр Антонович?» И получаю ответ: «У Наташи много „бантиков“».
А какая в МАХУ тех лет была кафедра характерного танца! Хотя ее педагоги меня не жаловали. Помню, как они загибались от смеха, когда я на уроке русского народного танца «присядку» делал.
А историко-бытовой танец с И. А. Ворониной, а костяк педагогов дуэтного танца во главе с Л. Т. Ждановым?! А кафедра актерского мастерства с И. В. Македонской…
У меня актерское мастерство на выпуске Е. В. Ключарева преподавала. Я на экзамене исполнял сцену встречи Альберта и Жизели. Конечно, это было очень наивно. Но когда мы репетировали этот балет в театре с Г. С. Улановой, она не переделала ни-че-го! Она говорила, что это точная схема постановки Л. М. Лавровского. Потому что Елена Викторовна принесла какую-то тетрадку из методкабинета, где было записано что и как, и по этой тетрадке со мной все приготовила. Уланова меня учила уже смыслу, как встать, как сесть, почему…
При Головкиной школа работала как часы, дисциплина железная. Дети от мала до велика были заняты в спектаклях Большого театра и Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Великолепные были концертмейстеры и педагоги по фортепиано – практически все «консерваторки». Состав преподавателей третьего этажа – общеобразовательных предметов – за редким исключением, также отличался профессионализмом.
9
В 4-м классе с двойками по классике у нас исключили двух ребят, одним из них был Митя Интезарьян. Его дедушка М. А. Интезарьян очень известный скульптор был, входил в группу В. И. Мухиной, которая делала для Всемирной выставки в Париже 1937 года скульптуру «Рабочий и колхозница».
У Мити была совсем небалетная фигура: длинный торс, короткие руки и ноги. А еще большой армянский нос. И вот однажды – какой-то праздник… А Пестов запрещал нам дарить ему что-либо купленное. Зато с радостью принимал то, что мы сделали своими руками. Недавно мне племянник Петра Антоновича прислал фотографию: на торшере в квартире Пестова до сих пор висят две куклы, которые я ему в 13 лет из ниток сделал и подарил. Петру Антоновичу очень понравилось, что я там сочетал два цвета – рыжий и синий. Я же не мог ему признаться, что у меня других ниток не было.
А Митя Пестову на праздники очень интересные вещи дарил: то свистульку какую-то, то рисунок. Пестов очень хотел помочь мальчику стать тем, кем ему было предначертано, – художником. Он видел Митю учеником художественной, а не балетной школы. Но знаменитый дедушка настаивал на балете, как и его мама, когда-то мечтавшая стать балериной.
Мы с Митей были очень похожи тем, что оба были темненькие и носатые. Просто у меня ноги росли из ушей, а у него наоборот. Там, где у меня колени начинались, у него там ноги только начинали расти. А роста мы были одинакового и стояли на станке рядом. Когда мы уже на середине делали что-то по двойкам, я всегда с ним в паре стоял – такая у нас «кавказская» нацгруппа образовывалась.
И еще у Мити было отличное чувство юмора. На Новый год мы принесли Пестову подарки – кто нарисовал, кто стишок сочинил, кто танец. А Митя принес слепленную из глины балерину-блондинку в пачке, с ручками, сложенными как у лебедя, а ноги до колена утопали в розах. Посмотрел на нее Пестов и говорит: «А чего ты, Митенька, так много роз к ее ногам положил?» – «У меня ноги не получились, и я их так прикрыл». Пётр Антонович посмотрел на него и говорит ехидно: «Но у меня-то зарплаты не хватит на цветы, чтобы твои ноги прикрыть». И засмеялся, и мы с ним, и Митя тоже смеялся. Удивительная вещь, мы Пестова безумно любили, несмотря на то что он обижал очень больно и зло, но мы ему всё прощали.
Ближе к весне, перед годовым экзаменом, Пётр Антонович пригласил дедушку Мити прийти к нам на урок, чтобы тот посмотрел и, видимо, прекратил мучить своего внука. Мало того что Митя всегда стоял рядом со мной на боковом станке у окна, тут Пестов нас и на середине поставил рядом, в центр. Разделил класс на две группы. В одной – только Митя и я, в другой – все остальные. Я был как «дама с горностаем», чтобы горностай немножко оттенил красоту дамы.
Интезарьян-старший просидел в зале весь урок. Пётр Антонович, видимо, надеялся, что Митин дедушка, как скульптор, среагирует на пропорции. И когда класс закончился, Пётр Антонович повернулся к нему: «Как вам внук?» – «Какая у Мити красивая фигура!» – восторженно отозвался его дедушка. Мы хмыкнули, потому что даже в свои 13–14 лет понимали, что это не так. Вот что часто делает слепая любовь по отношению к своему ближнему…
Митю отчислили в тот год. Он ушел, поступил в художественную школу. И, как я слышал, у него в этой профессии все сложилось весьма успешно. Я тому очень рад.
Но, самое главное, за неделю перед экзаменом по классике Пестов переставил меня на самую середину центрального станка. Это было, говоря тбилисским языком, самое «козырное» место в зале. И я получил свою «5». У меня не было другой оценки на экзаменах по классике никогда! «5» все восемь лет моего обучения.
В момент, когда мы переходили в 5-й класс, на базе МАХУ открылся институт, и Пестова обязали там преподавать. К тому же, кроме нас, он вел еще старший класс, от которого был не прочь отказаться. Но там занимался сын очень влиятельных в то время людей, и Петру Антоновичу пришлось покориться решению Головкиной. Нас отдали Б. Г. Рахманину, мужу Н. В. Золотовой.
Перед 1 сентября мама позвонила Пестову: «Пётр Антонович, мы приехали. Я привезла вам из Тбилиси…» – «Ламара Николаевна, а вы разве не знаете, что я больше не преподаю у Коли?» – «Ну что, мы теперь с вами будем ссориться?» – «Нет». – «Я же с вами общалась не потому, что вы у Ники преподавали. Мы с вами познакомились, значит, надо встречаться». И мама с Петей продолжила общаться. У них отдельная была история взаимоотношений.
10
Наш класс взял Б. Г. Рахманин. Но на первой же неделе его куда-то услали, и к нам пришла Надежда Алексеевна Вихрева – педагог по заменам, заведующая методическим кабинетом. Она вела у нас классику целую неделю, в субботу состоялся ее последний урок. На прощание Надежда Алексеевна давала наставления каждому из нас, типа: «Илюша, не коси левой ногой. Рома, ты не…» Когда дошло дело до меня, она вдруг возьми и скажи: «Ребята, я понимаю, вам очень сложно всем. Вы учитесь рядом с гением! Вы понимаете, у Николая Цискаридзе все идеально. Вы должны за ним тянуться. Мало того, он феноменально одарен музыкально. Вы плохо вступаете – смотрите на Коленьку. Он всегда вступает правильно…» Надо ли объяснять, что в ближайшие полгода со мной никто не разговаривал. Добрая женщина! Это я только потом узнал, что в молодости Надежда Алексеевна дружила с Рудольфом Нуреевым и что она в балете много что понимала. В школе-то у нее был вид какой-то блаженной.
Если честно, мне 4-й класс у Пестова дался сложнее, чем 5-й класс. Я уже освоился в школе, мне как-то спокойно стало. Рахманин на нас не кричал, никакого стресса на классике не было. Борис Георгиевич то и дело взывал к нашей сознательности, но мы, естественно, ничего не осознавали и старались мало.
Рахманина я не боялся, я боялся его жены – Золотовой. Издалека, завидя меня на другом конце коридора, она оттуда уже кричала: «Ника!» Я должен был бежать к ней и получать очередной нагоняй. Потому что Борис Георгиевич мог рассказать ей дома, что я не старался.
Моя учеба в 5-м классе оставила о себе скверные воспоминания, потому что нас на репетициях производственной практики никуда не ставили, ходили мы только в горожанах в училищной «Коппелии». Казалось, что мы никому в школе не нужны.
Педагог народно-характерного танца ставила мне «3», как бы я ни старался. Пестов, слыша мои причитания по этому поводу, говорил: «Да какая разница! Кто тебе поставил? Осипова? А кто это?» Я очень переживал, не понимая, почему «3»? Клянусь, я до сих пор не понимаю таких педагогов. И сейчас, когда нечто подобное начинается у нас в Петербурге, в Академии, я пресекаю это сразу. Меня переубедить невозможно. Если у человека есть дар танцевать, отличная координация, если он схватывает движение, комбинации на лету, – он у меня будет иметь «5» все равно, вне зависимости от приятности физиономии, возрастной долговязости и лопоухости.
Зато в тот год я очень много ходил в театры. Я не вылезал из театра Станиславского и Немировича-Данченко, из Кремлевского Дворца съезда, из Большого театра. Потихоньку мы готовились к серьезным экзаменам по специальности и по общеобразовательным дисциплинам. Потому что 5-й класс называется рубежным. По его окончании определяется дальнейшая судьба ученика – то ли исключить, то ли оставить учиться дальше.
Еще одним событием в моей тусклой жизни 5-го класса стало вступление в комсомол. Классный руководитель позвонила маме, как обычно, недобрым голосом: «Ламара Николаевна, прошло две недели, а Коля не написал заявление о вступлении в комсомол». Мама сказала: «Наталья Григорьевна, он завтра его принесет». Я прихожу домой и получаю от мамы нагоняй. Попутно выясняю, что надо учить устав и еще что-то, но главное – иметь рекомендацию одного члена КПСС либо двух комсомольцев.
А главное, нужно придумать мотивацию – почему я хочу быть комсомольцем. Я долго прикидывал и так, и сяк, ничего на ум не шло: «Мама, комсомол же нужен только для того, чтоб выезжать за границу!» – «Замолчи, бессовестный!» – рассердилась она. В общем, помогла наша пионервожатая: «Напиши – для более активного участия в общественной жизни школы». Моему классному руководителю это не понравилось, она мне рекомендацию не дала. Но нашлись два добросердечных комсомольца, и рекомендации я получил.
Прихожу домой, завтра буду вступать в комсомол и вдруг читаю в правилах, что нельзя быть верующим, а я-то крещеный! Я маме: «Что мне делать?» На что мама в свойственной ей манере отвечает: «Я тебе так наподдам, если ты откроешь рот!» Но мне-то как быть? Все в училище знали, что я крещеный, я перед выходом на сцену всегда крестился. Я же тбилисский, я же «чучмек из аула», что с меня возьмешь? А без молитвы я на сцену не выходил, это же греховное дело. Мне же няня не раз говорила: «Никочка, каким позором ты занимаешься!»
И вот я, подготовленный, прихожу вступать в комсомол, постояв в очереди, захожу в кабинет, где сидит комиссия. Смотрю: наши выпускники, пионервожатые, никаких серьезных людей. Они мне: «Цискаридзе, за пивом сгоняешь?» – «Ну, сгоняю», и слышу в ответ: «Принят!» Такое разочарование. Зачем я учил всю эту ерунду? Скажу сразу, что карьеры я в комсомоле не сделал. Перед тем как развалился Советский Союз, меня избрали председателем совета дружины МГАХ, потому что училище уже было преобразовано в высшее учебное заведение. Но страна развалилась, и комсомол закончился. Ничего, кроме корочки, от него не осталось.
11
1988–1989 годы. Перестройка вовсю шла, в журнале «Огонек» печатали какие-то смелые статьи и всякие разоблачительные мемуары… Бурлил и балетный мир – внезапно умер Марис Лиепа. В ГАБТе начался громкий скандал. «Свободная» пресса вопила, что Ю. Н. Григорович «выгнал из труппы народных артистов СССР – М. Плисецкую, В. Васильева, Е. Максимову, М. Лавровского, Н. Тимофееву и Н. Бессмертнову»; про то, что последняя являлась его женой, никто, конечно, не вспоминал.
Подробностей и сути конфликта я тогда не понимал. Но и сегодня меня возмущает то, как эту ситуацию тогда подали в СМИ. Реальность бессовестно вывернули наизнанку. Журналисты обвиняли Григоровича, что он якобы посягнул на святое – великих артистов! А он ни на кого не посягал.
Во-первых, народного артиста СССР по законодательству никто из театра уволить не мог. Во-вторых, в это время перечисленные народные артисты довольно редко и в очень ограниченном репертуаре выходили на сцену ГАБТа. Плисецкой было за 60 лет, другим хорошо за 50. А зарплаты они получали очень приличные. Народный артист имел месячный оклад в 550 рублей, в то время как хорошей зарплатой считалось 120 рублей. Плисецкая и Васильев – по 600 рублей. Весь классический репертуар вели другие, более молодые танцовщики.
Было принято специальное Постановление ЦК КПСС, подписанное М. С. Горбачевым, о переводе этих шести народных артистов СССР на контракты. В стране появилась контрактная система взаимоотношений. Григорович решил, и решил справедливо, отдать ставки тем артистам, кто вез на себе репертуар. Тогда 27 молодых артистов были повышены в окладах, а «народных» перевели на договорную систему – сколько станцевал, столько и получил.
Из театра их никто не выгонял. К гримировальному столику, за которым сидела Плисецкая, никто даже не приближался. Майя Михайловна могла прийти в театр в любой момент. Около ее столика в гримерной на вешалке ее халат висел, Плисецкая забрала его, наверное, году в 1996-м. Васильев и Максимова ходили на классы постоянно. «Анюта» с Екатериной Сергеевной шла очень часто. Я как ее поклонник ни один спектакль с участием Максимовой не пропускавший, тому свидетель!
…Когда я танцевал в Парижской опере, был поражен продуманностью законов, по которым живет эта труппа. Когда тебе исполняется 42 года, какое бы высокое положение ты ни занимал, в зале Ротонды в день твоего рождения разливают шампанское. И тебя, красиво и торжественно, провожают на творческую пенсию. Все! Это закон, он не оспаривается. Au revoir!
Вернусь к годам учебы. На экзамене по классике у Рахманина я получил свою «5». Но наш класс как таковой в тот год перестал существовать. В школе оставили учиться только Илью Кузнецова, Диму Кулева и меня. Остальных отчислили за профнепригодность.
Илья уже теперь рассказал мне, что иногда они встречаются, весь тот класс, который отчислили. И тема всегда одна – до моего появления в их жизни все было хорошо, а с моим появлением их жизнь пошла под откос. Меня, естественно, никогда никто не зовет на эти встречи. А с Кузнецовым мы подружились и дружим до сих пор. Он и Лена Андриенко – мои единственные друзья детства в Москве.
12
…За стенами школы Советский Союз несся непонятно куда, а мы жили по привычному расписанию. Училище готовилось к гастролям во Франции. Я так мечтал туда поехать, а меня взяли и сняли с поездки. Мои документы показались КГБ недостаточно благонадежными. Мама была всю жизнь «невыездная». Ее вызвала в училище начальник отдела кадров: «Ламара Николаевна, а куда вы подали документы на оформление?» Та говорит: «В смысле?» – «У мальчика папа кто?» Я проверочку не прошел, бабушка-то – француженка!
Так закончился 5-й класс. Вместо Франции я с мамой поехал в Пицунду. И, хотя по классике у меня стояло «5», у мамы регулярно звучала «песня»: «Давай уедем в Тбилиси! Что мы мучаемся здесь?»
Мамины причитания, к моему большому огорчению, находили поддержку у Золотовой с Рахманиным. Рассорившись с Головкиной, они в тот же год ушли из школы. Директор Тбилисского училища Б. А. Барамидзе предоставил им квартиру и перевез их в Тбилиси, где они стали ведущими педагогами. И начались уговоры мамы забрать меня из МАХУ и вернуться в Тбилиси. Мама сияла. И, когда она сообщила, что мы возвращаемся в Грузию, случилась большая ссора, я заявил: «Никуда с тобой не поеду. Ты можешь уезжать куда хочешь. Я пойду танцевать только в Большой театр».
Маме действительно тяжело приходилось в Москве. На работу ее никуда не брали, денежные накопления быстро таяли, жить было негде. Сначала нас приютила тетя Зина, затем мы снимали комнату недалеко от метро «Измайловская». Стоял вопрос, должен ли я жить в интернате при училище? Он находится на третьем этаже нашего здания. Мест для иногородних детей там всегда не хватало. Но, даже если бы оно нашлось, мама не согласилась бы. «Мой сын в интернате жить не будет!» – сразу заявила она.
Чтобы найти подходящее жилье, мама стала ходить по дворам вокруг школы, расспрашивала бабушек – не сдает ли кто комнату? Наконец нам удалось снять угол в квартире дома рядом с училищем на 2-й Фрунзенской улице, а затем с помощью нашего серебра, большей части библиотеки и самых ценных семейных вещей и, опять-таки, с помощью маминой способности давать деньги правильным людям – прописать меня в этой крохотной, похожей на шкаф, комнате в 14 кв. м.
Московскую прописку я получил только 11 февраля 1991 года. Пестов с первого дня, как он с мамой познакомился, жужжал: «Ламара Николаевна, пропишите Колю, иначе с Большим театром ничего не получится». Без прописки о Большом театре и мечтать было нечего.
Комната, в которой мне предстояло прожить много лет, находилась в квартире добротного кирпичного дома. Его и многие другие здания в районе Фрунзенских улиц выстроили в свое время для советского генералитета. Потому что совсем недалеко, на набережной, находится Министерство обороны РФ, прозванное нами «Пентагоном». При строительстве этих особых домов все продумали – внутри каждого двора детский сад, поликлиника, прачечная, парикмахерская.
В нашем доме на каждой лестничной клетке по четыре квартиры – три предназначались для генералов, одна для обслуги. Наша хозяйка была парикмахершей генералов, ее муж работал водителем у генерала. Тетя Тоня и дядя Боря – хорошие люди были, веселые такие, хоть и любили выпить. Они занимали две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире. В одной комнате жили, другую сдавали. В июне мама ее сняла. 30 августа 1988 года мы туда заселились.
13
Наш окончательный переезд в Москву пришелся на конец августа. Это был единственный раз в моей жизни, когда из Тбилиси в Москву мы ехали на поезде, со всем скарбом: с телевизором, с какой-то посудой, вещами – словом, всем тем, что мама решила с собой в столицу забрать. Дорога занимала двое с половиной �
© Н. Цискаридзе, текст, фото, 2022
© И. Дешкова, текст, фото, 2022
© А. Бражников, фото, 2022
© И. Захаркин, фото, 2022
© М. Логвинов, фото, 2022
© С. Шевельчинская, фото, 2022
© АРБ им. А. Я. Вагановой, фото, 2022
© Благотворительный фонд «Новое Рождение искусства», фото, 2022
© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, фото, 2022
© OOO «Издательство АСТ», 2022
В авторской редакции
Автор идеи и литературного текста Ирина Дешкова
Выражаем благодарность за помощь в создании книги Галине Петровой, Зое Ляшко, Ане Верещагиной
Сколько всего обо мне написано – тонны наглой лжи и всяких небылиц, – что я давным-давно бы сгинул, если б обращал на это внимание. Нужно утешаться тем, что у времени есть сито, сквозь которое львиная доля пустяков утекает в море забвения.
Альберт Эйнштейн
I. Детство
Родился я 31 декабря 1973 года в Грузии, в городе Тбилиси, на улице имени Камо. Там находился роддом № 1. А может быть, и не «номер один». На улице, названной в честь, как пишут в энциклопедиях, «российского профессионального революционера», – в общем, на революционной улице. Маме шел сорок третий год. Срок моего появления на свет врачи назначили на январь 1974 года. На девятом месяце беременности мама сама решила выяснить, когда же родится ее ребенок. Раскинула карты, она умела гадать, – и выпал 1973 год. Мама так и говорила родным: «Я гадаю, у меня не получается семьдесят четвертый, получается семьдесят третий!»
«Ламара провела весь день 30 декабря у нас дома, – рассказывала ее близкая подруга, – съела весь дом, просто выела пространство, и ушла домой. Я срочно заново стала что-то готовить к Новому году, потому что все, что я приготовила, она съела. И вдруг Ламара приезжает с последним троллейбусом опять. С пакетиком в руках. А там – зубная щетка, очки, роман Сомерсета Моэма „Театр“ и батон колбасы! Больше ничего. Я ей: „Ламара, ты куда?“ – „Я погадала, я завтра рожу, я пошла в роддом“. У меня дыхание перехватило: „Ты что, с ума сошла? В роддом не с этим набором ходят! Туда надо ночнушку, халатик…“ Стала ее собирать, дала кружку и другое – все, что нужно для роддома. А она говорит: „Наверное, там всё дадут“. – „Нет, там ничего нет!“»
В общем, с горем пополам, маму собрали, и она отправилась на улицу Камо. Пришла в роддом поздней ночью. Медперсонал на нее накинулся: «Зачем пришли, у вас еще неделя – срок в январе! Уходите! Приходите к Рождеству! Может, вам повезет, и вы родите миллионного жителя Тбилиси!» Но это предложение маме совсем не понравилось. Она тяжело опустилась на стул и сказала: «Я не уйду. Я завтра буду рожать».
И вот поздно вечером, под самый Новый год, случилось то, что ей предсказали карты. Я – вечерний ребенок, самым последним в тот день родился в этом роддоме. Весом в два с немногим килограмма. Все говорили, что мама родит тройню, такой живот огромный у нее был, а получилось, гора родила мышь. Когда ей меня показали, она в ужас пришла: «Боже, что это?!» Вместо нормального дитя, по ее выражению, «были ноги, одни только ноги».
И еще мама рассказывала – в тот вечер в Тбилиси пошел снег. И что она лежала, смотрела в окно, как кружатся белые хлопья, и чувствовала себя очень счастливой. И снег этот лежал всю ночь. А снег для Тбилиси – вещь экстраординарная.
Наверное, я нужен был Небесам еще и для статистики. Своим рождением я выполнил план роддома за неделю, за квартал, за месяц, за год. У них в то время по отчетности катастрофически не хватало мальчиков. Потом, когда стали оформлять бумаги, мама просила записать мой день рождения на 1 января, даже деньги предлагала, чтобы не прибавлялся год для армии. Но ей категорически отказали. Сказали, что в эти сутки, с 30 на 31 декабря 1973 года, в их роддоме родился только один мальчик – я. «И не надо портить статистику!»
Все женщины в маминой палате мечтали о мальчиках, и все родили девочек. И одна она, которой было все равно – девочка или мальчик, – родила мальчика. По традиции, в Грузии появлению мальчика всегда радуются больше, как бы девочек и так много. Мама потом говорила, что, наверное, девочка была бы все-таки лучше…
Цискаридзе – гурийская фамилия. Грузия – страна, на территории которой проживает множество народностей: сваны, картлийцы, мегрелы, рачинцы, гурийцы, имеретинцы, кахетинцы и многие другие.
Цискаридзе – это обыкновенная, простонародная фамилия. Но в переводе с грузинского она звучит очень красиво. Слово «ца» – значит «небо», «кари» – это «врата». Словосочетание это пишется вместе – «цискари» – и имеет два значения. Если слово произносится утром – это «заря», если вечером – «первая звезда». Всё, что первым появляется на небе, является как бы небесными вратами и зовется «цискари».
Под фамилией Цискаридзе мама прожила всю жизнь. Но, судя по всему, это не настоящая фамилия ее семьи. Конкретных тому доказательств у меня нет, потому что все документы были уничтожены в 1930-е годы, когда в Грузии начались репрессии.
В 1990-е годы было очень модно обнаруживать свое «благородное происхождение». Появилось Дворянское общество. Я тогда маме сказал: «Слушай, пойди восстанови свои семейные документы! Ты-то можешь!» Она очень рассердилась: «Никогда не забывай, что Цискаридзе – это простая фамилия, никаких князей! И чтобы ты этих глупостей не нес никогда!»
Трудно сказать, почему мама так раздраженно и даже испуганно реагировала на любой мой вопрос, касавшийся нашей родословной. Пресекала все мои попытки что-либо разузнать. Я теперь думаю, она просто боялась. Она же 1932 года рождения – не понаслышке знала, что такое репрессии.
Если же я опять об этом заговаривал, мама тут же парировала: «Ника! Бьют не по паспорту, а по морде!» Это была ее любимая фраза. И все время повторяла: «Забудь про это все, постарайся стать Человеком и заслужить признание, уважение не благодаря каким-то припискам, а сам по себе». Ее второе любимое высказывание звучало так: «Багажник к гробу никто не привязывает, и квартира в итоге у всех будет одинаковая, на расстоянии от поверхности земли».
Но, как бы мама ни сопротивлялась, ни старалась держать язык за зубами, она иногда проговаривалась. Однажды летом мы с ней приехали в Кутаиси, я был еще маленький. Она привела меня к красивому особняку с садиком. На входе вывеска: «Музыкальная школа». Я еще подумал: как странно, вроде мы живем в Тбилиси, зачем она меня в музыкальную школу в Кутаиси ведет? Зашли внутрь, и мама вдруг говорит: «Это дом моей бабушки». Да, так и сказала…
Позднее я узнал, что мамина семья до революции 1917 года владела домами в Петербурге и в Москве на Грузинском Валу. Там раньше находилось большое поселение грузин. Однажды мы с мамой туда пришли. Ходили-ходили, она не смогла дом найти, говорила: «Вот где-то здесь, а где – не знаю». Старые кварталы, видимо, были уже снесены, и после войны там множество новых зданий построили. Собственный дом был у них и в Тбилиси в районе Ваке, самом престижном в городе. После революции семью уплотнили, и мамина мама – Нина Максимовна – перебралась в две комнаты полуподвала, в цокольный этаж, который французы красиво называют «le rez-de-chaussé». Хорошо, хоть окна во двор выходили, а не на шоссе! Там бабушка и умерла в 1950-х годах.
В Грузии советскую власть установили в 1921 году. С этого момента, судя по отрывочным высказываниям мамы, семья ее матери постепенно теряла свою собственность. А вот у семьи отца всё сразу забрали. Последнее место, откуда их выселили, – это из Кутаиси. Оставили только небольшой летний домик в двадцати пяти километрах от города, около деревни Багдати. И когда туда советская власть дошла, семья деда, чтобы выжить, поменяла фамилию. Как гласит предание, ее местный дворник записал на себя. Сказал, что это его семья, чтобы их не тронули. Вот откуда появилась фамилия Цискаридзе.
Мы в Багдати с мамой тоже ездили. Конечно, первым делом она рассказала, что здесь родился великий поэт Владимир Маяковский. А потом добавила, что отец Маяковского служил лесничим у ее бабушки… Когда я был маленьким, мы ходили в Дом-музей Маяковского. И я, помнится, давал там концерт – читал стихи Маяковского, «Облако в штанах».
Все, что я знаю о своей семье, это, по большей части, истории, которые рассказали мне родные, знакомые, соседи уже после кончины мамы. Такая была ее воля.
О своем папе я узнал, когда мне исполнилось 23 года. Перед смертью мама попросила наших тбилисских соседей мне о нем рассказать. Но не сразу. Только через три года после маминой смерти я узнал имя отца.
Разгадка оказалась очень простая. Я с детства знал папу. Видел его много раз. Просто мне не приходило в голову, что это мой отец. Не знаю, знал ли он о моем существовании. Его сын Дато, мой единокровный брат, который, к сожалению, недавно скончался, утверждал, что нет. Что если бы отец знал, то сказал бы.
Отец был женатым человеком, когда встретился с мамой, имел замечательную семью. Не думаю, что между ними была какая-то долгая связь. Просто так получилось. Видимо, я должен был родиться от этих родителей.
А потом еще выяснилось, что мама моего папы – и это уже не догадки, а реальная история – француженка по происхождению – Эжени Роде. Евгения то есть.
В Тбилиси до 1917 года жило много иностранцев, в том числе французов, итальянцев и немцев. Французы в основном обустраивались в районе Сололаки, а немцы – в районе проспекта Плеханова, где мой дедушка, мамин папа, жил.
В молодости Женя Роде, еще до того, как стала драматической актрисой, занималась вместе с Вахтангом Чабукиани и Еленой Чикваидзе (впоследствии мамы танцовщика Михаила Лавровского), в известной балетной студии итальянки Марии Перини. Частная школа потом превратилась в Тбилисское хореографическое училище.
Женя была девушка красивая, но по балетной части не пошла. Ее выбрал в актрисы своего театра Котэ Марджанишвили (Константин Марджанов), один из самых известных режиссеров своего времени. Но вместо того, чтобы делать карьеру, молодая актриса вышла замуж. Муж – грузин из купеческого сословия, небедный человек, но он был категорически против актерства жены.
Наивная француженка думала, что вышла замуж по большой любви за красавца грузина, а попала в очень строгую патриархальную семью. Он быстро сделал ей четверых детей, и ее карьера… закончилась. На самом деле жизнь этой женщины – бразильский сериал, но даже бразильцы такое придумать не смогли бы.
Не знаю причин и подробностей всей истории жизни бабушки, но в итоге Евгения с мужем рассталась. Вернее, он с ней расстался. Детей не отдал, просто выставил супругу на улицу. И больше никогда ее к детям не подпустил. Мой папа с братом втихаря с ней общались, а две дочери – нет, по гроб жизни не общались.
Со временем Евгения вышла замуж за еврея по фамилии Макогон и родила еще одного сына – Альфреда, который стал уважаемым человеком, директором школы. Именно под его началом работала моя мама: преподавала физику. Дальше – больше. Маминой лучшей подругой была жена Альфреда Макогона, Лина. Когда у них родился ребенок, моя мама крестила эту девочку, потому что Макогоны выкрестами были. Их принявшая православие француженка баба Женя крестила.
Когда мама купила кооперативную квартиру, оказалось, что на одной лестничной клетке с ней проживает старшая сестра Альфреда. Так они общались много лет. А потом папа и мама встретились. Мама понятия не имела, что отец ее будущего ребенка – прямой родственник ее близких друзей и соседки по дому.
А потом появился я. Вот тогда-то маму к бабе Жене и привели, та меня видела совсем маленьким. Когда я стал учиться в Тбилисском хореографическом училище, часто слышал от мамы: «Ну надо же, все-таки Женины гены пробились!» Я понять не мог, про какую Женю она говорит.
Главным в нашей семье в моем детстве был дедушка Николай Иванович Цискаридзе. В честь него меня и назвали. У нас в семье всех называли в честь какого-нибудь святого. А отчество я получил от маминой мамы – Нины Максимовны. Вот и вышло – Николай Максимович Цискаридзе. Хотя в семье и в школе все звали меня Ника.
Дед в свои 80 лет, как я его помню, красавец был. Густые темные волосы с легкой сединой. Особенно бросались в глаза бесподобно красивые кисти рук с длинными изящными пальцами и всегда аккуратными лунками ногтей. Наверное, поэтому, когда вижу нового человека, первым делом смотрю на его руки…
Дедушка был огромного роста, за два метра. А у нас с мамой в квартире мебель стояла по моде 1960-х, на тонких ножках. Я и сегодня терпеть не могу этот стиль. Когда дедушка садился, мне всегда казалось, что ножки кресла обязательно должны разъехаться, потому что такой гигантский дядька не может сидеть на вот этом!
Дедушка отдельно жил, в старой части города, в типично грузинском доме с внутренним двориком. Рядом проходили трамвайные пути. Окна его огромной комнаты выходили на место, где трамвай поворачивал. И каждый раз, когда трамвай подъезжал, он давал сигнал. И всё содержимое комнаты начинало «др-др-др», трястись. Подпрыгивал весь дедушкин антиквариат.
Комната, как и ее хозяин, казалась мне необыкновенной. Огромное количество книг, старинная массивная дубовая мебель. Помню лампы, как я позже стал понимать, в стиле art déco. Видимо, с тех пор я люблю ирисы, потому что они были и на шкафу, и на прикроватных то ли тумбочках, то ли этажерках. С потолка свисала красивая люстра, бронзовая, а не современный хрусталь, как у нас с мамой.
Дома все в хрустале было, потому что маме как педагогу на каждый праздник этот хрусталь дарили. Не только вазочки – всё несли. У нас такое количество французских духов было, что я играл этими нераспечатанными коробками, как машинками, расставляя их по цветам.
А у дедушки все другое… На столе столовое серебро: приборы, сахарница. Под тарелки тоже какие-то серебряные ажурные подставки подкладывали. И очень много маленьких штучек: вилочек, щипчиков, ложечек… Мне это все очень нравилось, хотелось поиграть. Старшие меня одергивали: «Здесь не играй, тут не вставай!»
Судя по огромной библиотеке, дедушка был хорошо образованным человеком, думаю, он знал немецкий и французский языки. Мама свободно владела немецким, но всю жизнь это скрывала. Когда маму хоронили, я случайно спросил ее подругу: «А мама могла знать немецкий язык?» – «Она на нем идеально разговаривала!» – «Откуда?» – «Ну как же, Ника! Все соседи немцы! Когда она приехала в Тбилиси, то училась в классе, где половина класса были немцы!» Кстати, на улице Калинина, где дедушка жил, и теперь находятся действующие русский православный храм и немецкая кирха.
Кем по профессии был мой дед? Мама говорила, что все мужчины в нашей семье были юристами. Но, как я подозреваю, дед был человек еще и с погонами. Он вернулся в Тбилиси в конце Великой Отечественной войны после контузии. Откуда он вернулся – никто не знал, кем он был – тоже никто не знал. Документов нет.
Когда дедушка скончался в 85 лет, в дом пришли серьезные люди. Документы, книги – всё забрали. У нас ничего не осталось. Даже клочка бумаги, на чем можно было бы писать… Ничего.
Родной брат дедушки – Тарас Иванович Цискаридзе – всю свою жизнь провел в Москве, и, судя по его адресу, жил в Сокольниках в ведомственном доме. Он служил в комендатуре Кремля. Вот потому-то мама и побывала в конце 1930-х годов на главной елке страны в Колонном зале Дома союзов.
Вообще, в жизни деда много непонятного. Например, еще до войны, в 1935 году, дед трехлетнюю маму забрал и уехал с ней из Тбилиси в Москву. К тому времени они с бабушкой уже разошлись и, насколько я знаю, никогда друг с другом не общались.
Кстати, о дедушкиных женах. Их было много, и многие из них были младше мамы! Он и из жизни ушел женатым человеком. Правда, ни на одной из этих женщин, кроме маминой мамы, он не был женат официально.
Дедушка перенес три инфаркта, на четвертом его не стало. Вот почему мама считала, что рано умрет, – в нашей семье все от сердца умирали.
Детей у деда осталось… не сосчитать. Но, что интересно, мама была его единственным «официальным» ребенком. Дедушка ее от себя никогда не отпускал. Мама практически всегда при нем находилась.
С возрастом я многое понял по поводу мамы. Когда у девочки такой отец, являющийся для нее кумиром, очень тяжело найти достойного мужчину и выйти замуж. Я маму вспоминаю… когда она о папе говорила, у нее дыхание перехватывало. Незадолго до ее смерти у нас был разговор. «Господи, как же тебе было тяжело в кого-то влюбиться!» – сказал я. «Да, – ответила она, – когда я смотрела на отца, то понимала, что рядом никого поставить не могу».
Но вернусь к рассказу, когда дед привез маму в Москву. Незадолго до начала войны они переехали жить в только что отстроенный дом на улице Горького, теперь – Тверской. На нижнем этаже сегодня, как и много лет назад, располагается книжный магазин «Москва». Думаю, это была служебная квартира. Находилась она на самом последнем этаже, была угловой, окнами выходила на Столешников переулок. Мама любила шутить: «А из нашего окна – площадь Красная видна!» Говорила, что смотрела из окна на парады и демонстрации.
Из этой квартиры мама и в школу пошла, расположенную где-то в Козицком переулке. Когда в 1941 году началась война и город стали бомбить, уроки проходили в метро, на станции «Маяковская». И ночевали, и учились там. Мама показывала мне какие-то архивные фотографии, но в детстве меня это не интересовало, я мало что запомнил.
Знаю, что в Тбилиси они вернулись после 1943 года, ей 11–12 лет было. Мама рассказывала, что их отъезд из Москвы оказался неожиданным: дед пришел, они быстро собрали вещи, и все. Непонятно почему, отвоевав, он не захотел возвращаться в Москву, остался в Тбилиси. Уже потом она узнала, что квартиру на улице Горького дедушка как бы «сдал», вернул государству.
У мамы, как у многих людей того времени, был всегда наготове чемоданчик на случай ареста. Первый раз деда забрали в 1953 году, когда Сталин умер, но потом отпустили. Второй раз – когда Берию расстреляли. У мамы-студентки тогда из-за отца проблемы начались в институте, ее чуть не отчислили.
10 января 1974 года маму со мной выписали из роддома. И принесла она меня в квартиру на улице Сабурталинской, дом 63а. Это была кооперативная квартира, которую мама «выстроила», то есть – купила. Однокомнатная, на двухкомнатную денег не хватило. По тем временам отдельная квартира – очень «козырно», да еще в Сабуртало. Этот район в Тбилиси считался привилегированным, вторым в городе по «козырности» после Ваке.
13 января на старый Новый год в нашей квартире появилась моя няня – Фаина Антоновна Чередниченко – и стала с нами жить. Поскольку к моменту моего рождения маминой мамы – Нины Максимовны – уже не было в живых, мама заранее договорилась с Фаей, что та будет за мной ухаживать. Они знали друг друга лет пятнадцать, не меньше: Фая была соседкой маминой подруги по коммунальной квартире.
Когда няня развернула пеленки и увидела мои ноги, она серьезно сказала: «Балеруном будет». Меня с детства все вокруг и называли: «балерун».
Няню я называл Баба. Родилась она в Киеве, получила хорошее образование, потом ее семья почему-то оказалась в Чимкенте, то ли они сами там остались, то ли были сосланы…
После окончания Великой Отечественной войны она вместе с мужем-военным попала в Грузию. И, когда тот скончался, никуда не уехала, осталась в Тбилиси. У ее единственного сына была своя жизнь. Баба стала нянчить чужих детей. Однажды я спросил няню: «А почему ты дружила с мамой?» Она прямодушно выдала: «Вот сколько я знала твою мать, она всегда приходила с одним и тем же мужиком и никогда не курила!» Что мне, ребенку, было возразить против таких убийственных аргументов?!
Баба была очень крупная, дородная, такая вкусная украинская женщина, с огромной косой, короной уложенной вокруг головы. Помню, как она эту косу красиво гребнем закалывала. Я обожал, когда няня мыла голову, потому что мне разрешалось расчесывать это море роскошных волос. Мне было, наверное, лет шесть, когда она ни с того ни с сего обрезала косу. Просто взяла при мне – раз, и срезала. Я так плакал: «Боже, Баба, ты лысая, Баба!»
Няня в доме была «наше всё»: она готовила, убирала, стирала с утра до вечера. А в свободное время, если Баба меня не кормила, то, значит, она мне читала. Вернее, когда она меня кормила, она мне читала, потому что покормить меня можно было только тогда, когда я открывал рот. Если мне было неинтересно, я рот не открывал. Меня надо было удивить, чтобы рот открылся. В этот момент ложка влезала, и до следующей ложки. Пока я жевал, слушал дальше. Правда, ночью, под впечатлением от услышанного, я долго не мог заснуть. Баба уже спит, уже книга упала, а я ей: «Баба, а что дальше?» А она: «Спи, бесенок, спи!»
Сначала няня читала мне сказки, потом мы пошли по «Вильяму нашему по Шекспиру» – он ближе всех стоял на книжной полке. Трагедия «Ромео и Джульетта» не произвела на меня, трех-четырехлетнего ребенка, впечатления, я их что-то не пожалел. А вот над судьбой Дездемоны я рыдал. Няня, видимо, тоже вошла во вкус, потому что, когда Шекспир закончился, у нас пошел Грибоедов. Но Чацкого мне совсем не было жалко. Потом Грибоедова сменил Пушкин, его у нас было двенадцать томов. Мама отказалась мне их читать, а Баба – нет. Значит, Пушкина мы всего прочитали – пошел Лермонтов. История Тристана и Изольды мне тоже очень нравилась. Но больше всего я любил слушать «Марию Стюарт» Шиллера. Я заливался слезами, меня просто трясло от горя, потому что такой хорошей Марии голову отрубили.
Да, много книг прочитала мне Баба. Но до Льва Николаевича мы не дошли, Толстой был уже в школе…
Сначала мы жили все вместе – мама, Баба и я. Если дома, кроме нас с няней, был еще кто-то, мы говорили между собой на русском языке. Но если мы оставались один на один, она говорила со мной только на украинском, даже скорее на суржике, приправляя речь изрядной порцией ненормативной лексики. Но это, как ни странно кому-то может показаться, никогда не было ни вульгарным, ни пошлым. В том, как она это произносила, была особого рода эстетика, даже красота. Если я шалил, она ласково кричала мне: «Паскуда!» Баба и шлепнуть меня могла – ну так, очень любя.
Она меня обожала, а я ее. О том, что она мне неродная бабушка, я узнал, когда в школу пошел, – кто-то из детей рассказал. Я был полностью уверен, что Фая – моя родная. У меня дороже ее человека не было.
Потом я подрос, в доме появился отчим. Я стал жить у няни. Именно с ее квартирой связаны мои первые и самые счастливые воспоминания детства.
Жилплощадь Бабе досталась от мужа. Он работал на городском молочном комбинате, который построили вместе с жилыми домами еще до революции – в конце XIX века, наверное. Потом дома эти переделали под коммунальные квартиры.
В такой трехкомнатной квартире с невероятно высокими потолками – метров по шесть, – с огромной кухней и прочими удобствами у няни была всего одна комната, но какая! С большой кладовкой. И эта кладовка вся была забита банками с «закрутками». Мы закатывали все, что можно было закатать. В моем распоряжении маленькая серебряная ложечка имелась, я ею выковыривал косточки из вишни, которая на варенье шла.
Кроме того, в этой квартире было главное для Тбилиси – веранда. Перегородки делили ее на три неравные части. Няне принадлежала самая большая часть. Недавно, когда я там оказался, очень удивился: господи, как мы здесь могли помещаться?! Но в детстве веранда казалась гигантской. И еще это была солнечная сторона. Солнце там с утра до вечера стояло. Деревянные полы, выкрашенные в красный цвет, всегда горячие, и на них можно запросто сидеть… Это ли не счастье?!
Вся веранда была увита лианами и заставлена цветами в горшках. Растения няня подбирала со знанием дела. Она смешивала их цветки, листья, измельченные стебли и готовила лечебные отвары: от температуры, от горла, «чтобы лучше ранка заживала». В мои же обязанности входило за этими цветами ухаживать, для чего использовались две лесенки: высокая и средненькая. Я с леечкой по ним лазил, цветы поливал.
В этом раю стояла большая кровать, на которой я спал днем, а в теплую погоду мы там и ночевали.
Пока я был маленьким, каждый год мы с Бабой уезжали в марте в Цхнети, где мама снимала дачу, и оставались там до ноября. К июню в Тбилиси становится так жарко, что все стараются выехать за город. Цхнети – это «тбилисская Рублёвка», с особенным микроклиматом, где на высоких холмах, в сосновом бору, стоят очень приличные дома.
Мама приезжала к нам на выходные, а посреди недели привозила продукты: сливочное и оливковое масло, сахар, черную икру в банках. Уже в апреле могла привезти дыню, фрукты какие-то диковинные, потому что клубнику и все остальное мы с няней покупали на месте. Я и сейчас помню вкус этих продуктов. В общем, я не знал, что такое голод или «чего-то в доме нет».
Няня кормила меня в основном украинской кухней. Борщ – естественно, щи, сырники, вареники всякие и еще драники вкусные делала. Она волшебно готовила жареную картошку: резала ее почти ажурно, жарила сначала с одной стороны, томила ее, потом с другой стороны жарила, опять томила и только потом перемешивала. Получалось так вкусно!
Детство у меня было наисчастливейшее. Бо́льшую часть дня я проводил на улице. Мы с няней ходили покупать молоко, по дороге я «общался» с коровами, телятами, козами, знал, что такое куры, гуси, утки, и любил за ними наблюдать. Иногда играл со своими ровесниками, но вокруг меня в основном были взрослые люди, и с ними мне было интереснее, чем с детьми. Кроме того, я много времени проводил сам с собой. Мне и теперь никто рядом не нужен, у меня не было и нет дефицита в общении. Я совершенно спокойно могу общаться сам с собой…
Также летом, а иногда и зимой вместе с мамой мы ездили к моему дяде, Нодару Цискаридзе, жившему в Абастумани.
Это курорт, расположенный в горах на границе с Турцией. В XIX веке он назывался Аббас-Туман и получил известность, когда там поселился Великий князь Георгий Александрович – младший брат Николая II. За год до своей смерти от туберкулеза он пригласил к себе художника Михаила Нестерова, чтобы тот расписал дворцовую церковь Александра Невского. Нестеров работал там лет пять или шесть и создал около пятидесяти работ. Я обожаю этого художника! Его «Георгий Победоносец» в Третьяковской галерее – одна из моих любимых картин. И храм в Абастумани необыкновенный. Он в плохом состоянии был при Советском Союзе, но мы с мамой все равно его очень любили.
Когда в Третьяковской галерее проходила большая юбилейная выставка Нестерова, Абастумани посвятили целый раздел. Кроме картин, эскизов росписей, там показали фотографии церкви, строительство дворцов и дома, в котором я рос, где жил мой дядя.
В Абастумани находились два дворца Великого князя – летний и зимний. В моем детстве там санаторий размещался. Помню в зимнем дворце бальный зал, который был превращен в огромную столовую. А за этим дворцом стоял флигель, в котором прежде жила вся дворцовая обслуга. Дядя имел в этом флигеле трехкомнатную квартиру. Он был начальником Абастумани «по культуре». Оканчивая университет, Нодар попал в аварию и повредил легкие. Его послали лечиться в санаторий в Абастумани, там он устроился на работу и оттуда уже никогда не уезжал. Заглядывал иногда на несколько дней в Тбилиси, но начинал задыхаться. Дядя мог жить только в горах.
В Абастумани потрясающие места, красота – Швейцария «отдыхает». Там дикая, нетронутая человеком природа и целебный, чистейший воздух. Леса, озера, поля – бескрайние. Мы когда ходили по грибы, по ягоды, иногда даже не понимали, не ушли ли мы в Турцию. Граница никак не обозначена. Из-за этого в Абастумани ехали как в другую страну: полагалось получить специальный вызов, вроде приглашения. Туда могли приехать или больные на лечение, или родственники местных жителей. Пограничная зона.
Погостив у дяди, мы с мамой улетали в Москву или в Ленинград, на мое «окультуривание», а затем на море, в Пицунду. В двадцатых числах июля уезжали из Пицунды, обычно на рейсовом автобусе. Проезжали через деревни, чтобы повидать всех родственников, заглядывали к родне в Кутаиси. Приехали, переночевали, и поехали дальше. Мама со всеми поддерживала теплые отношения. А первого сентября она была уже за учительским столом, я – либо с Бабой, либо за школьной партой.
Однажды, вернувшись с моря, мы пошли навестить мамину тетю. Заходим в комнату, полную антиквариата, она там сидит, вся такая белоснежная, с фарфоровым цветом лица, несмотря на свои преклонные годы. На ее кожу никогда в жизни не упал ни один луч солнца. А мы с мамой черные как уголь. Тетя, глядя на маму, с сожалением произнесла: «Ламарочка, ты же похожа на крестьянку, ты позоришь нашу семью». Я не понял, почему мама похожа на крестьянку, вроде прилично одета. Когда вышли, спрашиваю: «Мама, а почему ты похожа на крестьянку?» – «Никочка, она считает, что загорать неприлично. Она сумасшедшая, она уже старенькая, не понимает, что это полезно для кожи».
А тетка эта выходила на улицу только утром до полудня и обязательно с кружевным зонтом, в перчатках кружевных и шляпе, чтобы все было закрыто! У грузин есть такое выражение: «папанебас сицхе» – «в воздухе марево стоит от жары». Мама все удивлялась: «Как такое возможно?»
Мама была противником телевидения, у нас в доме вообще не было телевизора, пока я не пошел в школу. Я телевизор ходил смотреть к соседям – «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!». Маленький стульчик у меня был, я со стульчиком приходил, садился. Исключение «по репертуару» делалось только в том случае, если няня хотела посмотреть что-то типа «Следствие ведут знатоки» или «Тени исчезают в полдень».
Я сидел со взрослыми и слушал, как няня ругала героинь, то и дело раздавалось: «Б… какая!» В кино с ней было безумно смешно ходить. Можно представить, какие комментарии она выдавала на индийских фильмах!..
А с мамой я с самого детства ходил на фильмы Пазолини, Висконти, Феллини и все такое, высокоинтеллектуальное. Суббота-воскресенье считались «мамиными днями». А значит, меня вели или в Консерваторию, или в драмтеатр, кукольный театр, на балет, оперу, планировались посещение музея и «умные разговоры». И если мы с мамой шли в гости, то к очень приличным людям, где все мужчины были в костюмах, а женщины нарядно одеты. И разговоры велись исключительно о высоком. Поскольку в «высоком» я ничего не понимал, то должен был сидеть тихо в углу и молчать.
За столом я умел себя вести, пользовался ножом и вилкой, знал, что такое нож для рыбы и так далее. Если мама находилась дома, мы ели только за белой скатертью. Если мамы не было, мы с Бабой ели «по-хохляцки». Это значит, можно намазать на хлеб много масла, положить варенье, налить чай в блюдечко и вот так сидеть, кусать и пить. И когда однажды мама неожиданно вернулась домой, увидела меня за этим занятием, крик стоял такой, что летали няня, я и все остальное.
Мне было три года, когда мама первый раз повела меня в театр – на «Травиату», утренний спектакль. Я застал времена, когда в Тбилиси женщины приходили в театр в перчатках, в шляпках, в вуалетках, с веерами в руках. «Никочка, – сказала мама, – там, в театре, не будет слов, артисты петь будут на итальянском языке, но ты все поймешь». Когда я пришел работать в Большой театр, а это был 1992 год, все оперы там шли еще на русском языке, а в Тбилиси моего детства Верди пели на итальянском, и пели потрясающе. Страна-то поющая.
Хорошо помню, как мы ехали в оперный театр на троллейбусе и как мама подробно рассказывала про Дюма-младшего и его историю, что он влюбился в девушку, но папа не разрешал им быть вместе. Когда я последний раз был в Тбилиси, ехал мимо тех же домов, у меня в ушах звучал мамин голос и ее рассказ…
Правда, мама тогда умолчала, что Виолетта являлась девушкой с «низкой социальной ответственностью». Она просто сказала, что Виолетта влюблена. Я только через много лет понял, что она любила многих… А что до подробностей, я узнал их, когда мне было лет шестнадцать.
Еще мама сказала, что в конце оперы Виолетта умирает от чахотки. Но когда в финальной сцене я увидел эту Виолетту, лежащую на кушетке, я возмутился и громко на весь зал заявил: «Мама, она не похожа на умирающую!»
И все же «Травиата» мне безумно понравилась. Няню я «Травиатой» просто замучил. Не выдержав, в какой-то момент она мне ответила: «Да паскуда она была, эта твоя Виолетта!» Я не понял, почему Виолетта была паскудой, мне было ее так жалко. Я говорю: «Бабуля, ты понимаешь, он ей деньги бросил в лицо!»
Я не понял, почему Альфред бросил Виолетте деньги, и этот факт не давал мне покоя. Тогда я спросил об этом маму и задал новый вопрос, который заставил ее сильно задуматься: «А почему Альфред бросил Виолетте деньги вместо того, чтобы самому ей что-то хорошее купить?» Не помню ее ответа.
Мама меня никогда не обманывала. Например, она не говорила, что нашла меня в капусте, или про аиста. Она честно сказала, что я родился. Я констатировал: «Хорошо». В какой-то момент залез в книжный шкаф, нашел медицинскую энциклопедию, открыл букву «р», где во всех деталях, благодаря десяткам фотографий, посмотрел, что такое роды. Теперь меня мучил новый вопрос – откуда достают ребенка? На себе я такого места не нашел: ну, пупок же не может так раздвинуться… Я и спросил. Мама посмотрела на няню: «Фаина Антоновна, это что?» – «А я виновата? Это вы поставили такие книги внизу!»
Как я уже говорил, у дедушки была огромная библиотека. Мама без книг вообще жить не могла: если у нее появлялась свободная минута, она читала. Про классическую литературу даже говорить не буду. Мама была одной из первых в Тбилиси, кто читал все новинки самиздатовской, диссидентской литературы. Ей все время кто-нибудь приносил какие-то рукописи, кому-то она что-то отдавала, потом кто-то ей что-то отдавал…
Но при этом ее любимой книгой был «Театр» Моэма. Если она хотела срочно отвлечься, сразу открывала роман, и ей, видимо, становилось очень хорошо. Где бы мама ни находилась, именно эта книга всегда лежала около ее кровати.
Мама была большой поклонницей Владимира Высоцкого. Она и меня хотела к этому увлечению приобщить. Я даже был на последнем концерте Высоцкого в Тбилиси – в октябре 1979 года, а летом 1980-го его не стало. Сказала, что мы на балет идем, а сама привела меня во Дворец спорта. Когда я увидел, что нет кулис, на сцене стоят два микрофона и стул (я знал, что во Дворце спорта балет не танцуют), заподозрив неладное, я спросил: «Какой балет будет?» Мама заюлила: «Ну, сейчас дяденька попоет, потом балет будет». Это был редчайший случай, когда мама сказала неправду.
А я бардовскую песню терпеть не мог, дома с утра до вечера: Александр Галич, Юрий Визбор, вся эта компания, люди с плохими голосами. Окуджава? Ну, у Булата Окуджавы хоть музыка красивая. Они же еще те певцы, а я на классической опере воспитывался! Мама-то наслаждалась смыслом – а мне что, ребенку? Я Пугачеву любил, «Abba», «Boney M»…
Как же я мучился на том концерте, еле высидел. Все время просился уйти, мама шипела: «Сиди, я тебе сказала!» Только два произведения Высоцкого нашли отклик в моей детской душе – это «Песенка про жирафа» и «Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!». Теперь-то я понимаю, почему мама повсюду меня таскала, буквально впихивала в меня все, что только было можно. Хотела, чтобы я видел все своими глазами. Благодаря этому у меня есть воспоминания о концерте Высоцкого – кто из моего поколения может таким похвастаться?
Но однажды мама чуть не стала жертвой своего метода воспитания. По-моему, в 1979 году мы отдыхали где-то около Севастополя и поехали посмотреть город. Там в Комсомольском парке стояло «Дерево сказок» с «котом ученым», с цепью, с русалкой, которая «на ветвях сидела». В эти дни Севастополь, готовившийся к приезду Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, весь был заклеен его фотографиями. Это я хорошо помню, продолжение истории знаю со слов мамы.
Брежнева должны были привезти в этот парк пообщаться с народом. А мы пришли туда утром, чтобы не попасть в самое пекло. Но люди в штатском уже заняли свои позиции, была готова и трибуна с микрофонами, с которой генсеку предстояло произнести речь.
Гуляли мы с мамой, гуляли, туда-сюда, и вдруг я исчез. Она бросилась искать ребенка и видит, что перед трибуной собралась толпа. Перед микрофоном стою я и, показывая на большой портрет Брежнева, размещенный тут же, говорю: «А вы знаете, кто это?» Люди, вероятно пришедшие туда по спискам от разных организаций, оживились, и кто-то в толпе задорно крикнул: «Нет!»
«Это дедушка Брежнев», – важно заявил я и сделал, как заправский актер, многозначительную паузу. Мама схватилась за сердце, понимая, что, если я сейчас расскажу анекдот, хотя бы один из тех, что слышал дома, мы поедем отдыхать… на Север. Она рассказывала, что, пока я, веселый пятилетний ребенок в шортиках, держал эту паузу, у нее вся будущая жизнь пронеслась перед глазами: чемоданчик с вещами первой необходимости, сухари, рельсы и стук колес…
«Он хороший человек, он хочет мира во всем мире!» – радостно выдохнул я. Народ дружно зааплодировал, кто-то взял меня на ручки, кто-то дал конфетку, кто-то сунул в руки воздушный шарик. Когда я наконец попал в мамины объятия, она больно схватила меня за руку и бросилась бежать. Потом завела за кусты и от души надавала мне по заднице. Когда страсти поутихли, и мама пришла в себя, мне была прочитана лекция «как воспитанный ребенок должен вести себя в общественном месте».
Мама – физик по образованию, окончила МГУ, всю жизнь преподавала. Она великолепно играла в шахматы и в нарды, всегда всех обыгрывала. Обычно я слышал такой диалог: «Ламара, давай сыграем?» – «Нет, сейчас опять проиграете, будете со мной ругаться». – «Не-е-ет, умоляем, давай сыграем!» Мама садилась к доске и выигрывала, потом поворачивалась ко мне: «Они все время мечтают у меня выиграть, но не с тем связались!»
При всем своем аналитическом уме и математическом таланте, мама никогда ничего не могла продать, ей было легче подарить. Но на рынке как она торговалась!!! Я стоял неподалеку и повторял: «Я с тобой не знаком… Тебя сейчас побьют…» Например, продавец называет цену в двадцать копеек. Она в ответ: «Ты обалдел? Пять копеек». – «Женщина, двадцать копеек!» – «Пять копеек!» В итоге мама брала за три копейки. Бедный дядька уже готов был ей все подарить, лишь бы мама ушла.
У нас была соседка, та самая, которая оказалась моей родной теткой по папе, так они с мамой соревновались – кто меньше денег потратит на рынке и больше купит. Мама всегда выигрывала.
Второй момент, касающийся денег: мама никогда не платила в общественном транспорте, никогда. Это был ее своеобразный акт мести советской власти. У нее в кошельке всегда лежали старые билетики: троллейбусный и автобусный. Один из них она с важным видом предъявляла, когда в транспорте появлялся контролер. Я ей говорил: «Тебя арестуют. Ты понимаешь, что тебя арестуют?» – «Я упаду в обморок», – невозмутимо отвечала она. «Тебе жалко пять копеек? Ты идешь по улице, всем нищим раздаешь деньги. Ты же можешь купить билет…» И слышал в ответ: «Никочка, это государство меня так поимело, что я его тоже хочу поиметь!» В этом плане ее было не переубедить. Когда ввели бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров, мама была страшно расстроена.
Если же дело касалось каких-то житейских проблем, мама не любила вести долгий диалог. Она сразу выясняла: «Сколько?» В смысле сколько надо дать денег, чтобы что-то получить.
Приехали мы как-то в Ленинград, стоит очередь в Исаакиевский собор – вокруг собора оборачивается четыре раза. Мама подошла сразу ко входу, привычно достала из сумочки три рубля – и мы – в Исаакиевском соборе. Около Эрмитажа я запаниковал: «Я тебя умоляю, нас побьют!» Мне семь с половиной лет. Эту очередь, длиною в жизнь, я никогда не забуду. Мы зашли… через две минуты. Мама снова достала три рубля, и контролерша нас пропустила как родных.
Умевшая «устраиваться» в жизни, в быту мама часто давала слабину. Возможно, потому, что ей это было неинтересно. Как-то прихожу из училища домой, мама лежит и читает, на столе стоит немытая чашка. «Мам, ну что, трудно чашку помыть? – возмутился я. «Никочка, скоро придет Нателочка и все уберет!» – «Зачем кого-то ждать, – не унимался я, привыкший, чтобы все стояло на своих местах, – разве сложно встать и помыть за собой чашку?!» «Господи! – воскликнула мама. – Никогда не жила со свекровью так родила ее!»
Она была почти беспомощна на кухне. В моем детстве могла приготовить только три блюда: лобио, сациви, пхали. Больше ничего! Если мама бралась жарить картошку – сгорала сковородка; если не дай бог она решала что-то запечь или испечь – горело на кухне все; в общем, нельзя ее было на кухню пускать.
Поэтому меня мама научила делать все по хозяйству! Я умею: готовить, стругать, класть электропроводку, забивать гвозди, чинить кран и остальное… Но когда меня спрашивают: «Ты хочешь это сделать?» – я всегда честно отвечаю: «Нет!» Я обязательно найду способ, чтобы это сделал за меня кто-нибудь другой.
Вспоминаю такой случай. Как-то я прибежал домой со двора страшно расстроенный. Соседские мальчишки дразнили меня за ровные ноги. Мама лежала и читала. Я ей: «Мама, почему у меня ровные ноги?» Мама медленно опустила книгу, посмотрела на меня со значением, приподнялась и важно сказала: «Никочка, наши предки очень давно пересели с лошади на фаэтон».
И вот теперь, когда меня кто-то спрашивает: «Почему ты не хочешь это делать?» – я отвечаю, что мои предки очень давно пересели с лошади на фаэтон.
Даже когда у нас с мамой в Москве, в 1990-е годы, не хватало денег ни на что, она умудрялась найти их на домработницу и маникюр. И еще – косметичка приходила к ней на дом раз в неделю!
Чтобы про эту женщину все было понятно, я намного забегу вперед и расскажу, как она уходила из жизни. В Москве мама лежала в больнице. Пришла она туда в середине января, а умерла 7 марта. Я ее видел последний раз 6 марта. И когда я приехал в морг, я должен был засвидетельствовать, что у нее во рту есть одна золотая коронка. В общем, меня туда завели, естественно, я ничего не видел, зажмурился, все подписал.
Но я заметил, что у мамы на ногтях свежий лак. Я тогда сказал ее подруге: «Тетя Лиля, лак? Как? Какой сервис в морге – сделали даже маникюр!» А она говорит: «Никочка, это Ламара позавчера дала взятку девочкам в реанимации. Сказала: „На днях я умру, я не могу лежать в гробу без маникюра и педикюра“». Мама вызвала свою маникюршу, и та ей всё сделала! Вот такая была эта женщина.
До пяти лет я в основном говорил по-русски, но мог и по-украински, и на армянском. Дома все говорили на русском языке. Грузинский я понимал, но делал вид, что не понимаю. Потому что, когда родня хотела от меня что-то скрыть, переходила на грузинский язык.
Дедушка со мной пытался говорить по-грузински, читал мне на грузинском сказки, но я сопротивлялся. Мне было пять с чем-то лет, когда кинорежиссер Тенгиз Абуладзе, наш дальний родственник, собрался снимать свой фильм «Покаяние». А младшая сестра Тенгиза – тетя Дали – преподавала русский язык и литературу в той же школе, что и мама. Они были закадычные подруги. И так как мама была уверена в своем уходе из жизни раньше, чем я стану взрослым, она оформила доверенность на опекунство надо мной на тетю Дали.
Кто-то из окружения Абуладзе меня увидел и сказал Тенгизу, что я очень похож на взрослого артиста, которого хотели сделать главным героем фильма. Мне предстояло сыграть его в детстве. Загвоздка заключалась лишь в одном: я не говорил на грузинском языке.
Маме дали сценарий, там несколько фраз, которые я должен был произносить на грузинском – без всякого акцента, естественно. Меня отвезли в деревню и всем, кто находился рядом со мной, запретили говорить по-русски. Я-то на грузинском заговорил, но и все соседские дети заговорили на русском!
Тут взрослые меня раскололи: поняли, что грузинский язык я все-таки знаю и раньше знал. И мой фокус с тем, чтобы втихаря что-то узнать про родню, больше «не работал».
Пока я «изучал» в деревне грузинский язык, Абуладзе переписал сценарий. История разоблачения шла теперь от лица внука, который из ребенка превратился в юношу и выяснял, кем на самом деле был его дед. По новому сценарию главному герою было лет шестнадцать. А мне-то всего пять! Получилось, в фильме я уже не нужен. Но толк от этой истории все равно был: я стал свободно говорить по-грузински. И в мой обширный «концертный репертуар» вошли грузинские стихи.
В кино я не попал, но это обстоятельство не изменило моего желания выступать везде и всюду. Я должен был петь, танцевать, декламировать, разыгрывать какие-то сценки. Мне очень нравились концерты, которые показывали по телевидению на Новый год и 10 ноября, в День милиции. В них кто только не участвовал! Я тоже не отставал, устраивая свои концерты, на дому.
Я вплывал в комнату через дверной проем Людмилой Зыкиной, а потом выходил уже Муслимом Магомаевым, появлялся снова Аллой Пугачевой, а затем вылетал уже Майей Плисецкой. Иногда я успевал что-то переодеть, иногда просто использовал какой-то платок, веер, цветок. Главное, я менял амплуа и жанр!
Естественно, все зрители, а это могли быть родные, соседи, знакомые и даже совсем незнакомые люди, глядя на меня, покатывались со смеху.
А в Грузии еще отдельно праздновали и свой День милиции: там тоже концерт. Я и его исполнял как положено, показывая всех участников по очереди.
Я не только актерствовал, но и сам ставил спектакли. Все, что видел в театре – допустим, «Иоланту» или «Травиату», – я должен был разыграть дома. Сам делал кукол из ниток, из тряпочек – из всего, что попадалось под руки…
Один раз я для своих декораций использовал занавеску из ванной – вырезал оттуда очень красивые цветы. Чтоб было понятно, занавеска немецкая, купленная по блату, дорогущая. Няня на кухне в тот момент что-то делала и не видела моего творчества. Мама вернулась домой и сразу углядела в занавеске огромные дыры вместо цветов. Ой, мне досталось… Я обратно все эти цветы вшил, вернул «флору» на место.
К слову, руки у меня к вышивке и шитью очень пригодные. Я смотрел на няню, она часто вышивала в свободное время, и учился. Вся одежда, которую я носил, если это было не привезено из Москвы, какие-нибудь модные костюмчики и рубашечки, была связана Бабой. Она вязала крючком все – вплоть до пальто. И делала это с невероятной скоростью и ловкостью. Утром перед тобой свитер, а вечером уже две кацавейки из него. Обычно как делают? Сначала распускают вещь, мотают нитку в клубочек, потом из него вяжут. А она, распуская старую вещь, вязала новую.
Но вязать я не научился – нет. Баба говорила, что я скупой. В смысле у меня характер скупого человека, потому что нитка не тянется. Зато я научился отлично вышивать. У няни в комнате стояли огромные пяльцы, она могла смотреть на какую-нибудь картину в книге и тут же вышивать ее, без всякой подготовительной разметки. У нас был огромный мешок с нитками: старинные мулине, не знаю откуда. Старинные мулине с этикетками допотопными – чуть ли не со времен царя Гороха.
Сначала я вышивал цветы на носовых платках, они были в моде. И я что-то такое вышил для мамы. Она очень рассердилась, считая, что мальчик должен строгать, пилить и все такое прочее. Мне тут же покупали набор для выжигания или «Юный конструктор». Но все, что имело надпись «Сделай сам!», я собирал с такой скоростью, что меня это больше чем один раз не интересовало. Слишком простое задание. Мне же, наоборот, хотелось что-нибудь необычное сделать, какую-нибудь корону смастерить. Я любил все, что связано с творчеством. Няня моя несчастная мучилась из-за этого. Не было ей со мной никакого покоя!
У меня было много пластинок со сказками, но в какой-то момент я стал покупать оперы и балеты. Стоили эти пластинки дорого, рублей по пять. Но денежка на них у меня имелась, ее часто дарили родственники.
С утра я включал проигрыватель, и начиналось нянино мучение, длившееся до самой ночи. Я вешал на дверь одеяло, типа декорации, залезал сзади на табуретку, поднимал вверх своих кукол – и начинался мой театр! Все было по-настоящему: звучала музыка Верди, Виолетта пела, а я с помощью кукол изображал сюжет.
Моей любимой постановкой являлась опера «Аида», потому что там надо долго показывать марш, у меня на такой случай были приготовлены слоны и верблюды. Няня не выдерживала: «Никочка, а можно сократить второй акт? У меня на кухне подгорает!» Но меня такими вещами не проймешь: «Бабуля, осталось недолго на часах». На самом деле мама и Баба святые были. Им пришлось столько всего из моего раннего творчества пересмотреть!
Мой первый выход в театр, который я помню, состоялся в возрасте 3 лет. Сначала мама сводила меня в грузинский кукольный театр, потом в русский кукольный театр, потом в знаменитый Театр марионеток. С тех пор я этот жанр просто обожаю.
Затем меня начали мучить консерваторией. А мне скучно, потому что никакого действия нет, театра нет, еще и свет в зрительном зале зажжен. Тогда мама сводила меня на «Травиату». Но главное, вскоре я посмотрел «Жизель». Мне исполнилось три с половиной года. С этого дня балет стал № 1 в моей жизни.
Шел утренний спектакль, танцевал чудный состав: Виктория Лаперашвили – Жизель, Мирта – Лиана Бахтадзе. Уже премьером Большого театра, приехав в Тбилиси, я встретил этих балерин: «Вы погубили мою жизнь! Вы так, бессовестные, хорошо танцевали, что заставили меня влюбиться в балет! Был бы я юристом – горя бы не знал!»
А когда я оказался на «Лебедином озере»… У нас шла ленинградская версия балета в 4 актах. На III акте мама, видимо, стала проклинать тот день, когда решила меня на балет привести. «Никочка, – сказала она вкрадчиво, – только что объявили, что у балерины болит нога, четвертого акта не будет». Я говорю: «Я не уйду». – «Ну ты же видел: Лебедь билась в окно, уже закончился балет». Я не сдаюсь: «Нет, еще будет озеро, Принцу должно быть плохо и стыдно». Из театра я не ушел.
В балете мне нравились все спектакли, без исключения. А в опере в приоритете был Верди: «Риголетто», «Аида», «Травиата», «Трубадур»; «Иоланта» Чайковского и, естественно, грузинские оперы «Латавра», «Даиси». Особенно я любил «Кэто и Коте» Долидзе.
Помню, с «Трубадура» измученная моей любовью к театру мама тоже меня хотела вывести – я кричал: «Нет, ее еще не сожгли!»
Я бесповоротно влюбился в Театр. Мне было все равно что смотреть, лишь бы там быть. Я когда увидел роскошную люстру в зрительном зале Тбилисского театра оперы и балета имени З. Палиашвили, лестницу, фойе с витражными окнами, узорчатые потолки, понял, что бесповоротно погиб!
На самом деле – что мне, ребенку, так понравилось в театре оперы и балета? Отвечаю: «обстановочка»! Вот оно – мое: шикарная лестница, много золота, хрусталя, большие пространства. После роскоши нашего тбилисского театра интерьеры Большого театра на меня в первый раз не произвели особого впечатления, не хватило помпезности, что ли. Это как в том анекдоте из 1990-х, когда «нового русского» спрашивают, мол, как ему Эрмитаж? А он отвечает: «Чистенько, но скромненько».
Мое детство прошло в Тбилиси. О том времени, времени Советского Союза, у меня какие-то радужные воспоминания остались, быть может, потому, что между людьми все очень по-доброму было.
В Грузии не притесняли никого, никогда. Там чтили все религии и национальности. Я помню праздники моего детства, когда люди надевали свою национальную одежду, готовили свои национальные блюда, ходили друг к другу в гости.
В 1980-е годы, когда в Советском Союзе прошла последняя перепись населения, в Тбилиси проживало всего тридцать процентов грузин, все остальные: евреи, армяне, русские, украинцы, немцы, французы, очень много азербайджанцев. Большинство жили по своим районам.
Что было в Тбилиси прекрасно – праздник там не заканчивался никогда. Если у евреев Ханука, мы идем в еврейский квартал, где у мамы много подруг, там безумно вкусно готовили. Потом европейское Рождество, потом наш Новый год, потом православное Рождество: стол – не стол, а скатерть-самобранка! Потом Сурб-Саркис, армянский праздник – День влюбленных, – мы идем к армянским родственникам. Когда завершался Рамадан, мы шли к азербайджанским знакомым, а там вообще все очень вкусно. И это продолжалось круглый год, ко всеобщему удовольствию.
Еще в Тбилиси жили езиды. У них собственная вера, не ислам и не христианство. Семья езидов жила прямо под квартирой няни, этажом ниже. Четыре девочки и один мальчик, Кемаль. Когда их папа умер, боже, какие были похороны шикарные! Как женщины рыдали, как гроб несли… На меня эта картина произвела большое впечатление.
Курдов в Тбилиси жило очень много. Колоритный народ. У женщин много юбок надевалось, все разноцветные. И чем больше юбок, тем больше достаток у этой женщины, значит, все у нее хорошо. Если курд собирался жениться, невесту полагалось выкупать, надо было много денег иметь. И все люди вокруг знали, что, например, одну невесту «продали» за 7000 рублей, а другую – за 5300 рублей.
Во дворе дедушкиного дома жила семья курдов с прыщавой, страшной дочкой. Ее отец говорил моему дедушке: «Пришло время, я ее за семь тысяч рублей не продам – за девять!» На что мой дед сокрушенно вздыхал: «Господи, у моей дочери два высших образования, аспирантура! Я бы сам приплатил эти деньги, но ее никто не берет!» А у той, курдянской девчонки, трех классов школы нет, ничего не знает вообще. «Нет, семь тысяч рублей не возьму, нет, семь тысяч рублей мало!» – продолжал сосед.
Еще курды в Тбилиси работали дворниками. Город находился в идеальном состоянии, чистейший. Но однажды, прямо в одну ночь, курды из города ушли. Жители поняли это утром, потому что улицы оказались завалены мусором. Советский Союз распался – у курдов появилась возможность вернуться на свою историческую родину, и они ушли в Турцию.
На самом деле с уборкой у курдов было не просто так. Они «держали» этот бизнес. Кроме них, город не убирал никто. Практически в каждом дворе обязательно жила семья курдов, которая там заправляла.
Жизнь в городе была настолько спокойная, что двери квартир не запирались вообще. Ключами практически никто не пользовался, если только ты не уходишь надолго или не уезжаешь. К соседям никогда не стучались. Мы просто открывали дверь и говорили: «Я пришел!» Когда я приехал в Москву, никак не понимал, что за дикие люди тут живут?! Если мне на уроке нужен ластик, я просто поворачивался и брал у кого-то ластик. Что тут такого? Потом, если у кого-то в Грузии был день рождения, вся школа праздновала. А не так, что: «Ты, Маша, приходи, а ты, Вася, не приходи».
Я же застал Тбилиси, когда на каждой двери писали, кто за этой дверью живет: профессор такой-то, академик такой-то, зубной врач такой-то. А в Москву мы приехали, здесь ничего подобного не было. И я все время удивлялся, почему не написано, кто живет?
С пяти лет я ходил по городу один, на большие расстояния ездил. Никто не волновался. У меня всегда денежки в кармане – сел и поехал, куда хотел. Я ездил от няни к маме и наоборот. Путь неблизкий: сначала на троллейбусе или автобусе, потом в метро с двумя пересадками, а потом еще пешочком шел. Няня жила в русской части города, индустриальной – там, где заводы. Мы-то жили совсем в другой.
Я абсолютно спокойно мог подойти на улице к любому человеку и сказать: «Тетя, здравствуйте, я заблудился, вы не можете мне помочь дойти туда-то?» Меня бы за ручку отвели! Помню, как я в пять лет на самолете летел из Тбилиси в Москву. Мама в очереди, где мы сдавали багаж, с кем-то договорилась, чтобы за мной присмотрели, и все.
Чемодан, который обычно ехал со мной в Москву, всегда превышал мой собственный вес: он был просто набит продуктами! Из Грузии обычно везли приправы – хмели-сунели, суджук, бастурму, зелень, сыр – то, чего не было в Москве. Хлеб я очень часто в руках вез, настоящий лаваш – шоти, целую сумку. Фрукты, вино. Боже, сколько вина в канистрах я перетаскал, будучи ребенком…
А из Москвы мы везли колбасу, особенно я любил венгерскую колбасу с перцем. До сих пор ее покупаю, когда бываю во Франции, в магазине «Hediard». И всегда везли сливочное масло: в Грузии сливочного масла в те годы не было, его выдавали, как и сахар, по талонам.
Я полюбил Москву сразу. Мне тогда исполнилось годика три, наверное. Приехали с мамой на зимние каникулы к ее единокровной сестре по отцу тете Зине. Мама, хоть и училась в МГУ, никогда не хотела в Москве жить, а я – наоборот. Однажды я услышал разговор. Мама вспоминала лето 1973 года, когда была беременна. По телевизору впервые показывали сериал «Семнадцать мгновений весны», в Подмосковье горел торф, и вся Москва стояла в дыму. Мама говорила: «Не переношу этот фильм, потому что, когда я слышу эту музыку, сразу вспоминаю ужасный запах гари и вкус творога». Видно, родня ее творогом кормила для моей крепости. Я ее спросил: «Зачем ты поехала в Тбилиси рожать?» – «Грузин должен был родиться в Грузии», – отрезала она. На что тетя Зина и говорит: «Я ей твердила то же самое: рожай в Москве, что ты едешь в Тбилиси?» Да, тогда мама меня не спросила, но я все равно вернулся туда, куда хотел…
В Москве я ходил на все елки, в музеи. Третьяковская галерея с утра до вечера, консерватория, «Рождественские встречи». Я не сопротивлялся, мне нравилось. Единственное, мама меня в Большой театр долго не водила. Мы ходили в Кремлевский дворец съездов, туда было легче достать билеты. Но настал день, когда я, десятилетний, в Большой театр все-таки попал. Я вошел туда и сказал себе: «Всё. Стоп, теперь я еду сюда!» Я сказал – и я сделал.
Мама, чтобы мы жили ни в чем не нуждаясь, все время работала, давала частные уроки, готовила к поступлению в вузы, и на физмат в том числе. Как педагог она обладала феноменальным терпением, могла в миллиардный раз объяснить одно и то же, не повышая голоса. В отличие от меня, у которого сразу летит стул и я – вслед за стулом. Даже двоечники, у нее занимаясь, сдавали на «5» ее предмет. Она даже «дерево» могла научить! Частные уроки обычно проходили на кухне нашей однокомнатной тбилисской квартиры.
Про курдов я уже рассказывал. Так вот: однажды у мамы появился новый ученик – курдянский мальчик. Его папа – какой-то очень богатый человек – хотел, чтобы сын поступил в престижный институт. А мальчик – абсолютное «дерево». Когда он с мамой занимался, я не мог сдерживаться, выбегал из комнаты и кричал: «Это закон Ома!»
Мама своего ученика очень жалела, время от времени пыталась его папе объяснить, что не надо мучить ребенка, он не может. На что неизменно получала ответ: «Я хочу, чтобы мой ребенок получил образование!» Няня этого мальчика тоже жалела. Он приходил, Баба его сразу кормила. А отец привозил его на урок и сидел в машине, сторожил. В итоге курдянский мальчик успешно сдал экзамен. Его отец принес маме какие-то дорогие подарки: «Мой сын вас очень полюбил, поэтому учился».
Хотя курды в то время как представители малых народов имели квоту при поступлении в учебные заведения. Они часто вообще отказывались учиться, даже школу не заканчивали. Просто в какой-то момент переставали туда ходить, их не могли заставить. Даже если их пригоняли силой, они сидели на уроках специально не отвечая. Их с такой «учебой» даже не могли перевести в следующий класс. А девочек, по-моему, после третьего класса родители вообще не пускали в школу.
Мама увлеклась театром в юности, когда вернулась в Тбилиси, в 1943 году. Она училась в средних классах женской школы. Тогда женские и мужские школы отдельно существовали. И только в последний год у них был общий класс с мальчиками. В районе проспекта Плеханова, где жили дедушка и мама, находились Театр имени К. Марджанишвили, грузинский Театр юного зрителя и русский Театр юного зрителя. Теперь улица отреставрирована, стала очень красивой и называется проспект Давида Строителя, в честь царя Грузии, Давида IV.
Так вот, тогда в русском ТЮЗе служил молодой начинающий актер Евгений Лебедев, впоследствии звезда ленинградского БДТ, друг и родственник тбилисца по рождению Георгия Товстоногова, который в это время уже ставил в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. Грибоедова.
Буквально через четыре дома от русского ТЮЗа стоит роскошный особняк, по-моему прежде принадлежавший богатому армянскому купцу. Это был Дворец железнодорожников, в котором Лебедев для приработка вел театральный кружок. И весь мамин класс – девицы – были в него влюблены, ходили на все его спектакли и, конечно, записались в этот кружок.
Мама мне рассказывала про все спектакли Лебедева, и особенно смешно про Бабу-ягу. Это была его самая знаменитая роль тогда. Слава богу, советское телевидение успело Лебедева в этой роли заснять!
Однажды я спросил маму: «А что вы ставили в этом кружке?» – «Мы играли „Ромео и Джульетту“», – важно сказала она. «Боже, а ты кем была?» – «Я была леди Капулетти». И она начала читать: «Тибальт! Тибальт! Дитя родного брата! О сын! О князь! О страшная утрата!..» Я знаю наизусть этот монолог, потому что мама часто его декламировала.
Хочу еще сказать, что мама обладала отличной памятью. Когда в школьные годы я зубрил, проклиная все на свете, «Песню о буревестнике» Горького, мама прочла мне ее наизусть от начала до конца, без запинки.
В 1986 году в школе, где работала мама и где начинал учиться я, закрыли русский сектор, то есть преподавание на русском языке. Маме пришлось срочно переучивать всю программу на грузинском, ей до пенсии оставалось два года или полтора. Она стала вести уроки на грузинском языке, наизусть заучивала эти учебники, потому что специальные люди – «проверяющие» – по классам ходили. Естественно, мама великолепно говорила на грузинском, но термины в физике – дело, конечно, специфическое.
Вернусь к театральному кружку Лебедева. Актрисами никто из этих девочек, его учениц, не стал, но театр они полюбили пламенно и дружили всю жизнь. Когда у Лебедева случались премьера или юбилей, они летели в Ленинград-Петербург. Если БДТ приезжал в Тбилиси, а театр часто тогда гастролировал, мамины подруги покупали билеты на все спектакли. Благодаря чему я видел «Историю лошади», «Хануму», «Энергичные люди», и не один раз.
Встречи «девочек» с Лебедевым после спектакля в Тбилиси или Ленинграде, куда меня тоже тащили, я наблюдал из угла, в котором мама меня оставляла. Они окружали его, и каждую он узнавал. Каждая рассказывала, сколько у нее детей, внуков и так далее. Он так их любил, этих девочек! Ну, «тетенек» уже тогда, конечно. В них он видел свою молодость.
Я помню какой-то разговор маминых подруг о том, что никто из них никогда не мечтал стать профессиональной актрисой. Если я сегодня встречаю кого-то, кто не хотел бы стать актрисой или балериной, то очень уважительно отношусь к этому человеку. Потому что актер – не профессия. Это диагноз на самом деле.
Меня в детстве очень интересовало, как так – мама занималась с Лебедевым и не захотела быть актрисой? Я тут же получил совершенно откровенный, в мамином духе, ответ: «Никочка! Ты что?! У всех наших отцов было одно мнение: артистки – это проститутки. Потому что у всех наших отцов были любовницы – артистки!»
Был у этих «девушек» еще один кумир – гениальный пианист Святослав Рихтер. Они постоянно летали и на его концерты. И не только на Рихтера… Есть в архиве советского телевидения запись 1986 года с концерта другого гения – Владимира Горовца. Среди зрителей в зале и я с мамой сижу.
Билеты нам доставала одна из маминых подруг по московской школе. Она служила главным администратором московской гостиницы «Варшава» – интуристовская гостиница, прямо за станцией метро «Октябрьская». Туда привозили дефицитные билеты в театры. Когда я уже учился в Московском хореографическом училище, мама мне дарила билеты в Большой театр, видимо, тоже «интуристовского» происхождения. Ничто меня не могло обрадовать так, как билет в Большой театр на балет «Щелкунчик». Это была самая большая радость в моей жизни. Сейчас думаю: кошмар какой, надо было деньги просить!
Поскольку я родился зимой, то должен был пойти в школу в 1979 году, но тогда мне исполнилось бы только 5 лет и 9 месяцев. Мама сказала: «Нет, надо нагуляться». И меня отправили в школу в 1980-м, после московской Олимпиады. Я пошел туда, где работала мама, на русский сектор средней школы № 162.
Раньше тбилисские школы имели по два сектора: русский и грузинский. Они размещались в одном здании: одна половина русская, другая – грузинская. Некоторые педагоги преподавали и на том и на другом секторе. Мама преподавала на русском. В эту школу она с тетей Дали Абуладзе перебралась из элитной школы в районе Ваке, где русский сектор «прикрыли». В то время во многих школах Тбилиси переходили на обучение только на грузинском языке.
Я пошел не в первый класс, а в класс «нулевой». Особой радости по поводу поступления в школу не испытывал. Азбуку я знал, читал на двух языках, говорил хорошо на четырех – русском, грузинском, украинском и армянском. Сейчас я армянский язык уже забыл. Но тогда говорил на нем довольно бегло, потому что отчим был армянином. Я общался с его племянниками, моими ровесниками, которые часто приходили к нам в гости. Мы разговаривали между собой, когда – на грузинском, когда – на русском, когда – на армянском, потому что все взрослые вокруг нас свободно говорили на этих языках. Вместо того чтобы учить французский и английский, я учил не то, что надо!
Умел считать я очень хорошо и без всякой школы. Мне мама объясняла задачи и примеры очень быстро с помощью уравнений. Какой-то квадратный корень я все время извлекал. И пока другие ученики делали длинные вычисления, я с помощью квадратного корня быстро получал ответ. И меня ругали за то, что уравнение у меня не на всю страницу, а в одну строчку – бац! Мне это не нравилось.
А вот театральное дело… За год до моего поступления в хореографическое училище в Тбилиси приехал на гастроли Театр кукол под руководством Сергея Образцова. Они привезли четыре спектакля. Я ходил каждый день, перезнакомился со всей труппой. Даже бегал им за пивом, лишь бы мне дали куклу в руках подержать, рассмотреть ее как следует. Если бы детей брали на работу в кукольный театр, я бы ушел туда сразу!
Видимо, я и в балет подался из-за того, что ребенком можно было легально на сцену выйти. Мне было все равно кем, лишь бы на сцену выпустили!
В первый же день в школе нас спросили: «Кем вы хотите быть?» Когда очередь дошла до меня, я почему-то ответил, что хочу быть воспитателем в детском саду. У меня реализовалось все! Теперь я действительно как ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой часто работаю «воспитателем в детском саду».
Но это не конец истории. Потом нам сказали: «Нарисуйте картинку, кто что хочет». И я нарисовал балерину. Такую полненькую, одетую в голубую пачку, с цветочками на голове. Сзади я изобразил что-то типа озера, и даже за́мок какой-то намечался. И большими буквами написал сверху: «БОЛЕТ». Теперь я могу с уверенностью сказать, что реализовалось все: и балет, и воспитатель детского сада, и боль.
Картинка очень долго у нас дома хранилась, но потом при переездах затерялась. Мама хохотала ужасно, когда ее увидела. Я помню, как стоял у нее в кабинете, а она мне говорила: «Никочка, какой позор, ты мой ребенок, как можно написать „болет“? Ты столько раз был в театре!» А я долго думал, как это слово написать. «Молоко» же через «о» пишется, я и написал. Не могло же это слово через «а» писаться! «Корова» и «молоко» через «о». Мне же говорили: «оро» и «оло». Раз там «л» стояло после «о», я подумал: ну, значит, «о»!
Со временем в школе стало как-то повеселее. В моем классе учились грузины, русские, украинцы, немцы, курды, армяне. Многонациональный класс, большой и дружный.
Вместе со мной учился Гриша Джагаров, он занимался плаванием. Я пошел с ним в бассейн. Мама уходила к 9:00 на работу, а мне в школу только к 14:00, мы во вторую смену занимались. Она и не догадывалась, что я на плавание стал ходить. Через три месяца моих тренировок к ней кто-то подошел: «Ламара Николаевна, вы знаете, надо за Нику заплатить». Она говорит: «За что заплатить?» – «Ну, он уже три месяца ходит на плавание». Она удивилась: «Как ходит на плавание?» Спрашивает меня: «Ника, а почему ты не сказал?» – «Все дети ходят туда, и я пошел». Очень самостоятельный был ребенок.
Уроки я тоже готовил самостоятельно, мама ничего не проверяла. Я знал, что, если не дай бог будет что-то не сделано, мне уши оторвут. Зачем рисковать?
Как можно быть не отличником с такой мамой? Стоило мне пошалить, ей тут же докладывали. Во время урока раздавался вежливый стук в дверь нашего класса, она открывалась – в проеме стояла моя мама. Она была крупная женщина, и фигура ее выглядела очень внушительно. Ровным голосом она обращалась к нашей учительнице: «Алла Михайловна, извините, можно Ника выйдет?» Я тихо выходил. Меня заводили в туалет и как следует поддавали. Потом я тихо возвращался в класс…
Поэтому, когда я поступил в Тбилисское хореографическое училище, я был самый счастливый человек на Земле. Мама уже не могла зайти в класс и позвать меня «на выход».
В школе я продолжал давать концерты, танцевал всегда и везде. Паркетные полы в то время натирали мастикой. Вся школа – коридоры, просторные вестибюли – блестели. А на мастике безумно удобно крутиться! Я крутился на ушах, на бровях, прыгал как ненормальный, пока с уроков маму ждал. У нее как педагога физики была лаборантская комната. Я там сам себе декламировал что-нибудь, а когда появлялся зритель, и сплясать мог.
Все вокруг говорили: «Ламара, отведи Нику в школу Чабукиани!» Сейчас Тбилисское хореографическое училище носит имя Вахтанга Михайловича Чабукиани, тогда оно так не называлось, но почему-то все говорили именно так. И когда я услышал слова «хореографическое училище», я их накрепко запомнил.
Я не раз просился на сцену, а мама объясняла: «На сцене выступают дети артистов. Ты же не ребенок артистов, кто тебя туда возьмет?» Она не видела мое будущее на сцене, ни в какие театральные кружки не водила. Скорее, «отводила» от этих кружков, чтобы я не знал, что они есть. Мне постоянно твердили, что все мужчины в нашей семье юристы! Какая может быть сцена, мальчик?
К моменту, когда я пошел в общеобразовательную школу, большой цветной телевизор мама все-таки купила. Правда, уходя из дома, она вынимала из него предохранитель и уносила его с собой, чтобы у меня не появилось искушения смотреть телевизор вместо домашнего задания. Но у меня на такой случай имелся собственный предохранитель, о чем мама, конечно же, не знала.
Но зато, даже когда все были дома и по телевизору показывали балет, никто уже не мог ничего другого смотреть. Я не позволял. Однажды показывали балет «Спящая красавица» с Ириной Колпаковой. У меня стояла парта раскладная, сижу за ней, делаю уроки и смотрю «Спящую красавицу». Пошли титры, читаю: «В спектакле принимают участие учащиеся Ленинградского Академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой»! Я к маме: «Вот, видишь, хореографическое училище!» А она: «Да, но это в Ленинграде, это далеко. Ты же там был, ты же видел Ленинград».
…1982 год, июль. Помню, мы сидели в «Катькином садике» – так называют сквер с памятником Екатерине Великой. Мама рассказала мне сначала про императрицу, потом очень подробно про Александринский театр, потом про балетную школу. Мы даже прошлись по улице Зодчего Росси, где эта знаменитая школа находится.
«Я тебя никуда одного не отпущу, – сказала мама. – Мы живем в Тбилиси, а в Тбилиси нет хореографического училища!» Вопрос был закрыт.
Я был очень подвижным ребенком, меня все время куда-то несло. Однажды поехал в гости к родственникам отчима, сел в троллейбус. Проезжаю какое-то здание, закрытое забором, а на заборе – огромное объявление, где красными буквами написано: «Набор в Тбилисское хореографическое училище». Светофор загорелся красным светом, троллейбус затормозил, и прямо перед глазами оказалась афиша с перечнем документов и датой вступительных экзаменов. Если б не красный свет, я бы, наверное, прожил счастливую и спокойную жизнь.
Но. Я доехал до следующей остановки, выскочил, побежал назад и заучил объявление наизусть. Пошел по указанному адресу – Плехановская улица, чтобы проверить, есть ли это училище на самом деле. Тбилисское хореографическое училище было мной обнаружено! Здание пряталось в кронах огромных старых платанов, и заметить его вход с вывеской со стороны улицы было непросто. Я пришел в замешательство, не мог представить, что мама меня обманывает. Она же не умела врать!
Дома я собрал все необходимые для поступления документы: свидетельство о рождении, фотографии. Заявление о приеме я написал за маму сам. Мне даже подпись ее не нужна была – я за нее все школьные дневники подписывал. Мне нужно было только одно: чтобы она со мной пошла за медицинской справкой, потому что мне, ребенку, ее не выдали бы.
Когда я сказал об этом маме, разразился страшный скандал. Разверзлись небеса. Крик, шум был такой! А я ей вдруг: «Тебя вообще кто спрашивает здесь? Твое мнение вообще никого не интересует. Это моя судьба, и я буду ее решать».
Мама была очень воспитанным человеком. Она не говорила громко, это только со мной было громко. Она была танком в образе кошечки: проезжая, не оставляла от оппонента следа, буквально закатывала в асфальт, но делала это всегда с доброй улыбкой и милой обходительностью. Мама всегда добивалась своего.
На ее пути мог стоять только один «заградотряд» – это дедушка. Потому что, когда дедушка появлялся в нашей квартире, мама становилась невидимой. Она ходила «по стенке», она вообще на меня не то что прикрикнуть, даже замечание мне не смела сделать. И я понимал: что-то здесь не то! Для дедушки Ника – это было всё. Он так долго ждал, когда его единственный официальный ребенок, его дочь родит… Тем более родился мальчик, и тем более – назван его именем.
Как-то дедушка сидел у нас, разговаривал с отчимом. Я как мужчина тоже сидел за столом. Мама что-то подносила, ставила на стол, уходила, но в какой-то момент вмешалась в их разговор: «Папа, мне кажется, ты неправ». В общем, вставила слово. Дед, не поворачивая к ней головы, сказал ровным голосом: «Ламара, а кто-то спрашивал твое мнение?» Мама стала тихо пятиться, и, когда дошла до двери, он, внятно произнес: «Место женщины на кухне».
И вот, через несколько лет, я, десятилетний ребенок, сказал ей, что «место женщины на кухне», что «твое мнение здесь вообще никого не волнует», что «от тебя требуется только подпись». Услышав это, она пришла в ярость. Но я не отступал: «Тебя просил кто-то меня рожать? Родила – подпиши!» И она вдруг сказала: «Хорошо. Ты хочешь по-мужски, значит, жить? Ладно. Но ответственность будет больше, чем у взрослого мужчины. Попробуй теперь сделать что-то не так!»
И сразу повела меня на бальные танцы.
Там мне совсем не понравилось, потому что на меня сразу накинулись все мамаши девочек, которые в этой студии занимались. Девочек много, мальчиков наперечет. Эти мамаши так меня напугали! А потом: я хотел в театр, мне нравились люстры, оркестровая яма, кресла, грим… А бальные танцы я не понимал. И хотя сам зал, в котором проходили занятия, был красивый и располагался в ротонде XIX века, я сказал: «Не-не-не-не, я туда больше не пойду».
Но мама не собиралась сдаваться. Что угодно – только не балет! И повела меня в Ансамбль народного танца Грузии под руководством Илико Сухишвили и Нины Рамишвили. Поступить в их школу было почти невозможно: конкурс сумасшедший, ансамбль имел мировую известность, много ездил за рубеж, и его ученики тоже ездили. Обучение как в хореографическом училище, только без общеобразовательной школы. Потому что и Нина, и Илья сами окончили хореографическое училище. Они были артистами Тбилисского театра. С детства дружили с Вахтангом Чабукиани, Наталией Дудинской, стажировались в Ленинграде. Где-то во время гастролей познакомились с Джорджем Баланчиным, у них сложились очень теплые отношения.
Именно Сухишвили и Рамишвили все танцы грузинские пересочинили и систематизировали. До них танцевали, как хотели. Именно они создали знаменитый грузинский танец «Лезгинка». Сами лезги, то есть дагестанцы, к этой пляске вообще никакого отношения не имели, у них такого танца и в помине не было. Никто до Сухишвили – Рамишвили этими вещами в Грузии не занимался. Канонические национальные костюмы разных народностей Грузии специально для ансамбля создали художники Сулико Вирсаладзе и Пётр Лапиашвили.
Но вернусь к моменту, когда мама привела меня на прием в ансамбль. В очереди отстояли, завели меня в зал. Ноги-то у меня красивые, фигура не похожая на остальных детей, стоящих рядом. И когда комиссия меня увидела, рассматривали пристально очень. Тут я «подъем» и вытянул. Все – ах! Лучше, чем у девочек. Стали со мной разговаривать по-грузински. Я ответил на русском, чем сильно их удивил, вид-то у меня чернявый. Кто-то попросил повторить показанное движение. А я говорю: «Не хочу грузинскими танцами заниматься». – «А чем ты хочешь заниматься?» – «Я хочу заниматься балетом, но мама меня привела к вам». Они говорят: «Есть же хореографическое училище, надо сказать маме, чтобы она тебя повела туда». – «Моя мама говорит, что в балете все мужчины – не мужчины, и привела сюда», – пояснил я без всякого смущения. Вместо «не мужчины» я использовал другое слово, которое произносила мама, но его значения я тогда, конечно, не понимал. Я просто не знал такого слова.
Комиссия умерла! Люди рыдали от смеха, в голос рыдали! Нина Рамишвили говорит: «Позовите, позовите маму!» Меня вывели, а маму завели. Когда мама оттуда вышла, мне очередной раз наподдали. Я тогда не понял, за что.
Оказалось, маме сказали: «Отведите его в балет», во-первых. Во-вторых, ей сказали, что не все мужчины в балете «не мужчины». В-третьих, стали ей объяснять, что у меня феноменальные ноги, абсолютный слух и редкое чувство ритма.
«Мы-то вашего ребенка возьмем, – сказала Нина, – но он ОТТУДА. Отведите его в хореографическое училище!»
Хотя все мои родственники по-прежнему считали, что неприлично быть артистом, мама после разговора в ансамбле повела меня в хореографическое училище. Оно находилось неподалеку от здания ансамбля Сухишвили – Рамишвили, с другой стороны площади Марджанишвили.
I тур. Хорошо помню, как все проходило. На меня это произвело впечатление. В комиссии – грузинские дамы с веерами: июнь, жарко. Детей заводят по очереди – в трусиках. И когда заводили мальчика, комиссия восклицала: «О, мальчик! Слава богу!» Мальчиков приходило мало.
И тут завели меня. Охи, ахи, вздохи, типа сделай так… Но – за «шаг» мне поставили «3»! Я ногу за ухо закладывал, не говоря уже о стопе́, а они! Сумасшедшие люди. Я видел эти документы собственными глазами. И еще в приемных документах, в графе «Отличительные черты», стояло: «короткая шея, большие уши». Причем рядом вклеена моя фотография – вот с тако-о-ой длинной шеей. Да, уши большие, ничего не скажешь, уши большие у ребенка были.
Кстати, когда позднее меня просматривали в Московском хореографическом училище, мне тогда тоже за «подъем» – «4» поставили! Я спросил своего педагога П. А. Пестова, почему так нечестно они поступали, он заявил: «Потому что, если ребенка отчисляли или травма какая-то происходила и мамаша шла в суд… Мы ей на основе таких документов с низкими оценками: „Видите, какого неспособного ребенка мы взяли?!“» Я ему: «А мамаша возьми и предъяви мою ногу с „подъемом“?!» – «А-a-a! Так это мы развили!» – тут же нашелся Пётр Антонович.
Но самое ужасное чуть не произошло на II туре вступительных экзаменов. И здесь я рисковал навсегда потерять балет. Мы пошли на медицинский осмотр в поликлинику.
Меня как позднего ребенка с детства проверяли доктора постоянно. Мама считала, что с моим здоровьем может пойти что-то не так и что надо за ним серьезно следить. Она все держала под контролем. Я кровь сдавал каждые полгода. Накануне II тура меня доктора снова проверили. Все было в норме. Каждый раз, когда мама приводила меня в больницу, знакомый врач говорил: «Оставь ребенка в покое, Ламара, ну оставь». – «У него не хватает веса!» – «Оставь, он просто другой конституции». – «Что значит – „другой конституции“? Я же – нормальная!» – «Он мужчина, у него по-другому». – «Нет, он плохо ест!»
Представьте себе, меня будили в 6:00 и вливали в меня взбитое яйцо с рыбьим жиром и какой-то дополнительной гадостью. А потом она хотела, чтобы в 9:00 я снова ел. В меня впихивали дикой величины бутерброд со сливочным маслом и черной икрой, слоем в палец. И тут же: «А второй бутерброд?» Я говорю: «Мама, я не хочу». Бутерброд был размером с мое тело! Вечером все повторялось заново.
Но маму можно понять. Все мои ровесники: пухленькие розовые, сдобные дети, коротконогие, короткорукие. А я – худой, без щек и без румянца. Я был виноват во всем, даже в том, что мои тощие длинные руки спускаются ниже колен. В общем, ужас, а не ребенок!
…Итак, мама сидит в коридоре поликлиники, я брожу по докторам. Сдал кровь, выхожу из очередного кабинета – в коридоре толпа. Подхожу и вижу, что мама лежит в обмороке. Оказывается, вышла медсестра: «Кто здесь мамаша Цискаридзе? У вашего сына гемоглобин как у покойника!» Потом выяснилось, что лаборантка перепутала пробирки! К счастью, тут же сделали повторный анализ, гемоглобин оказался в норме. Но как только мы вышли из поликлиники, мама, ругаясь, что я плохо ем, повела меня в «Хачапурную», где заставила съесть три огромных хачапури. И еще в меня влили несметное количество полезных соков с витаминами.
В общем, на III тур я пришел сильно поевший. И нас, детей, попросили… спеть песенку! Это же Тбилиси!
…У нас был завхозом в училище армянин, Аркадий Тигранович – к сожалению, забыл его фамилию – такой полный мужчина с усами. Его все Аликом звали. Во время приемных экзаменов он, такой грозный, сидел обычно у двери, откуда запускали-выпускали детей, и говорил: «Что, это тебе что, папин дом, мамина контора?! А ну, зайди-выйди!» И вот стали просматривать одного армянского мальчика. Физических данных никаких, хоть убейся. Алик, как армянин армянину, решил помочь. Спрашивает мальчика: «Ва, может, ты песню знаешь?» А ему из комиссии: «Алик, отпусти его, не надо! Жарко! Давай уже следующего смотреть!» – «Не-не-не, пусть споет», – уперся Алик. Мальчик в ответ: «Ну, знаю я одну песню…» – «Ва, только одну песню?» – «Да». – «Какую?» – «Мама». – «Ну, пой!» И ребенок запел: «Я ва-а-а-ашу маму, я ва-а-а-ашу маму, я ва-а-а-ашу маму…» Комиссия полегла от хохота. И когда мальчик вышел, Алик огорченно подвел итог: «Ва-а-а, он еще и нашу маму!»
Для своего III тура я взял самую «легкую» песню, конечно. До сих пор не знаю, зачем в хореографическом училище петь. Но я спел: «В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и крылатые качели…» Комиссия рыдала, «петуха» я давал постоянно… Сначала я вообще хотел петь «Миллион алых роз». Но когда я репетировал, отчим мрачно сказал: «„Миллион разных поз“ не надо петь комиссии!» Потом я хотел петь «Айсберг». «Айсберг» тоже не разрешили. Репертуар Аллы Пугачевой в моем исполнении был безвозвратно забракован. И я остановился на песне «Качели» Е. Крылатова, потому что мне нравилось очень, что «взмывая выше елей».
Песню-то я спел, но, когда III тур закончился, мне никто ничего не сказал: приняли – не приняли? Это же Тбилиси! Мама тут же отправила меня с двумя трехлитровыми банками черной икры в Абастумани – укреплять здоровье. Я ждал, когда она приедет и все расскажет. Я не сомневался, что принят.
Наконец мама приехала и сказала, что я учусь в хореографическом училище. Мы привычно съездили в Москву, потом вместо Пицунды поехали на море в Леселидзе. Месяц жили на море. Я готовился к балету.
Вы думаете, 1 сентября 1984 года я шел в хореографическое училище? Нет! Я рвался на сцену. Я был уверен, что уже завтра участвую в «Жизели», в «Дон Кихоте», в «Лебедином озере»…
Мое 1 сентября пришлось на субботу, никаких уроков. Я томился в своих ожиданиях. Занятия начались только 3 сентября. Ирина Ивановна Ступина стала моим первым педагогом классического танца. Грузинских детей она не жаловала. Сразу нам сказала: «Вы бездарные, страшные дети!» Мама, узнав об этом, отреагировала: «Видимо, какой-то грузин ее все-таки недолюбил».
Потом выяснилось, что Ступину нашим классом наказали. Обычно она вела девочек: 1—5-й классы. Ирина Ивановна окончила Вагановское училище, Чабукиани привез ее в Тбилиси из Ленинграда. У нас в театре она значилась солисткой, шустрая, ловкая, с очень красивыми ногами и изумительной стопой, танцевала все вставные pas de deux.
На момент моего поступления Тбилисское училище возглавлял Гоги Алексидзе. Работали: ученица А. Я. Вагановой – Маргарита Гришкевич, одноклассница Аллы Шелест, в прошлом пермский педагог; ученица Е. Н. Гейденрейх – Нинель Сильванович. Педагогический костяк был в школе на уровне, хороший.
В первый же день Ступина нам сказала, чтобы на следующий урок мы принесли маечку, трусики для занятий и большое полотенце. Я маме и говорю: «Наверное, мы будем плавать». Мне в голову не приходило, что нас на пол положат. Два месяца мы занимались только гимнастикой, лежали на полу, делали шпагаты, пресс качали… Несчастные дети. Я танцевать шел, понимаете? У меня репертуар был! А меня положили на полотенце и заставили делать какую-то физкультуру. Мало того, Ирина Ивановна на первом же уроке села на меня – и я растянулся в шпагат. Сразу! С диким криком. Я крикнул так, что меня слышно было в Москве.
Мы все стояли на одной боковой палке, там другой не было. Зеркало размещалось не на большой стене, а на той, что поменьше. Полы ровные, без поката, потому что в Тбилисском театре на сцене ровный пол. Вот мы у станка и делали plie с tendu до конца октября.
Я, что греха таить, сильно приуныл, но терпел. Как я мог не выдержать? Мама же сказала: «Ты не выдержишь. Что? Ты будешь стараться? Ты не будешь стараться!» И добавила: «Принесешь хоть одну тройку – вылетишь в окно». Но, так как все в училище сразу поняли, что я – «будущее мирового балета», мне «3» никто и не ставил.
Однако скоро случилось такое, что меня едва не отчислили. Классы соревновались – к какому-то празднику коммунистическому мы должны были сделать стенгазету. Ну, естественно, я был старостой, я же очень активный ребенок.
Тут надо сделать отступление: во дворе у Бабы жила пожилая русская пара – дедушка с бабушкой. Они очень меня любили, чем-то угощали всегда, я к ним часто в гости ходил. У них никого из родни не осталось, и, когда они скончались, их вещи разобрали соседи. Кто мебель взял, кто книги – у них огромная библиотека была. И какие-то альбомы по живописи, журналы, связанные с балетом, взял я.
У меня на веранде стоял шкафчик, где игрушки хранились. Я стал вырезать из этих журналов разные балетные фотографии и маленькими гвоздиками прибивать их внутри шкафчика. Поразительно, но и шкафчик, и фотографии до сих пор находятся на своих местах…
И вот стенгазета. Называлась она – «Наша мечта». Соревновались все классы. Комиссия из педагогов ходила и выясняла, чья же «мечта» лучшая, какой класс выиграет? Я как староста подошел к делу творчески, подготовился. Достал дома свои журналы и навырезал оттуда очень красивых фотографий. Принес их в школу, приклеили, повесили. И оказалось, что все – «дети как дети», а наш класс – диссидент! Потому что у меня в стенгазете рядом с фотографиями Е. Максимовой, В. Васильева, Н. Павловой оказались: М. Барышников, Н. Макарова, Р. Нуреев, А. Годунов…
Когда в наш класс зашла комиссия, они сделали так: «А-ах!» На дворе 1984 год. Такой скандал разразился… Такой стоял крик… «Кто сделал? Цискаридзе сделал? Мамашу в школу! Как вы могли, вы же педагог?! Вы что, не можете объяснить ребенку, что это предатели Родины?»
А газета – ватман гигантский с большими портретами. И в центре моей композиции – Макарова, а над ней написано – «Наша мечта». Годунов, слава богу, хоть с Плисецкой сбоку красовался.
Мама пришла в училище объясняться: «Вы поймите, ребенок не знает, кто эти люди, он не знает, что такое предатели Родины, он не знает, что они сбежали». – «Как?! Вы должны такие вещи рассказывать». В общем, тогда я узнал, что, оказывается, это люди, которые сбежали. Куда сбежали, зачем сбежали – мне никто, естественно, не объяснил. В общем, меня из школы чуть не выставили.
1984 год был последним, когда мы учились в старом здании училища. Переезд готовился постепенно, понемногу все выносили, выносили…
Что мне очень нравилось в училище? Если на специальных дисциплинах и репетициях я старался, готов был из кожи лезть, то на общеобразовательных уроках я мог вообще ничего не делать. Меня вся школа обожала за красивый «подъем». А если я ногу вынимал в écarté… – это вообще было все! Ставили «5» по любому предмету.
Рассказываю, как меня научили ноги на adagio держать. Наш зал размещался на четвертом этаже особняка. Но этот четвертый легко тянул на седьмой, потолки там очень высокие. Ступина мне говорит: «Если ты еще раз опустишь на adagio ногу, я тебя выкину в окно». Но я, видимо, опустил. Она меня схватила и… в открытое окно – носом! Помню крупным планом кроны деревьев, а внизу троллейбус едет. После этого случая я в adagio стоял как вкопанный.
Но в какой-то момент мама обнаружила, что я пишу с дикими грамматическими ошибками. Что по-французски, кроме слова «бонжур», я не знаю ничего. Что на фортепиано я не ходил полгода, даже не заглядывал туда. А я рассуждал так: если у ребенка есть écarté, зачем ему фортепиано и все остальные предметы? Мама страшно рассердилась. А я ей ответил, что я типа «звезда», артист, зачем мне читать-то? У нас есть радио, есть пластинки. Зачем читать?
Влетело мне за такие слова основательно. Но самое страшное мамино наказание было – «ты не пойдешь в театр». Я сидел дома, писал, читал и ей все пересказывал. Чудовищная была экзекуция, когда она заставила читать «Алые паруса» Грина, будь они неладны! Мама сказала: «Не прочтешь – не встанешь». Я должен был дочитать до вечера эту книгу. Хотя я знал сюжет – я же фильм видел! Но «дознание» проходило по всему тексту, «с пристрастием».
Как я уже говорил, в годы моих занятий в Тбилиси училище возглавлял Гоги (Георгий Дмитриевич) Алексидзе. Он практически не заходил в школу, появлялся там только на госэкзаменах или когда ставил нам какой-нибудь номер. В то время Алексидзе руководил еще и театром.
Внешне Гоги мне совсем не нравился. Невысокого роста, брюнет с проседью. А у меня вообще все, что темное и невысокое, – не считалось красивым. Человек с темными волосами выбывает из списка «первых красавиц Королевства»! Я тоже у себя в этом смысле по красоте не рассматривался…
Но как человек Алексидзе был очень симпатичным, с хорошими манерами, прекрасно говорил на грузинском и на русском. Непосредственно с Гоги я встретился во 2-м классе. Он ставил номер на музыку Ж. Бизе из цикла «Детские игры». Всегда приходил на репетиции с тетрадкой, у него уже было все поставлено и записано, он только показывал.
В том номере танцевало много детей, человек сорок. Я был «шагаст», и Гоги сочинил мне соло в три прыжка. Это было так ответственно, что перед выходом, за кулисами, мне все желали каких-то удач. Помню, мои fermés всех приводили в восторг. Мальчик ножки открывал почти в шпагат…
На годовом экзамене по классическому танцу я получил свою «5» у Ступиной… Хотя Ирина Ивановна держала нас в ежовых рукавицах, мы ее очень любили. Именно она меня «поставила на ноги» – на экзамене в конце года все мальчики делали préparation и стояли в позе, а я делал три pirouettes вправо, потом три pirouettes влево. В легкую! Ступина сразу учила ногу держать при вращении на высоком passé. И это правильно.
25 апреля 1985 года в выпускном концерте хореографического училища я танцевал номер на музыку Д. Шостаковича «На реке». Это был мой первый выход на сцену в качестве профессионального артиста. Сюжет номера простой – маленький мальчик удит рыбку и нечаянно удочкой цепляет купальник одной девочки. Тут выходят восемь ее подруг, отпускают всех пойманных рыбок, отбирают у мальчика удочку и спихивают его, бедного, в воду.
Шостакович для меня – счастливый композитор, поэтому, когда в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой я сочинял для учеников свой первый в жизни выпускной экзамен, то взял его музыку. Да и первая моя сольная партия Конферансье на сцене Большого театра была в балете Шостаковича «Золотой век».
В конце года меня заняли в «Дон Кихоте». В редакции В. Чабукиани, которая шла на сцене Тбилисского театра, в жмурки с Санчо Пансой играют дети, мальчики, а не шесть танцовщиц, как в классической версии. (Я всегда недоумевал: почему эти девицы там находятся?)
Всей полноты своего счастья я еще не понимал. Нет. Мне нравился запах кулис, мне нужно было видеть, как одевается в декорации сцена, чтобы по ней режиссер ходил… После первого выступления в «Дон Кихоте» я каждый свободный от школьных репетиций вечер ходил в театр. Администратор сказал маме: «Слушай, Ламара, поставь ему лежанку в моем кабинете, пусть живет здесь. Что ты его все время домой? Зачем он туда-сюда ездит, тратитесь на троллейбус». В театр меня пускали без всяких пропусков. Меня знали все! Когда я шел, они говорили: «Никочка, привет!» Там меня все обожали.
В Тбилиси часто приезжали ленинградцы: у нас хорошо платили. Танцевали «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель». И вот как-то приехала Маргарита Куллик с Махаром Вазиевым танцевать балет «Дон Кихот». Я, естественно, в кулисе. Вижу, Вазиев не может Риту в поддержку поднять. Она стоит в кулисе, его уговаривает: «Махарчик, я сама прыгну, ты только подставь руку!»
В этот момент я увидел Вахтанга Чабукиани. Он пришел, потому что Рита была любимой ученицей Н. М. Дудинской, его многолетней партнерши в Ленинграде. Вахтанг обошел Махара, стоявшего на его пути, с какой-то откровенной брезгливостью, подошел к Рите, поцеловал ее и подарил огромный букет кавказских гвоздик с потрясающим ароматом. Таких гвоздик больше нет нигде. Рита до сих пор их вспоминает…
Китри в «Дон Кихоте» на сцене театра Палиашвили была переименована в Челиту, потому что «китри» по-грузински переводится как «огурец». В этой роли есть момент, когда балерина должна кому-то на сцене отдать свой веер и взять взамен бубен. Рита подошла к режиссеру, ведущему спектакль, я называл ее «тетя Рузанна», и говорит: «Мне надо отдать веер и взять бубен. К какому артисту я могу обратиться, скажите, пожалуйста?» Тетя Рузанна отвечает: «Какой артист? Вон Ника ходит, Нике скажи, Ника вам все сделает». Я помню, Рита ко мне подошла: «Молодой человек… – а мне одиннадцать лет, – вы точно знаете, в какой момент надо взять веер, не перепутаете?» Я на нее посмотрел и выдал: «Да я за вас станцевать могу!»
Вспоминая об этом сегодня, Рита говорит, что этого ребенка она не забудет никогда…
На спектакле я все точно сделал. Дело в том, что Рите я не соврал, я действительно знал всю партию Китри – Челиты наизусть. И не только ее. Я знал ВСЕ партии в этом балете. У меня феноменальная память на танец. Мне ничего специально не надо показывать. Я запоминаю танец… не знаю, каким образом. Я смотрю – и я знаю. Тетя Рузанна потому и указала на меня: «Какой артист? Нику позовите!»
Как же мне нравилось, когда тетя Рузанна, стоя на сцене, говорила в микрофон: «Дорогие артисты, я даю третий звонок…» Я уже был известным исполнителем, и, когда приезжал танцевать в Тбилиси, тетя Рузанна по-прежнему была на своем месте и говорила в микрофон: «Дорогие артисты, я даю третий звонок…»
Мне с детства было важно, просто жизненно необходимо, состоять при Театре. Я не только в балетах, но и в операх участвовал. Есть фотография, где я рядом с Паата Бурчуладзе в «Дон Карлосе» стою. Я мог и «Аиду» спеть от начала до конца, и «Риголетто». Я выходил во всем. Если надо было пройти по сцене позади всех три шага – это был я.
Когда заканчивался мой первый год учебы в училище, В. М. Чабукиани исполнялось 75 лет. Он долгие годы был персоной нон грата. В 1970-х годах случился громкий скандал. Рассказывали, что однажды Вахтанг уехал на дачу с каким-то красивым балетным мальчиком. Вечером туда нагрянули соответствующие органы. Чабукиани потерял сразу все посты и в театре, и в школе. Но в год юбилея все вдруг изменилось.
Чествовали Чабукиани с большим размахом в театре. Сначала шел балет «Горда», легенда о Сурамской крепости, на музыку Д. Торадзе. Вахтанг поставил его и сам станцевал главную роль на этой же сцене в конце 1940-х. Очень красивый национальный балет с потрясающими танцами.
Когда спектакль закончился и снова открыли занавес, Чабукиани сидел на сцене в золотом кресле, к которому вела лестница. Мы, дети, стояли рядом с цветочками в руках. Так как я был «самый-самый», тетя Рузанна поставила меня прямо у кресла. И началось… Выходили разные люди, говорили какие-то дежурные слова, к ногам Вахтанга возлагали подарки. Все как обычно и страшно скучно.
И вдруг заиграла музыка. На сцене появилась Вера Цигнадзе, которая танцевала с Чабукиани в «Отелло». В руках у нее были цветы. Она появилась так же, как в балете, когда Отелло впервые видит Дездемону. В отличие от всех, Вера молча подошла к подножию лестницы, опустилась на колено и рассыпала у его ног свои цветы… Именно в этот момент зазвучал «Мавританский танец» из балета «Отелло». Вахтанг вдруг вскочил с кресла и затанцевал!
Я стоял в полуметре от него и не верил своим глазам. Еще пару часов назад я видел перед собой старого, почти немощного человека в не очень ловком паричке, с палкой в руках. Его вели под руки. Какое разочарование! Я же помнил Чабукиани «по телевизору» – красивым, сильным, с рельефно очерченным телом… А тут передо мной, еле передвигая ноги, шел дряхлый дяденька.
Но когда Вахтанг начал свою гениальную пляску, произошло что-то неимоверное. От него пошел ток такой невероятной силы, как будто целая электростанция заработала. Что началось в зале! Публика просто в голос вопила от восторга. Когда музыка умолкла, Чабукиани пришлось подхватить и помочь ему сесть обратно в кресло.
С этого момента Вахтанга «воскресили», пригласили в школу преподавать. Я во 2-й класс перешел, а на II курс, где учился Игорь Зеленский, пришел преподавать Чабукиани.
Новый учебный год начинался уже в новом здании училища, на улице Орджоникидзе. Есть фотографии и даже видеозапись – я там стою, и Вахтанг перерезает ленточку. Но сегодня тбилисская школа находится в другом месте. Старый особняк сильно пострадал во время землетрясения, пришлось снова переезжать.
Летом 1985 года в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Меня, среди других учеников Тбилисского училища как участников культурной программы, привезли на два месяца в столицу. Из них мы полтора месяца репетировали и неделю с лишним выступали. Было несколько программ на разных площадках в «Лужниках». Помню номер на музыку И. С. Баха. В нем принимало участие более двухсот детей из Новосибирского, Пермского и Тбилисского училищ. Танцевали мы под аккомпанемент пятисот скрипачек – маленьких девочек, которых тоже со всего Союза собрали. В финале танцующая масса выстраивалась в разноцветный пятилистник – эмблему фестиваля.
Мы жили около метро «Войковская» в доме-интернате, директор которого громко возмущалась: «Мы наших детей кормим в день на 1 рубль 20 копеек, а вы каждый день едите на 3 рубля 25 копеек!» Но мы же были не виноваты, что у нас в столовой банки с черной икрой на столах стояли! Кстати, эту икру и не ел никто, потому что она никому на вкус не нравилась.
Кроме репетиций и выступлений, нас возили на экскурсии по городу, по музеям и по магазинам. Параллельно с фестивалем в Москве проходил V Московский международный конкурс артистов балета. СССР представляли: Нина Ананиашвили с Андрисом Лиепой, Вадим Писарев, Жанна Аюпова, Татьяна Чернобровкина и Галина Степаненко.
Между I и II турами конкурса в Большом театре, на дневном спектакле, показывали балет «Щелкунчик» Ю. Григоровича. Помню, мы, дети, тянули жребий: кто-то шел в Мавзолей В. И. Ленина, а кто-то – в Большой театр. Я вытащил билет в ГАБТ, на 3-й ярус, неудобное место. Но какое счастье!
Поскольку мама старалась не оставлять меня одного, она и на этот раз поехала за мной в Москву. И, естественно, тоже решила отправиться в Большой театр. Мама долго прихорашивалась, я понимал, что мы опаздываем, и ужасно злился. Разругавшись в метро, я бросил ее и понесся навстречу своему счастью. Правда, успел договориться увидеться с ней в антракте. Увертюры Чайковского к «Щелкунчику» в тот раз я не услышал. В 12:00 все входы в зрительный зал оказались закрыты, и я побежал на самый верхний, 4-й, ярус, куда пускали опоздавших.
Я уже говорил, что никогда не был в этом здании. Но удивительное дело! Как только я туда попал, понял – я этот театр знаю как свои пять пальцев. Та скорость, с которой я поднялся на 4-й ярус, никуда не свернув и не заблудившись, необъяснима. В общем, впервые я увидел сцену Большого театра с центрального прохода 4-го яруса, сквозь огромную хрустальную люстру зрительного зала. Спектакль уже начался. Я смотрел I акт «Щелкунчика» стоя.
А дальше случилась совершенно мистическая история. В антракте, спускаясь к маме, я пробегал мимо одного из больших зеркал, справа и слева у входа в партер были такие зеркала. Много людей, а я бегу, потому что мы договорились встретиться у двери центрального входа. И вдруг я останавливаюсь у зеркала и вижу себя, сразу в трех возрастах: я маленький, я, которому лет тридцать пять или сорок, и я, которому, наверное, лет семьдесят – восемьдесят. И больше нет никого. Всего три фигуры, и все – я… Стою, смотрю на это изображение, обалдевший абсолютно. Это странное видение длилось несколько секунд…
Но II акт «Щелкунчика» я смотрел уже из партера. Волевым решением забрал мамин билет, купленный ею у спекулянтов около театра. Я не был удивлен, увидев маму, сидящую недалеко от меня. Ее традиционные три рубля «работали» и в ГАБТе.
Прошло много лет. В 2005 году я пришел прощаться с Большим театром перед его закрытием на так называемую реконструкцию. В абсолютно пустом здании ходил. Целовал стены, трогал стулья, вдыхал любимый запах кулис – в общем, я с ним прощался, потому что на следующий день театр начинали рушить. И случайно – не знаю, как оказался на том же месте, – я опять увидел в зеркале партера себя в трех возрастах! Мистика какая-то…
