Белая гвардия бесплатное чтение
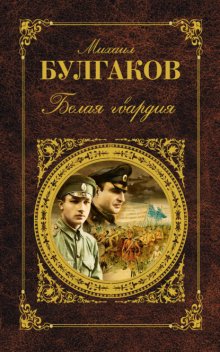
Часть I
Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.
– Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!
«Капитанская дочка»
И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими…
1
Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.
Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.
Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх… эх…
Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и «Саардамский Плотник», и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:
– Дружно… живите.
Но как жить? Как же жить?
Алексею Васильевичу Турбину, старшему, – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу, – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.
Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:
– Живите.
А им придется мучиться и умирать.
Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:
– Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот…
Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.
– Что сделаешь, что сделаешь, – конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) – Воля божья.
– Может, кончится все это, когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? – неизвестно у кого спросил Турбин.
Священник шевельнулся в кресле.
– Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но унывать-то не следует…
Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.
– Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. – Большой грех – уныние… Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, – он говорил все увереннее. – Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше всего богословские…
Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:
– «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».
2
Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.
Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна.
В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.
– Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.
Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.
– Вот бы подстрелить, чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю – это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.
– А ну их… Идем. Бери.
Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.
Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:
Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь. Союзники – сволочи.
Он сочувствует большевикам.
Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
Улан Леонид Юрьевич.
Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!
Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.
Подпись:
Бей Петлюру!
Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:
Елена Васильна любит нас сильно.
Кому – на, а кому – не.
Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж № 8, правая сторона.
1918 года, мая 12 дня я влюбился.
Вы толстый и некрасивый.
После таких слов я застрелюсь.
(Нарисован весьма похожий браунинг.)
Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!
Июнь. Баркарола.
- Недаром помнит вся Россия
- Про день Бородина.
Печатными буквами, рукою Николки:
Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер.
1918 года, 30-го января
Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе – в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень… Неопределенно трень… потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо…
На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)
Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.
Старший бросает книгу, тянется.
– А ну-ка, сыграй «Съемки»…
Трень-та-там… Трень-та-там…
- Сапоги фасонные,
- Бескозырки тонные,
- То юнкера-инженеры идут!
Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах – жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.
- Здравствуйте, дачники,
- Здравствуйте, дачницы…
Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут – ать, ать! Николкины глаза вспоминают:
Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.
Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор…
- Здравствуйте, дачницы,
- Здравствуйте, дачники,
- Съемки у нас давно уж начались.
Туманятся Николкины глаза.
Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.
Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.
Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.
– Погодите. Слышите?
Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились – пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у… Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.
В гостиной – приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.
– Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.
Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?
Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.
– Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело…
– Ну да, тебя там не хватало…
Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли – самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.
В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то что на подступах к Городу – коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы – приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства… Эх… эх…
На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем как у Момуса.
В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.
Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?… Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленою остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «…мрак, океан, вьюгу».
Не читает Елена.
Николка наконец не выдерживает:
– Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть…
Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и – тонк-танк – идет к четверти одиннадцатого.
– Потому стреляют, что немцы – мерзавцы, – неожиданно бурчит старший.
Елена поднимает голову на часы и спрашивает:
– Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? – Голос ее тосклив.
Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.
– Ничего не известно, – говорит Николка и обкусывает ломтик.
– Это я так сказал, гм… предположительно. Слухи.
– Нет, не слухи, – упрямо отвечает Елена, – это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.
– Чепуха.
– Подумай сама, – начинает старший, – мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе как бандит. Смешно.
– Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.
– Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.
– Так, по-вашему, Петлюра не войдет?
– Гм… По-моему, этого не может быть.
– Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.
– Но боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и…
– И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.
– Почему же его нет?
– Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.
– Революционная езда. Час едешь – два стоишь.
Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:
– Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали…
Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ – вот он. Пожалуйста:
Союзники – сволочи.
Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили – раз, и тотчас же часам ответил заливистый, тонкий звон под потолком в передней.
– Слава богу, вот и Сергей, – радостно сказал старший.
– Это Тальберг, – подтвердил Николка и побежал отворять.
Елена порозовела, встала.
Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
– Здравствуйте, – пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.
– Витя!
Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.
– Откуда ты?
– Откуда?
– Осторожнее, – слабо ответил Мышлаевский, – не разбей. Там бутылка водки.
Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
– Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.
– Ах, боже мой, конечно.
Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.
– Ну, конечно… Полно. Кишат.
– Вот что, – испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. – Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.
В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
– Легче… Ох, легче…
Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду – пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.
- Слух… грозн…
- Наст… банд…
- Влюбился… мая…
– Что ж это за подлецы! – закричал Турбин. – Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?
– Ва-аленки, – плача, передразнил Мышлаевский, – вален…
Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:
– Кабак!
Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:
– Снимите, снимите, снимите…
Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.
– Неужели же отрезать придется? Господи… – Он горько закачался в кресле.
– Ну, что ты, погоди. Ничего… Так. Приморозил большой. Так… отойдет. И этот отойдет.
Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.
Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».
– Гетман, а? Твою мать! – рычал Мышлаевский. – Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу… Господи! Ведь думал – пропадем все… К матери! На сто саженей офицер от офицера – это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!
– Постой, – ошалевая от брани, спрашивал Турбин, – ты скажи, кто там, под Трактиром?
– Ат! – Мышлаевский махнул рукой. – Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра – полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля – переходите в наступление, с нами бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь…» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом) – и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж…! Мороз. Иголками берет.
– Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?
– А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены… Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах. Трактир – верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется – ползут… Ну, думаю, что будем делать?… Что? Вскинешь винтовку, думаешь – стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь – в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь – каюк. И под утро не вытерпел, чувствую – начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех по-ехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на Город. Перебьют – перебьют. Хоть вместе по крайней мере. И, вообрази, – стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты – в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.
– A! Наш, наш! – вскричал Николка.
– Погоди-ка, он не белградский гусар? – спросил Турбин.
– Да, да, гусар… Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»
Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, утром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с Постом-Волынским, – дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то, к чертям.
– Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.
– А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские! у-у… вашу мать!
– Господи боже мой!
– Да-с, – хрипел Мышлаевский, посасывая папиросу, – сменились мы, слава те, господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать…
– Как! Насмерть?
– А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла – ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази – глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики… хлопчики…» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел… Мороз… Остервенился… Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство), прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.
Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается – уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное – мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество… И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой. Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать – жертвы. Я так измучился…» И коньяком от него на версту. А-а-а! – Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:
– Дали отряду теплушку и печку… О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в Город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз… окоченел… замок Тамары… водка…
Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.
– Вот так здорово, – сказал растерянный Николка.
– Где Елена? – озабоченно спросил старший. – Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.
Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит…
И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.
Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича…
Эх-эх… Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже – ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка – академии и университета – белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали – неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.
– Кто ж такие? Петлюра?
– Ну, если бы Петлюра, – снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, – вряд ли я бы здесь беседовал… э… с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки», – они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский, – Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: – Елена, пойдем-ка на пару слов…
Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.
Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.
Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:
– Елена, никак иначе поступить нельзя.
Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:
– Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?
Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена… Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда… Дней пять… шесть…
И Тальберг сказал:
– Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи…
…Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом… потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут.
Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.
На дальнем пути Города-I, Пассажирского, уже стоит поезд – еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи… Гетманское министерство – это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что…
– Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли…
О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.
Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:
«Игнатий Перпилло – Украинская грамматика».
В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины».
– Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, – говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте…» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.
Да, оперетка… Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, – салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:
«Петлюра – авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю…»
– Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?
Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.
– Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон… Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть – значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее – в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.
Елена очнулась.
– Постой, – сказала она, – ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают?
Тальберг густо покраснел.
– Конечно, конечно, я обязательно… Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.
Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, – женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:
- Я за сестру тебя молю,
- Сжалься, о, сжалься ты над ней!
- Ты охрани ее.
Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх… Не придется больше услышать Тальбергу каватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», – совершенно бессмертен.
Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.
– Вы же Елену берегите, – глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: – Пора.
Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь… дзинь… в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.
В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.
– У… с-с-волочь!.. – провыло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.
А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.
– О, ja, – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.
Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.
3
В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса… То есть сам-то он называл себя – Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».
Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:
– Господи! Что же это такое?! – ответил:
– Это Василисин сахар, черт бы его взял! – и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.
Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то, над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу – тонкую цинковую пластинку – отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.
На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.
Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые – какая, к черту, Василиса! – это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек – зеленый игральный крап:
Знак Державної скарбницi
50 карбованцiв
ходит нарiвнi з кредитовими бiлетами.
На крапе – селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:
За фальшування караеться тюрмою,
уверенная подпись:
Директор державної скарбницi Лебiдь-Юрчик.
Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебiдя-Юрчика и ласково – на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее – предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз – Ефрон. Уют.
Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев первых», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.
В тайнике № 2 – 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десяток, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).
Третий тайник – чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.
Лебiдь-Юрчик – на текущие расходы.
Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.
– Фальшування, фальшування, – злобно заворчал он, качая головой, – вот горе-то. А?
Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке – раз. В четвертом десятке – две, в шестом – две, в девятом – подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебiдь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных – перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем лебiдевская. Василиса глядел на свет, и Лебiдь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.
– Извозчику завтра вечером одну, – разговаривал сам с собой Василиса, – все равно ехать, и, конечно, на базар.
Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:
– Извольте видеть: никогда покою нет…
Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебiдь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса, и первое, что услыхал, – мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех…
За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.
– Единственное средство – отказать от квартиры, – забарахтался в простынях Василиса, – это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.
- Идут и поют юнкера
- Гвардейской школы!
– Хотя, впрочем, на случай чего… Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего – защита-то и есть. Брысь! – крикнул Василиса на яростную мышь.
Гитара… гитара… гитара…
Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай…
На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:
Голым профилем на ежа не сядешь!
– Вот веселая сволочь… А пушки-то стихли. А-страумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! – Гитара.
- Арбуз не стоит печь на мыле,
- Американцы победили.
Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.
- Игривы Брейтмана остроты,
- И где же сенегальцев роты?
– Где же? В самом деле? Где же? – добивался мутный Мышлаевский.
- Рожают овцы под брезентом,
- Родзянко будет президентом.
– Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!
Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга… от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном – Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах – стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой – Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же, по александровской гимназической кличке, – Карась.
Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток – четыре бутылки белого вина, у Карася – две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, – само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же, у подъезда, сообщил новость: на погонах у него золотые пушки, – терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город – тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом…
Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал, что он, как никогда, в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи – о-го-го… и на сцену. Петь он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо fa взял lа и держал его пять тактов. Сказав – пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.
– Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.
И вот знамена, дым…
– И где же сенегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.
– Будут! – звякнул Шервинский. – Будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в Город придут два сербских полка.
– Слушай, это верно?
Шервинский стал бурым.
– Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.
– Два полка-а… что два полка…
– Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю – и нам на немцев наплевать.
– Предатели!
– Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!
– Своими руками застрелю.
– Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!
Раз – и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно – красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев «стейер» – вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко… Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные… Но ведь они же здесь померзнут, к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?
– Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!
– Панику сеешь, – сказал хладнокровно Карась.
Турбин обозлился.
– Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику… – кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.
– Правильно! – скрепил Карась, стукнув по столу. – К черту рядовым – устроим врачом.
– Завтра полезем все вместе, – бормотал пьяный Мышлаевский, – все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!
– Сволочь он, – с ненавистью продолжал Турбин, – ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал:
– Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…
– Мобилизация, – ядовито продолжал Турбин, – жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки – просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет – дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.
Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.
– Ты… ты… тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, – заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.
– Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, – сказал Николка.
– Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, – ответил ему Турбин, – пей-ка лучше вино.
– Ты пойми, – заговорил Карась, – что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.
– Неправда! – тоненько выкликнул Турбин. – Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас – Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? – берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру… к-х… – Турбин яростно закашлялся.
– Стой! – Шервинский встал. – Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, – пусть!
– Пять процентов, а девяносто пять – русских!..
– Верно. Но они сыграли бы роль э… э… вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли? – Шервинский торжественно указал куда-то рукой. – На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.
– Опоздали с флагами!
– Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.
– Дай бог, искренне желаю, – и Турбин перекрестился на икону божией матери в углу.
– План же был таков, – звучно и торжественно выговорил Шервинский, – когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.
После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.
– Император убит, – прошептал он.
– Какого Николая Александровича? – спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.
Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.
Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:
– Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?
– Никакого понятия не имеем, – с интересом сообщил Карась.
– Ну-с, а мне известно.
– Тю! Ему все известно, – удивился Мышлаевский. – Ты ж не езди…
– Господа! Дайте же ему сказать.
– После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить…» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России – в Москву», – и прослезился.
Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.
– Слушай… это легенда, – болезненно сморщившись, сказал Турбин. – Я уже слышал эту историю.
– Убиты все, – сказал Мышлаевский, – и государь, и государыня, и наследник.
Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
– Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества…
– Несколько преувеличено, – спьяна сострил Мышлаевский.
Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.
– Витя, тебе стыдно. Ты офицер.
Мышлаевский нырнул в туман.
– …вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера… то есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его… э… в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.
– Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? – начал Карась.
– Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.
Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.
– Если это так, – вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, – я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! – Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.
– Пусть! Пусть! Пусть даже убит, – надломленно и хрипло крикнула она. – Все равно. Я пью. Я пью.
– Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан.
– Ур-ра! Ур-ра! Ур-pa-a!! – трижды в грохоте пронеслось по столовой.
Василиса вскочил внизу в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну.
– Боже мой… бо… бо… – бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.
– Что же это такое? Три часа ночи! – завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. – Я жаловаться наконец буду!
Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:
- …си-ильный, де-ержавный,
- царрр-ствуй на славу…
Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал:
– Нет… они, того, душевнобольные… Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!
Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваньях.
– На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! – покачиваясь, кричал Мышлаевский.
– Верно!
– Я… был на «Павле Первом»… неделю тому назад… – заплетаясь, бормотал Мышлаевский, – и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» – и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»
– Жи-ды, – мрачно крикнул опьяневший Карась.
Туман. Туман. Туман. Тонк-танк… тонк-танк… Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.
– А-а…
Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.
– Ни-колка, – прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. – Ни-колка! – повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже-е, боже-е, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином». – Никол…
– А-а, – хрипел Мышлаевский, оседая к полу.
Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.
– Никол… помоги, бери его. Бери так, под руку.
– Ц…ц…ц… Эх, эх, – жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.
– Так. Клади его.
– Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что с тобой? Вить…
– Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В кабинете у меня… на полке, склянка, написано «Liquor ammonii», а угол оборван, к чертям, видишь ли… нашатырным спиртом пахнет.
– Сейчас… сейчас… Эх-эх.
– И ты, доктор, хорош…
– Ну, ладно, ладно.
– Что? Пульса нету?
– Нет, вздор, отойдет.
– Таз! Таз!
– Таз извольте.
– А-а-а…
– Эх, вы!
Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.
– А… хрр… у-ух… Тьф… фэ…
– Снегу, снегу.
– Господи боже мой. Ведь это нужно ж так…
Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:
– Ах… пусти…
– Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.
Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели.
– Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.
– Слушаюсь.
Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
– Не затрудняйтесь… я сам.
– Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
– Позвольте ручку поцеловать…
– По какому поводу?
– В благодарность за хлопоты.
– Обойдется пока… Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он?
– Ничего, отошел, проспится.
Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная.
И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук, и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно, в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон.
– Уехал…
Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал… Ведь это же к лучшему…
– Но в такую минуту… – бормотала Елена и глубоко вздохнула.
– Что за такой человек? – Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время – полтора года, – что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа?
– Знаю я, знаю, – сама сказала себе Елена, – уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения, – значительно сказала она красному капору и подняла палец. И, сама ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно – ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший… Хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут… Он там останется, я здесь…
– Мой муж, – сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. – Мой муж…
Капор с интересом слушал, и щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал:
– А что за человек твой муж?
– Мерзавец он. Больше ничего! – сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. – Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то по крайней мере нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А, черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России…
Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:
«Русскому человеку честь – одно только лишнее бремя…»
Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:
– Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая и… опасная, а русскому человеку честь – только лишнее бремя.
– Ах ты! – вскричал во сне Турбин. – Г-гадина, да я тебя. – Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.
Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.
4
Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники – мех серебристый и черный – делали женские лица загадочными и красивыми.
Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые, сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.
Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой – высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.
И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.
Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.
Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками клуб «Прах» (поэты – режиссеры – артисты – художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.
Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы – бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света – вниз белый электрический, а вбок и вверх – оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».
И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б… со звонкими фамилиями, биллиардные игроки… водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.
Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна – Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.
– А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон… И хлынут серые. Ох, страшно…
Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек – под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.
Кто в кого стрелял – никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:
– А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все – купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели…
Были офицеры. И они бежали и с севера и с запада – бывшего фронта, – и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе с травлеными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, – отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них – кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары – выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масленых проборов людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города – Липках, рестораны и номера отелей…
Другие – армейские штабс-капитаны конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов – Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.
Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища – инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин…
– Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку XVII, нежели XX.
– Да кто он такой, Алексей Васильевич?
– Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем…
По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в Городе и уже испытавшим первые взрывы междуусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой – и слава богу. Гетман воцарился – и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы, ради самого господа, не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, невсамделишным царством, гетмана славословили искренне… и… «Дай бог, чтобы это продолжалось вечно».
Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.
Дело в том, что Город – Городом, в нем и полиция – Варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований, а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, – этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже – смешно сказать – о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название – деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание:
– Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы – своих не хотели, попробуют чужих!
– Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.
– Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Немцы им покажут.
Немцы!!
Немцы!!
И повсюду:
Немцы!!!
Немцы!!
Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.
5
Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон – офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и скверный игрок – получает его деревянный король мат.
Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения.
Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра – и не пушка и не гром, – но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу, скатился волнами в Город нижний – Подол и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего Города – Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами.
Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел взрыв.
Пять дней жил после того Город, в ужасе ожидая, что потекут с Лысой Горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и Город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное.
– Взрыв произвели французские шпионы.
– Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.
Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли.
Второе знамение пришло летом, когда Город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно!
Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего.
Так, вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучовой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом:
– Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое (Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе) шатается. Подумайте сами… Эйхгорна… и где? А? (Василиса сделал испуганные глаза.)
Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.
Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень.
– Пятьдэсят сегодня, – сказало знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.
– Что ты, Явдоха? – воскликнул жалобно Василиса. – Побойся бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.
– Що ж я зроблю? Усе дорого, – ответила сирена, – кажут на базаре, будэ и сто.
Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх…
– Смотри, Явдоха, – сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена), – уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы. – «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» – подумал мучительно Василиса и не решился.
Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине.
– Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо, – вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Н-но-ги-то – а-ах!!» – застонало в голове у Василисы.
В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.
– С кем это ты? – быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга.
– С Явдохой, – равнодушно ответил Василиса, – представь себе, молоко сегодня пятьдесят.
– К-как? – воскликнула Ванда Михайловна. – Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились… Явдоха! Явдоха! – закричала она, высовываясь в окошко. – Явдоха!
Но видение исчезло и не возвращалось.
Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда – ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли, – не то какая-то неловкость в словах сладостного видения.
– Разучимо? А? Как вам это нравится? – сам себе бормотал Василиса. – Ох уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться… последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее – роскошь…
Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе.
– Какая дерзость… Разучимо? А грудь…
И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.
Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.
Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.
Вот и все. И из-за этой бумажки – несомненно, из-за нее! – произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас… Ай, ай, ай!
Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование – Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 – февраля 1919 годов называли на французский несколько манер – Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.
– Нет, счетовод.
– Нет, студент.
Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами.
Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:
– Ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.
– Не союза городов, а земского союза, – отвечали третьи, – типичный земгусар.
Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:
– Позвольте… позвольте-ка…
И рассказывали, что будто бы десять лет назад… виноват, одиннадцать… они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Грицем…
- …Ой, не хо-д-и…
Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места…
– Вы говорите, бритый?
– Нет, кажется… позвольте… с бородкой.
– Позвольте… разве он московский?
– Да нет, студентом… он был…
– Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем…
Фу ты, черт… А может, и не шел по Бронной. Москва город большой, на Бронной туманы, изморось, тени… Какая-то гитара… турок под солнцем… кальян… гитара – дзинь-трень… неясно, туманно… ах, как туманно и страшно кругом.
- …Идут и пою-ют…
Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба, и мороз, и полночный крест Владимира.
- Идут и поют
- Юнкера гвардейской школы…
- Трубы, литавры,
- Тарелки гремят.
Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть людей, едет, едет черно шлычная конница на горячих лошадях.
Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп Карася, из Николкиной свист Шервинского… Муть… ночь… Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами… Тихо спит Елена.
– Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза… ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года.
…И было другое – лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии:
«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».
Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.
И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове «офицерня».
Вот что было-с.
Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман,
– увы, увы! только в ноябре 18-го года, когда под Городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана, как бешеную собаку, —
и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:
– Вся земля мужикам.
– Каждому по 100 десятин.
– Чтобы никаких помещиков и духу не было.
– И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью – во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.
– Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.
– Чтобы из Города привозили керосин.
– Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет.
Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть:
– Жиды и комиссары.
– Вот головушка горькая у украинских мужиков! Ниоткуда нет спасения!!
Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять…
– А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!
Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.
И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями… все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, – и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.
Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?… О-го-го!
Вот это было. А узник… гитара…
- Слухи грозные, ужасные…
- Наступают на нас…
Дзинь… трень… эх, эх, Николка.
Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины… ненавидящих Москву, какая бы она ни была – большевистская ли, царская или еще какая.
И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult perdere, dementat!»[1] – и проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.
– Вздор-с все это. Не он – другой. Не другой – третий.
Итак, кончились всякие знамения, и наступили события… Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы, – о нет! – оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще сто лет… Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе, заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище: петухи во фригийских колпаках с картавым клекотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали – и немцы! немцы! – попросили пощады.
Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах – он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в Городе: видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета.
Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми, твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в Город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом.
– Немцы побеждены, – сказали гады.
– Мы побеждены, – сказали умные гады.
То же самое поняли и горожане.
О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков – демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть.
Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит – одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет умирать?
– Умигать – не в помигушки иг’ать, – вдруг, картавя, сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.
Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.
– Вы в раю, полковник? – спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.
– В гаю, – ответил Най-Турс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.
– Как странно, как странно, – заговорил Турбин, – я думал, что рай – это так… мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?
– Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор, – ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении.
Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса – чисты, бездонны, освещены изнутри.
Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил господь бог игрушку – женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вахмистра.
– Как же вы? – спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. – Как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики?
– Верите слову, господин доктор, – загудел виолончельным басом Жилин, вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце, – прямо-таки всем эскадроном, в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно верно, неудобно… Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные.
– Ну? – поражался Турбин.
– Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю: так и так, 2-й эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам, – вахмистр скромно кашлянул в кулак, – думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери… Потому, сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и… (вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу – мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пущай пока, до выяснения обстоятельства, за облаками посидят. А апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами – зырк, и вижу я, что баб-то он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскадрону…
«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» – и головой покачал.
«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».
«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте!»
А? Что прикажете делать? Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно.
И вахмистр хитро подмигнул.
– Это верно, – вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, а вахмистр продолжал:
– Нуте-с, сейчас это он и говорит – доложим. Отправился, вернулся и сообщает: ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить.
Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. Однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает, – вахмистр указал на молчащего и горделивого Най-Турса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму, – господин эскадронный командир рысью на Тушинском Воре. А за ним немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю, – тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет, потом оправился и продолжал: – Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, теперича, грит, все!» – и сейчас дверь настежь, и пожалте, говорит, справа по три.
- …Дунька, Дунька, Дунька я!
- Дуня, ягода моя, —
зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и заиграла итальянская гармоника.
– Под ноги! – закричали на разные голоса взводные.
- Й-эх, Дуня, Дуня, Дунь, Дуня!
- Полюби, Дуня, меня, —
и замер хор вдали.
– С бабами? Так и вперлись? – ахнул Турбин.
Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками.
– Господи боже мой, господин доктор. Места-то, места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота… По первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить, и с запасными эскадронами, да что пять – десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звезды красные, облака красные, в цвет наших чакчир отливают… «А это, – говорит апостол Петр, – для большевиков, с Перекопу которые».
– Какого Перекопу? – тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.
– А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приему им приготовили.
– Большевиков? – смутилась душа Турбина. – Путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.
– Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю господа бога…
– Бога? Ой, Жилин!
– Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.
– Какой же он такой?
Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица.
– Убейте – объяснить не могу. Лик осиянный, а какой – не поймешь… Бывает, взглянешь – и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну, уж а как говорит, такая радость, такая радость… И сейчас пройдет, пройдет свет голубой… Гм… да нет, не голубой (вахмистр подумал), не могу знать. Верст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.
«Ну, не верят?» – спрашивает.
«Истинный бог», – говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:
«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».
Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попы-то», – я говорю… Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы».
«Да, говорю, уволь ты их, господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»
«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то», – говорит.
Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне.
– Жилин, Жилин, нельзя ль мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?
Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений…
Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты…
