Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси бесплатное чтение
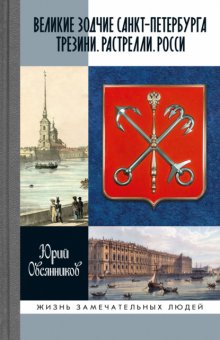
© Овсянников Ю. М., 2023
© Издательство АО «Молодая гвардия», 2023
К читателям
Горожане совершенно незнакомы со своими городами.
Н. Анциферов
Петербург удивителен и неповторим. Его рождение необычно. Другие европейские столицы поднимались сами по себе за века и тысячелетия. И место для себя выбирали разумно: или на перекрестии торговых путей, или удобное для основания гавани, а в первую очередь там, где легко обороняться в случае нужды. У Петербурга всё иначе. Возник чуть ли не в одночасье по велению грозного царя Петра в устье Невы на болотистой равнине, где нет не только никакой естественной защиты, но и условий для нормальной стоянки кораблей.
Другие города росли концентрическими кругами вокруг первоначальной крепости. Проходили столетия, и наступал момент, когда старая планировка уже мешала нормальному току городской жизни. Тогда приходилось, ломая древние строения, прокладывать новые улицы и проспекты. Петербург со дня рождения смотрел в будущее. Его первоначальный почти геометрически четкий или, как тогда говорили, «регулярный» план не требует и сегодня изменений. В этом счастье и самобытность города.
Желая как можно скорее претворить в реальность свою давнюю мечту о новой российской столице, Петр I не щадил ни себя, ни своих подданных. Историки считают, что в первое десятилетие жизни Петербурга под фундаменты его зданий легло свыше 100 тысяч работных людей, убитых непосильным трудом и голодом. Именно тогда этот непонятный для русского человека город, прочертивший своими прямыми линиями и высокими шпилями болотное марево, был проклят простыми людьми: «Быть Петербургу пусту!» Но, вопреки заклинаниям, он не захирел, не опустел, а преодолев трудности и беды, пережив революции и войны, стал одним из прекраснейших городов мира. Столь твердый, самобытный характер город обрел в первые же годы жизни. Видимо, заимствовал у своего основателя.
С юности, после посещения Амстердама, грезил Петр новой столицей на берегу моря, городом-портом, распахнувшим свои ворота на запад. Широкой Неве предстояло стать главным проспектом, а многочисленным речкам и каналам – улицами и проулками. Государь даже запретил возводить мосты в городе. Правда, не сразу решил, где должен быть центр Петербурга. Сначала замыслил его на Городовом острове, на Троицкой площади позади крепости. Потом вдруг распорядился перенести в Кронштадт, но, убедившись в неразумности плана, повелел возводить на Васильевском острове, перед крепостью. А Петербург, вопреки воле государя, начал расти и шириться на левом берегу Невы, откуда удобнее всего была связь с Россией. Так впервые город проявил самостоятельность.
Юный Санкт-Петербург в начальные годы очень напоминал военный лагерь. Даже возводить его начали с крепости, которую во всех служебных донесениях первых двух десятилетий именовали Городом, а все вокруг было Петербургом. Долгая война со шведами наложила свой отпечаток на его план. Царь вынужден был уподобить будущую столицу военному лагерю. Улицы прямые, как лет пули. А пересекаются друг с другом только под прямым углом. Вдоль улиц – ровный, как солдатский строй, ряд «образцовых» или, как теперь говорят, «типовых» домов для «подлых», для «зажиточных», для «богатых». И четкие, почти военные, правила в распорядке дня, в поведении на европейский манер.
Этот жесткий регламент городской жизни на столетия сохранился в характере Петербурга. Менялись государи, а с ними менялась и мода, но порядок жизни пребывал неизменным. Со временем военные мундиры смешались с чиновничьими и стала еще ощутимей присущая Петербургу чопорная официальность.
Любовь царя к Амстердаму, к образу жизни голландских кораблестроителей и купцов определила и начальный облик города – в духе северного барокко: строго и вместе с тем представительно. Возводить город царь повелел уроженцу южной Швейцарии, архитектору Доминико Трезини, прожившему несколько лет в Копенгагене. Государю понравился этот исполнительный и трудолюбивый мастер. Петр доверил ему не только возведение самых важных зданий новой столицы, но и составление плана города и проектирование «образцовых» домов.
После смерти основателя Петербурга страной тридцать лет правили сначала его племянница, потом дочь. Этих жизнелюбивых дам не устраивала строгая и деловая петровская архитектура. Они жаждали кричащей роскоши и пышной красоты. Новый стиль в искусстве определил итальянец, граф Франческо Растрелли, обладавший неуемной фантазией и ярый приверженец пышного, южного барокко. Именно он украсил Петербург дворцами и храмами, изумлявшими всех своим затейливым декором. Его стиль потомки позже назвали «растреллиевским», или «елизаветинским» барокко. Главное творение зодчего – Зимний дворец, возведенный по желанию Елизаветы «ради славы российской». Он явился как политическим, так и архитектурным центром города. Было строго запрещено возводить здания выше него. Так почти на полтора столетия установилась высотная граница Петербурга…
На смену веселой Елизавете пришла умная, образованная Екатерина II. Лукавая почитательница французских энциклопедистов, конечно, не могла принять стиль предшественниц. Он был слишком помпезным и потому безвкусным. По ее убеждению, за образец следовало брать античную строгость в сочетании с римским величием. Уже на третий год царствования Екатерины французский архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот возвел торжественную арку «Новой Голландии». И сквозь нее вступил в Россию новый архитектурный стиль – классицизм.
В общей сложности классицизм, включая его высшую и завершающую стадию – ампир, царствовал семь десятилетий. За эти годы над украшением Петербурга трудились многие замечательные мастера. Самым блистательным среди них был, конечно, уроженец Неаполя Карл Росси. Он начал серьезно работать вскоре после победы над Наполеоном, когда окончательно пробудились и национальная гордость, и самосознание русского народа. Именно тогда создал Росси торжественный стиль ампир, который выделялся своими монументальными формами и богатым декоративным убранством, главным образом из военной эмблематики и орнамента.
Архитектор возвел немало прекрасных зданий, но главная его заслуга – ансамбли великолепных площадей: перед Александринским театром, Михайловским дворцом, Инженерным замком, Зимним дворцом, Сенатом и Синодом. Именно они придали центру города тот строгий, стройный вид, который потрясает воображение многих поколений.
Через арку последнего творения Росси – Сената и Синода, классицизм покинул Петербург. И сразу же начались поиски новых путей в архитектуре. Возник русско-византийский стиль. Потом эклектизм, стремившийся сопрячь воедино формы давних эпох: готики, ренессанса, барокко и рококо. В этом было немало любопытного и привлекательного. Кстати, именно эклектизм подготовил благодатную почву для появления нового, самобытного стиля модерн, прожившего, увы, всего несколько лет. Однако все эти искания и увлечения уже не могли нарушить логичного единства центра города, рожденного стараниями трех замечательных архитекторов.
Доминико Трезини первым наметил главную тему архитектурной мелодии города. Смольный монастырь и Зимний дворец Растрелли задали тональность торжественного звучания всех будущих строений. А созданные Росси величественные ансамбли и анфилады площадей стали контрапунктами прекрасной каменной симфонии.
Конечно, были и другие талантливые мастера – С. Чевакинский, Дж. Кваренги, А. Ринальди, А. Захаров, Ж. Тома де Томон, И. Старов, В. Стасов – создатели отдельных дворцов, храмов, общественных зданий. Они навсегда останутся в памяти поколений. Имена других, ничем особенно не проявивших себя, известны теперь только узкому кругу специалистов. Но все они, и одаренные, и лишенные большого таланта, так и не нарушили главные каноны, установленные Трезини, Растрелли, Росси, одобренные и правителями, и обществом. Вот почему стоящие рядом здания различных эпох и стилей не мешают друг другу, не «спорят», а соседствуют в мирном согласии, порой даже подчеркивая красоту друг друга. Великий пример такого сосуществования подал Росси. Его ампирное здание Главного штаба и Министерства иностранных дел, обрамляющее Дворцовую площадь, подчеркивает барочную роскошь Зимнего дворца. Это органичное соседство разных стилей очень присуще Петербургу.
Город, задуманный как некое подобие Амстердама, как северная Венеция, отражается нарядными фасадами в зеркале каналов и рек и от того становится еще прекраснее. Он как бы раздвигает пространство, удваивая высоту своих колоннад и множа декор своих дворцов. Это магическое удвоение и чуть заметное, как тихое дыхание, движение отраженных зданий дает ощущение сказочной реальности. Подобное чувство возникает и в пору белых ночей, когда Петербург погружается в зыбкую атмосферу жемчужного сияния. Оно растворяет границы меж небом и водой, а четко прочерченные городские проспекты утрачивают свою графичность. И кажется, что город начинает заполнять сонм причудливых видений. Кто знает, может, именно эта удивительная пора различных фантасмагорий рождала у поэтов и прозаиков образы, которые и по сей день населяют Петербург в нашем сознании.
Облик города определяет архитектура, душу – литература. Сегодня тот Петербург, что ограничен рекой Фонтанкой, неразрывно связан с чеканными строками пушкинских поэм, звучащих в такт нашим шагам по Сенатской площади, набережным, Марсову полю и близлежащим улицам. «Всемогущий» Невский проспект, который «составляет всё» для города, немыслим без гоголевских героев. Есть еще Петербург доходных домов с дворами-колодцами, куда редко заглядывает солнце. Это – город Достоевского с особой, как он сам пишет, архитектурой: «Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов “под жильцов”, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительной архитектурой фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо… и непременно пять этажей». А за этой истинно петербургской декорацией – мир искалеченных судеб. Существуют также зимний, завьюженный город Блока и рядом нервный, фантасмагорический Петербург Белого… Удивительный город, умеющий подарить особую радость при удачном сопряжении искусства слова и зодчества.
Правда, в многоликой, многоголосой толпе литературных героев, населяющих Петербург, мы порой не в силах разглядеть тех, кто заложил основу торжественного облика города. Вот почему эта книга посвящена тем, кто придал столице на Неве имперский вид и принес ей всемирную славу. Приступая к работе, я лелеял мечту, что кому-нибудь она будет полезна. У одних пробудит интерес и любовь к Петербургу. У других – желание участвовать в его возрождении. Неповторимый город понес за последние три четверти века неисчислимые потери, и наш долг восстановить то, что возможно, и сохранить для потомков то, что еще существует. Грядущие поколения будут нам благодарны.
Петр Великий. Гравюра А. Афанасьева. XVIII в.
Крепость. Полковник фортификации Доминико Трезини
Рождение города
Восемнадцатое столетие в России начиналось разгромом русских войск под Нарвой, появлением первой печатной газеты, основанием города в устье Невы. Завершался век блистательными победами Александра Суворова на севере Италии, открытием в Петербурге перед Михайловским замком памятника Петру Великому, начатого еще при жизни самого основателя города, рождением Александра Пушкина.
Через сто тридцать лет после закладки Петербурга великий правнук знаменитого царского арапа завершил поэму «Медный всадник».
- На берегу пустынных волн
- Стоял он, дум великих полн,
- И вдаль глядел…
- <… > И думал он:
- Отсель грозить мы будем шведу,
- Здесь будет город заложен
- Назло надменному соседу.
Какой же день описал поэт? Когда и как выбрано место для будущей столицы? Попробуем восстановить ход событий…
В понедельник 23 апреля 1703[1] года шестнадцатитысячный корпус под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева выступил из Шлиссельбурга к шведской крепости Ниеншанц, или, как ее называли русские, Канцы.
Крепость стояла у впадения реки Охты в Неву. Вокруг укреплений раскинулся город. По тем временам довольно большой – 400 домов. На валах высотой до 18 метров – 78 пушек. Шестьсот шведских солдат обязаны были дать отпор врагу.
В четверг 26 апреля русское войско подошло к Ниеншанцу. Во главе бомбардирской роты гвардии Преображенского полка маршировал капитан Петр Михайлов. Он же государь Петр Алексеевич.
На следующий день начали рыть апроши. Осаду должно было вести по всем правилам воинской науки. Но 28 апреля нетерпеливый царь, забрав четыре роты преображенцев и три семеновцев, спустился к устью Невы, к морю.
Наконец он его увидел. Холодное, неуютное. Где-то там далеко сливавшееся с холодным серым небом. Но лучшего ничего на свете не было. Это было его море, для его будущих кораблей. Может, от радости омыл лицо балтийской водой… А может, шагнул прямо навстречу волнам, пока не стало заливать за раструб ботфортов…
Историк и писатель А. Шарымов, основываясь на документах, считает, что тогда же царь с приближенными ходил в море на лодках вплоть до острова Котлин, Может быть… Но уж больно труден переход на веслах по морю за 20 верст в один день туда и обратно. Хотя от нетерпеливого царя всего можно было ожидать.
В тот день Петр выбрал Лозовой остров (теперь Гутуевский), дабы оставить на нем тайный караул из четырех рот во главе с сержантом Щепотьевым. Караулу надлежало отбить возможную помощь шведам с моря.
Наутро 29 апреля царь с оставшимися тремя ротами двинулся обратно. Дельта Невы представляла собою 101 большой и малый остров. Осмотреть все сразу невозможно. Но главное он увидел. Болота, поросшие кустарником, чахлые березки, отдельные, разбросанные там и сям бедные избушки.
К вечеру 29 апреля Петр снова был под Ниеншанцем. А 30 апреля в семь часов после полудня началась бомбардировка крепости. Десять часов без перерыва бросали русские мортиры свои ядра через валы. В понедельник 1 мая в пять утра шведский барабанщик забил шамад – сдачу. Развернув знамена, Преображенский полк в десять часов утра первым вступил в город.
Сообщение о важном событии появится в первой русской печатной газете «Ведомости» только через два с лишним месяца – 6 июля. Среди известий из Торуня, Берлина, Вены, Гааги и Лондона три короткие строчки: «Из Риги мая в 31 день. Шанец Ниен не приступом взят, но по договору, мая в 4 день русским войском». Вновь обретенная земля связи со страной не имеет. И сообщение о воинском успехе русских приходит из вражеского лагеря, из далекой Риги. Вот почему ничего не сказано о бомбардировке, о готовности русских войск к штурму. Даже дата падения крепости неверна…
2 мая утром шведы по договору покинули крепость. Их телеги, нагруженные домашним скарбом, потянулись на север к Выборгу. Капитан-бомбардир Петр Михайлов, генерал-фельдмаршал Борис Шереметев, поручик Александр Меншиков, генерал-майор Иван Чамберс, генерал Аникита Репнин, окольничий Петр Апраксин, полковники Девгерин и Морцов с изрядным шумом праздновали победу. Веселье нарушил гонец от Щепотьева: на горизонте показалась эскадра шведских кораблей. В последующие дни собирали военный совет: «…тот ли шанец крепить или иное место удобное искать (понеже оный… далеко от моря и место не гораздо крепко от натуры)… положено искать нового места…» Значит, место для нового города выбирали после взятия Ниеншанца. Потом, если верить «Журналу, или Поденной записке… Петра Великого», Петр принимал послов Великого княжества Литовского. Послы просили денег и солдат для войны со шведами. Но среди всех дел напряженно ожидали известий от Щепотьева.
6 мая в устье Невы, не ведая о падении Ниеншанца, вошли шведский галиот «Гедан» и шнява «Астрильд». Не мешкая, посадив гвардейцев на лодки, Петр и Меншиков двинулись навстречу.
Без всякой опаски, точно совершая прогулку, шведские корабли на рассвете 7 мая начали подниматься вверх по реке. Вдруг из тумана возникло три десятка лодок со множеством солдат в зеленых мундирах. Не успели шведские капитаны изготовиться к бою, как корабли были взяты на абордаж. «Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было… едва не всех покололи; только осталось 13 живых», – писал сам Петр. В тот день, 7 мая, он с гордостью праздновал свою первую морскую победу.
Узнав о позорной сдаче кораблей пехотинцам, шведский адмирал Нумерс поспешил ретироваться.
Россия вышла к морю и стала на его берег. Когда-то здесь начинался путь из варяг в греки. Теперь для Московского государства открылась дорога в Европу.
Поутру 11 мая Петр отплыл в Шлиссельбург, а оттуда – к Олонецкой верфи (теперь город Лодейное Поле). А накануне, 10 мая, царь сам возложил на себя орден Святого Андрея Первозванного, и по сему случаю было «великое шумство». Значит, у «бомбардир-капитана» оставалось всего два дня – 8 и 9 мая, чтобы выбрать место, где стоять крепости. Он сам тогда еще не ведал, что эти два дня во многом определят будущий ход российской истории.
Лежащие вокруг земли когда-то принадлежали Господину Великому Новгороду. Писцовые книги свидетельствуют, что в конце XV – начале XVI столетия здесь стояло несколько десятков мелких деревень. Но в начале XVII века, в смутные для России годы, земли эти захватили шведы. И крестьяне, не желавшие принимать лютеранство, вынуждены были сначала тайно, а потом и явно бежать на юг, вглубь страны. Теперь вокруг царило запустение…
Озираясь, гребцы шептали: «Проклятое место! Бросовая земля!» – но Петр их не слышал. Не желал. Радостный и возбужденный, стоял на носу лодки. И чудилось ему, что не весла скрипят в уключинах, а мачты стройных российских фрегатов и тяжелых иноземных «купцов», которые скоро придут сюда. Рядом с ним были «сердешный друг» Алексашка Меншиков и шумный, веселый генерал-инженер Жозеф Гаспар Ламбер де Герэн. Перебрасываясь шутками, обсуждали возможные места будущей фортеции и промеряли глубину проток. Для новой крепости выбрали небольшой островок. Лежал он удобно, у развилки реки на два рукава – Большую и Малую Неву. Было в том островке метров 750 в длину и 360 в ширину. Остановить на нем свой выбор подсказал Ламбер.
Генерал-инженера пригласил в свое время на русскую службу посол в Варшаве князь Григорий Долгоруков. Француз подписал договор через год после поражения под Нарвой – 3 ноября 1701 года. Генерал-инженер быстро завоевал расположение государя. Уж очень походил он норовом и повадками на покойного любимца Франца Лефорта. Петр простил Ламберу даже убийство на дуэли опытного капитана Петера фон Памбурга. Того самого, что командовал русским кораблем «Крепость», первым пересекшим Черное море.
После дуэли царь отписал адмиралу Федору Апраксину, что в своей смерти Памбург «сам был виною (о чем, чаю, вам небезызвестно)». А вот когда захотели разобрать обветшавшую «Крепость», Петр запретил и строго повелел: сохранить как раритет.
На дальнейшей карьере Ламбера убийство капитана Памбурга никак не сказалось. На Западе дуэли были приняты. И новый любимец продолжал пользоваться всеми благами. Ему и Меншикову разрешал царь больше всех, больше, чем себе, выписывать из Парижа высоких двурогих париков и шитых золотом камзолов. Француз старался служить верой и правдой. Он хорошо показал себя при взятии Нотебурга и штурме Ниеншанца. А потом «выбирал с царем Петром место для Петербурга и начертал план Петропавловской крепости».
Небольшой островок с юга и запада омывала широкая река, а с севера и востока его прикрывали болотистые острова и многочисленные протоки. Шведы называли его «Люст Елант» – «Веселый». А русские, некогда проживавшие здесь, именовали «Заячий». Так по наследству и приняли это название.
В отделе рукописной и редкой книги Библиотеки Российской Академии наук сохранился первоначальный чертеж земляной фортеции. Четкие линии, разрез валов и бастионов – все выдает руку опытного инженера, хорошо знакомого с последними достижениями европейской военной науки. По этому плану предстояло насыпать большой земляной шестиугольник с выступающими по углам пятигранными бастионами.
За участие «в строении Санкт-Питербурхской крепости поднесенным государю Петру I чертежом» и за помощь при взятии шведских крепостей Шлиссельбурга, Ниеншанца и Нарвы генерал Ламбер де Герэн был в 1704 году награжден орденом Святого Андрея Первозванного. Француз стал девятым по счету кавалером первого российского ордена, царь Петр был шестым, а Александр Меншиков – седьмым.
Случилось, однако, так, что генерал-инженер Ламбер оказался «изменщиком». Весной 1706 года он убедил царя, что необходимо набрать в Европе новых иноземных офицеров. Царь согласился и отпустил генерала. Неожиданно Ламбер прислал из Берлина письмо; он-де не собирается возвращаться в Россию. Причина: «злоба и ненависть грозивших ему бояр». Петр знал измены и раньше. Под Азовом, под Нарвой. Но Ламбер предал дружбу! Оскорбленный царь попросил прусского короля арестовать француза и заточить в тюрьму. Не тут-то было. Прошло еще пять лет, прежде чем Ламбера удалось схватить. Но отважный задира и дуэлянт, подобно героям Дюма, сумел бежать из крепости. Где он потом скитался, никто не ведает. Только в 1715 году Ламбер прислал из Ливорно письмо Петру Алексеевичу. Беглец просил простить его и вновь принять на русскую службу. Царь не ответил и повелел отовсюду вычеркнуть его имя, а дела предать забвению…
Первую русскую фортецию в устье Невы заложили 16 (27 по новому стилю) мая 1703 года. Эта дата ни у кого уже не вызывает сомнений. Остается спорным только факт участия самого Петра в торжестве закладки.
Большинство ученых, основываясь на записях «Журнала, или Поденной записки… Петра Великого», утверждают: нет, не присутствовал. А. Шарымов, который уже упоминался раньше, сопоставляя разные документы, свидетельства очевидцев и, главное, переписку царя, в своей документальной повести «1703 год» приходит к твердому убеждению: присутствовал, участвовал в закладке.
В этих давних научных спорах забывают о психологии главного виновника дискуссий – самого Петра. Закладка фортеции в устье Невы, обретение ключа к Балтийскому морю – давняя мечта. Одна из целей жизни. Разве мог Петр допустить, чтобы исполнение этого заветного желания проходило без него? Не мог. И вероятно, присутствовал при закладке. Обязан был присутствовать, чтобы первому вогнать лопату в землю маленького островка.
Засуетился, задвигался гигантский людской муравейник. Почти 15 000 солдат положили начало будущей столице на Неве. Для ускорения дела на каждый бастион государь назначил начальника. Первый бастион-раскат, смотревший на юго-восток (слева от главного входа в крепость, где позже поднялись Петровские ворота), взял на себя. На другие поставил ближайших сподвижников. На северо-восточный – Александра Меншикова. На третий, смотревший на юг, – родственника по матери, Кирилла Нарышкина. На четвертый, юго-западный, стороживший Большую Неву, – князя Юрия Трубецкого. Пятый, северо-западный, державший под прицелом Малую Неву, поручил своему первому учителю, «Всешутейшему патриарху Всепьянейшего собора» Никите Зотову. На шестом, северном, глядевшем через протоку на большой остров, позже названный Городовым (потом Петербургским, а сегодня – Петроградской стороной), всеми делами ведал постельничий Гавриил Головкин.
Но крепость – еще не город. Крепость только сооружение, призванное охранять какое-либо поселение или сдерживать дальнейшее продвижение войск неприятеля. Город начинается с домов для жилья. И первый такой дом Петр решил построить для себя. Вот как об этом рассказывает анонимная рукопись «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга», опубликованная в журнале «Русский архив» за 1863 год:
«24 мая на острове, который ныне именуется Санктпетербургским, царь приказал рубить лес и заложил дворец. Александр Данилович Меншиков говорил царю, что в Канецкой слободе остались после пожара многие дома, сделанные из брусового леса, – так не прикажет ли царь перевезти их и употребить на построение дворца? Царь отвечал, что он приказал рубить лес на этом именно месте и построить дворец из здешнего леса для того, чтобы в будущем все знали, в какой пустоте был этот остров.
25 мая царь приказал вырубить лес и разровнять место около дворца – вверх и вниз по берегу Невы, чтобы поставить шатры и навесы для своих приближенных.
26 мая дворца строение работой окончилось, и около него поставлены были два больших шатра из шелковой богатой материи персидской работы, а полы устланы коврами. Поставили и другие шатры…»[2]
В Российском государственном историческом архиве хранится «Реестр строения при Санкт Питер бурхе с которых лет зачаты были строится». Составлен он по велению самого Петра в 1723 году. Из «Реестра» следует, что вплоть до весны 1704 года дворец Петра был единственным гражданским строением города. Только через год после основания Петербурга на месте шатров и навесов стали подниматься бревенчатые срубы будущих покоев для генералов и министров.
На гравюре Питера Пикарта, исполненной в 1704 году, и на более поздних рисунках можно видеть первоначальный облик первого «дворца» Санкт-Питер-Бурха. Одноэтажный домик под двускатной (а не четырехскатной, как теперь) крышей. Три небольших окна с западной и южной сторон (а не одно большое, как сейчас). Крыша крыта гонтом, под черепицу. Чуть позже на коньке установили вырезанную из дерева мортирку и две бомбы с язычками пламени – знак, что живет здесь «бомбардир-капитан». А весь дом расписан под кирпич. На голландский манер. Оттого и прозвали дворец «Красные хоромцы».
Петр прекрасно понимал историческое значение первого гражданского строения города. В 1722 году архитектор Доминико Трезини, который в момент строения дворца еще только собирался плыть морем в Россию, ремонтирует в нем изразцовые печи. Для двух печей он требует 391 живописный изразец и столько же белых. В 1723 году по велению Петра он возводит вокруг «Красных хоромцев» «галерею на каменных столбах с крышей». А на следующий год ставит перед домом каменную стенку, чтобы защитить его от частых наводнений. Гравюра Пикарта и донесение архитектора о ремонте «дворца» убеждают, что до наших дней он дожил, увы, в искаженном виде
Чуть вздувшиеся земляные валы будущей фортеции, царская изба, несколько шатров, навесы и сырые землянки – таков Санкт-Питер-Бурх в первые месяцы своего существования. Но царь спешит объявить о рождении русской гавани на Балтике. Уже 23 мая, через неделю после закладки крепости, голландский посланник ван дер Гульст доносит своему правительству: Петр назначил премию в 500 червонцев первому шкиперу, который из Голландии или из другого места приведет в устье Невы корабль. 300 червонцев назначено шкиперу второго корабля и 100 – шкиперу третьего. Для русского царя очень важно поскорее объявить Европе, что открыт новый морской путь в Россию.
Город только рождался. У него не было еще даже имени. Первые указы и письма, писанные на берегах Невы, царь помечал: «Шлотбург». Но вот 29 июня, в День апостолов Петра и Павла, в крепости заложили небольшую деревянную церквушку во имя этих святых. А через две недели наконец объявлено и название города – «Петрополис».
Исполнилась давнишняя мечта: иметь свой новый город во имя соименного святого покровителя. Еще в 1697 году, после второго Азовского похода, царь повелел боярину Алексею Шеину построить против Азова на другом берегу Дона крепость во имя апостола Петра. Теперь такая крепость поднялась на берегу северного Балтийского моря.
Указы о срочной присылке работных людей для возведения крепости канцеляристы помечают: «Дано в Петрополе». А 28 июня «Ведомости» наконец извещают читателей: «Из новыя крепости Петербурга пишут (уже не через Ригу, а прямо с берегов Невы! – Ю. О.)…» Итак, название крепости и будущего города окончательно определилось.
Из записок Юста Юля, датского посланника при Петре: «В том же 1703 году заложили сильную, почти неприступную крепость, названную Санкт-Петербургом».
Из сочинения Х.-Ф. Вебера, ганноверского резидента при Петре: «Со всех уголков необъятной России прибыло много тысяч работных людей (некоторые из них должны были пройти 200–300 немецких миль) и начали строить крепость. Хотя в то время для такого большого количества людей не было ни достаточно провианта, ни орудий труда, мотыг, досок, тачек и тому подобного (так сказать, совсем ничего), не было даже ни лачуг, ни домов, – но все же работа при такой массе людей продвигалась с необычайной быстротой… Почти за 4 месяца крепость была воздвигнута».
«Ведомости» 3 сентября 1703 года сообщили: «Его Царское Величество… на острове новую и зело угодную крепость построить велел, в ней уже есть шесть бастионов, где работали двадцать тысяч человек подкопщиков…»
К середине сентября обложенные дерном земляные валы новой крепости ощерились пушечными жерлами. И первый комендант – полковник Карл Эвальд Рен приступил к своим обязанностям. Вот какие события легли в основу шести пушкинских строк.
Теперь оставалось ждать, когда
- …по новым им волнам
- Все флаги в гости будут к нам…
Прошло более двухсот семидесяти лет со дня смерти Петра I. Сменилось примерно десять поколений. Но по-прежнему не утихают страсти в обсуждении его указов, реформ, конечной цели преобразований. Каждое поколение оценивало деятельность Петра мерками своего времени и своего отношения к судьбам русского народа и России в целом.
Радищев и декабристы, признавая необходимость реформ Петра Великого, осуждали царя за то, что он истребил последние признаки вольности в своем отечестве.
Других взглядов придерживались российский летописец Н. М. Карамзин, а также славянофилы середины и второй половины XIX столетия.
Н. М. Карамзин в 1811 году: «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государства… Пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного… Бедным людям казалось, что он вместе с древними привычками отнимает у них самое отечество».
И. С. Аксаков в 1880 году: «Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались спешно, без критики, на веру выписанные из-за границы семена цивилизации».
Крупнейшие русские историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский постарались доказать всю несостоятельность взглядов славянофилов.
С. М. Соловьев в 1872 году: «Петр был сам истый русский человек, сохранявший крепкую связь со своим народом; его любовь к России не была любовию к какой-то отвлеченной России; он жил со своим народом одною жизнью и вне этой жизни существовать не мог…»
В. О. Ключевский в 1890 году: «Деятельность Петра с необычными ее приемами и не для всех ясными целями вызвала во всем русском обществе усиленное возбуждение политической мысли».
Преодолевая характерную для своего времени односторонность суждений, руководствуясь своей поэтической интуицией и врожденным даром историка, пожалуй, точнее всех охарактеризовал в 1834 году деяния Петра Пушкин: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые – суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, – вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика».
Не будем же забывать, что Петр первым из русских правителей решил всю силу государственного принуждения употребить не для личных интересов, а во имя общего блага, во имя могущества и процветания России.
Впервые суждения об «общем благе», столь часто и охотно употребляемые при абсолютизме, Петр четко изложил 16 апреля 1702 года в «Манифесте о вызове иностранцев в Россию».
Манифест был составлен по-немецки. Ведь адресован он жителям Западной Европы. Но сохранился перевод тех лет. Тяжеловесный, усложненный, в духе XVII столетия. Мы позволим себе привести некоторые выдержки из него, употребив понятные современному читателю слова и обороты.
«С того времени, когда мы… вступили на престол наших предков, наше начальнейшее попечение было править государством таким образом, чтобы каждый из наших верных подданных чувствовать мог, что наше единственное намерение – усердно заботиться об их благосостоянии и процветании. И для достижения такого славного намерения употреблять всякие способы и возможности… И все, что служит к наилучшему обучению народа, то учреждать, дабы наши подданные чем дальше, тем ближе ко всем другим обученным христианским народам стоять могли… И чтобы все к нашей и государственной пользе наилучшим образом споспешествовало… приглашаем мы из чуждых народов не только людей искусных в воинском деле, но и других добрых делах, служащих для процветания государства…»
Мечта об общем благе – искренняя. Манифест – вынужденный. От безвыходности. Для процветания государства нужны мануфактуры, торговля с Западом, флот, современная армия. Чтобы создать все это, необходимы опытные мастера, знающие люди. Сподвижники Петра энергичны, деловиты, исполнены жажды деятельности, но, увы, не обучены, малокультурны. Конечно, можно послать их в Западную Европу, можно открыть свои школы. Обучить, воспитать. Но для этого потребны долгие десятилетия. А хочется увидеть исполнение замысленного быстрее. Почти завтра. Вот для чего нужно много иностранцев, хорошо знающих все науки и ремесла.
Странная ситуация. Казалось бы, война, начавшаяся «конфузней» под Нарвой, должна была отвратить европейцев от России. А случилось наоборот. Московское государство привлекло всеобщее внимание. В нем увидели молодую страну с огромным будущим. И в Россию заторопились инженеры из Франции, корабельные мастера из Голландии, военные из Германии, морские капитаны из Венеции и моряки из Греции, мальтийские кавалеры, портные, парикмахеры и даже мастера изготовления пуговиц. Ехали десятки, а потом сотни опытных, тертых жизнью людей. Одни – в поисках настоящего дела. Другие – с надеждами на приключения и легкую поживу. Но все охотно изъявляли желание служить царю Петру.
Принимая иностранцев на службу, царь интересовался только их профессиональной выучкой. Прошлая жизнь, место рождения, вера не волновали его. Неудивительно, что поручил государь Льву Измайлову, уезжавшему с посольством в Пекин, нанять китайского архитектора. Поручение Петра выполнить не удалось. А жаль. Может быть, сегодня мы могли бы любоваться на берегах Невы или в пригородах Санкт-Петербурга памятниками китайского зодчества начала XVIII столетия.
Не все приезжавшие в Россию оставались навсегда. Кое-кто не выдержал жесткой требовательности русского царя. Кто-то – трудных житейских условий. Но большинство служило честно. Достаточно заметить, что к моменту подписания мира со Швецией в 1721 году победоносная русская армия имела в своих рядах 46 полковников. Из них 21 иноземец. Из 54 подполковников – 23 иностранного происхождения. А количество приехавших моряков, кораблестроителей, оружейников, каменных дел мастеров, мелких ремесленников, кажется, не поддается исчислению.
Именно они, осев на берегах Невы, своими привычками, укладом жизни во многом определили атмосферу нового города, столь отличную и от городов Запада, и от городов России. Это была особая – петербургская атмосфера. Через сто сорок лет Александр Герцен придет к печальному выводу: «Петербург не разлил жизни около себя и не мог, наоборот, почерпнуть жизненных соков из соседства…»
Это оборотная сторона петровского манифеста. Но ведь существует и лицевая.
К моменту смерти Петра Россия, «еще недавно едва известная в канцеляриях Вены, Версаля и Лондона… заняла место в первых рядах европейского концерта». Число мануфактур за годы правления Петра увеличилось в девять раз. Балтийское море бороздили российские военные и торговые корабли. Вовсе не случайно один из первых российских историков, князь Михаил Щербатов, не очень жаловавший Петра I, риторически вопрошал в конце XVIII столетия: «Во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до такого состояния, в каком она есть ныне в рассуждении просвещения и славы?» И отвечал: примерно через сто с лишним лет, в 1892 году, если не помешают «внешние обстоятельства».
А рожденный Петром величественный город на Неве? Он и по сей день потрясает воображение, восхищает и навсегда остается в сердце. Его дворцы, проспекты, ансамбли – творения замечательных мастеров. И первым в их череде был инженер и строитель Доминико Трезини.
1 апреля 1703 года Андрей Измайлов, русский посол при дворе датского короля Фредерика IV, «учинил уговор с господином Трецином», уроженцем кантона Тессин (в Южной Швейцарии), где говорят по-итальянски.
«Обещаю господину Трецину, архитектонскому начальнику, родом итальянцу, который здесь служит датскому Величеству и ныне к Москве поедет… служить в городовом и палатном строении…
За художества его, совершенное искусство, обещаю ему… 20 червонных на всяк месяц в жалованье и то платить ему во весь год, зачинаючи с 1 числа апреля месяца 1703 года, и то доведется ему платить сполна на каждый месяц, подобающими и ходящими деньгами, по той же цене, как за морем ходят, сиречь по цене в 6 любских и всякой червонный такожде в дацкой земле такую цену подобает имети.
Именованному Трецину сверх того обещаю, как явно показал искусство и художество свое, чтоб ему жалованья прибавить…
Обещаю также именованному Трецину, чтоб временем не хотел больше служить или если воздух зело жесток здравию его, вредный, ему вольно ехать куда он похощет…
Именованному так же доведется давать 60 ефимков, по цене как в дацкой земле, на подъем к Москве и тех денег ему на счет не поставить, а как он служить больше не хощет, опять ему на подъем с Москвы толико давать и ему вольно с собою взять, что он здесь наживет… а будет ли он еще на время болен был, ни меньше того жалованье ему давать…»
Договор для архитектора Трезини как нельзя кстати. В Копенгагене нет работы. «Имя Трезини, – сообщает датский словарь искусства 1952 года, – не упоминается в датских архивах…» Предыдущий король, Кристиан V, мечтал создать мощные укрепления вокруг своей столицы. Видимо, прослышав об этом, Доминико заспешил на север. Надеялся получить заказ. Но когда добрался до Копенгагена, то увидел на троне уже другого правителя. Новый король, Фредерик IV, строить ничего не собирался. Трезини вынужден искать заработок ради хлеба насущного. Вот почему приглашение в Россию – спасение для него. А предложенное Измайловым жалованье – 1000 русских рублей – кажется сказочным богатством. Оно почти втрое превышает жалованье бомбардир-капитана, должность которого исполняет царь.
Сохранившаяся за 1702 год расписка государя в получении 366 рублей – тоже одна из малых реформ: жить только на самим заработанные средства. Ближайшее окружение пожимало плечами, посмеиваясь над причудой государя, но с почтением выслушивало его сентенции: «Понеже я службою для государства те деньги, как и другие офицеры, заслужил, то и могу оныя употреблять по своей воле; а народные деньги оставляю для пользы государства и соблюдения его, будучи обязан некогда о том отдать отчет Богу».
Подписывая спасительный и выгодный для себя договор, Трезини все же оговорил возможность беспрепятственного отъезда из России. Но правом своим так и не воспользовался. Прожил до конца дней на русской земле. А вот условие царя выполнил свято – тридцать лет отдал строению нового города в устье Невы.
В последних числах июня 1703 года Доминико Трезини вместе с другими людьми, решившими служить царю Петру, взошел на корабль. Торговая шхуна, приняв попутный ветер в паруса, взяла курс из Копенгагена вдоль берегов Норвегии к далекому северному Архангельску.
Месяц длилось трудное плавание. Тридцать дней туманы, дожди, качка. А в конце пути таинственная страна, о которой рассказывали легенды.
Трезини не вел дневник. Но ровно за год до него тем же морским путем прибыл в Россию известный путешественник и художник голландец Корнелис де Бруин. В 1711 году он издал книгу под названием «Корнилия де Бруина путешествие через Московию в Персию и Индию…». Воспользуемся выдержками из нее, чтобы нагляднее представить путевые впечатления архитектора.
«Что до города Архангельска, то он лежит на северо-запад от Московии, на северо-восток от Двины, впадающей в Белое море в шести часах от него. Город расположен вдоль берега реки на три или четыре часа ходьбы, а в ширину не свыше четверти часа… Кремль, в котором живет воевода, содержит в себе лавки, в которых русские во время ярмарки выставляют свои товары. Кремль окружен бревенчатою стеною, простирающеюся одной частью до самой реки… Все дома этого города построены из дерева или лучше сказать из бревен, необыкновенно на вид толстых… Стены в этих зданиях гладкие, обшитые красиво тоненькими дощечками… В каждой комнате обыкновенно одна печь, затопляемая снаружи. Печи те большею частию очень большие и устроены таким образом, что они не только не безобразят, напротив составляют украшение комнаты, так как они изящно сделаны… Улицы здесь покрыты ломаными бревнами и так опасны для проходящих по ним, что постоянно находишься в опасности упасть… Что до предметов жизненной необходимости, то они находятся здесь в изобилии…»
Июля в 27 день 1703 года архангельский воевода стольник Василий Ржевский донес в Москву, что вышеписаного числа «приехали из-за моря на дацком корабле, с проезжим листом посла Андрея Измайлова, 10 человек иноземцев…» Первым среди них назван Доминико Трезини.
Теперь ему предстояло не менее утомительное путешествие на юг, в Москву. Конечно, можно было отправиться в телегах по тряским лесным дорогам. Путь этот короче на треть. Но спокойнее и безопаснее плыть по рекам и озерам на барках. Как свидетельствует де Бруин, такие суденышки на четыре или пять пассажиров имеют все удобства – деревянные постели, столы, скамейки. На барке двенадцать или четырнадцать гребцов, которые поочередно меняются на веслах. Для прибывших датчан воевода Ржевский выделил две такие барки.
За две недели прошли 1000 верст по Двине, Сухоне и мелким речкам, мимо городов Великий Устюг и Тотьма и наконец прибыли в Вологду.
«Вологда, – пишет де Бруин, – составляет украшение этой страны… Я пошел прогуляться по городу и видел главную церковь, называемую собором… Эта церковь была о пяти башнях… которые русские называют главами… И на каждой из них водружено по большому кресту…Есть еще другие каменные церкви, числом 21, из которых у большей части главы также покрыты жестью с позолоченными крестами, что производит прекрасное впечатление, когда солнце играет на этих главах и крестах. Кроме того, есть еще 43 деревянные церкви, 3 мужских монастыря и один женский… Длина города составляет добрый час, ширина же около четверти часа… Это и есть место, через которое проходят все товары, идущие из Архангельска для отправки за пределы этой страны».
В Вологде путешественники пересели на телеги, чтобы трястись к Ярославлю, «одному из знатнейших городов России». А оттуда к Троицкому монастырю Сергиева Посада.
Свидетельствует де Бруин: монастырь «окружен стеной из камня… Углы стены, которая выведена четырехугольником, украшены прекрасными круглыми башнями, а между этими угольными есть и другие башни четырехугольные. Монастырь имеет спереди трое ворот; средние ворота… имеют два свода, под которыми находится небольшая сторожка, занятая солдатами… Пройдя в эти ворота, видишь посреди главную церковь, отдельно стоящую от прочих зданий. Палаты Его Царского Величества, великолепные и царские снаружи, находятся по правую сторону… Трапезная иноков, другое большое здание стоит напротив палат и видом похоже на оные. Все окна украшены маленькими колонками, камни расписаны красками… Монастырь этот обладает огромными доходами, извлекаемыми из 36 тысяч крестьян, подвластных ему; от погребения многих знатных господ, от служения по умершим и от других подобных вещей».
От монастыря лежал прямой путь на Москву. Но верст через тридцать, в деревне Братовщине, пришлось задержаться. Здесь размещалась таможня. Тщательно пересмотрев все сундуки и баулы приезжих, чиновники, или, как их в России называли, целовальники, опечатали багаж. Снять печати разрешалось только в Москве. К счастью, до нее оставалось 30 верст – часов шесть езды. Вечером 21 августа путники въехали в Москву.
Назавтра специально приставленный толмач-соглядатай повел их в Кремль, в Посольский приказ. «Все приказы (главнейшие правительственные учреждения. – Ю. О.) помещаются в каменных палатах, где постоянно сидит множество писцов в нескольких покоях, похожих скорее на темницы, чем на что-либо другое. Часто, впрочем, они и служат-таки местами заключения, и там содержат преступников, закованных в отдельных местах, а должники, содержимые за долги, разгуливают там везде в ножных кандалах. Главные чины или писари сидят в отдельных комнатах… за длинными столами, покрытыми красным сукном…»
Трезини и его попутчиков привели в ту отдельную комнату, где сидели главные писари.
Иноземцев на службу для блага Российского государства приглашал царь. Это было его дело. А приказные неукоснительно выполняли свое. Выдержав приехавших положенное время в неведении, приказные начали составлять «Условия» будущей службы каждого иноземца. Просто-напросто переписывали договоры, заключенные еще Измайловым.
«1703 года, августа в 22 день, явились в Государевом Посольском приказе иноземцы датския земли, которых призвал Его Великого Государя службы посол, стольник Андрей Измайлов. А в допросе инженерской мастер сказал: Доменником зовут Трецини, отпустил де его к Москве на кораблях посол Андрей Измайлов в службу Царского Величества, служить за инженера и жить год. А за службу свою договорился он с ним посол брать с Его Великого Государя жалованья месячного корму и по 20 червонных золотых в месяц…»
Когда наконец все «Условия» были написаны, писари приступили к подробному «расспросу» каждого. Доменник Трецини показал: «А учился он архитектурной работе и инженерству во Италии, и оттуда приехав он жил в Копенгагене четыре года и делал многие фортификационные и иные узорочные палатные мастерства. В службе нигде он не бывал и свидетельствованных писем у него нет». Архитектор сам признаёт, что ничего значительного в Копенгагене по заказу короля не строил. «В службе не бывал» (припомним, что и в датских архивах нет о Трезини никаких документов). Но упоминание архитектора о своем фортификационном мастерстве сыграло решающую роль в его будущей судьбе. Вскоре он сам убедился в этом…
Пока опрашивали сотоварищей «архитектонского начальника», пока тянулись томительные часы сидения в приказе, Трезини внимательно наблюдал за писарями-подьячими. Он только диву давался, глядя, как легко и быстро умеют преображаться эти люди. Достаточно мгновенного взгляда на вошедшего, как на лице приказного моментально возникает новая маска: то высокомерно-безразличная, то деловито-суетливая, то ласкательно-подобострастная. Зрелище поучительное. И первый, очень важный урок архитектор усвоил добросовестно. Он понял, что от настроя приказных, от бумаг, составленных ими, зависят и судьбы людей, и многие начинания. Они действуют тихо, исподволь, оставаясь в глубокой тени. Позже Трезини придется все время иметь дело с этим сильным и самоуверенным канцелярским племенем. Но, однажды познав его возможности и свою зависимость, он постарается жить с ним в мире и никогда не ссориться…
Наступили маятные, нудные дни. Поджидали указаний царя. От безделья с утра отправлялись бродить по городу. Москва потрясала и изумляла. Такого огромного города Трезини в Европе не встречал. Там дома стояли впритык друг к другу. Здесь – вольно и просторно: то посреди свободного двора, то в тени густого сада. А над морем зелени сияли на солнце купола бесчисленных церквей.
Тащились на шумный, галдящий торг у величественных стен Кремля. Заглядывали в храм, где душно пахло горячим воском и ладаном. Поднимались на высоченную колокольню, прозванную Иваном Великим. Любовались видами окрест Кремля. Потом опять бродили по улицам и проулкам. Огороженные с двух сторон разновеликими заборами, они напоминали глухие коридоры. Трезини это не нравилось. Он представлял себе, как с опаской, без надежды на помощь пробираются по ним люди поздним вечером. И сразу же становится неуютно и тоскливо. В Европе лицо улицы определяли фасады домов. Здесь – глухие дощатые ограды и затворенные ворота. Нет, Москва не приглянулась ему. А может, настроение портило еще полное отсутствие денег.
Приходилось обивать пороги приказа, подавать прошения, упрашивать, чтобы выдали причитавшееся по договору. Наконец 28 августа решено выдать жалованье на прокормление по 3 рубля на человека. Взяв за правило не ссориться с приказными, Трезини пишет сдержанное объяснение: «По приезде своем, в Москве издержал себя на прокормление, занимая из долгу многие деньги, и тем малым числом не токмо с долгами оплатитца, но и кормитца будет малые дни».
9 октября начальник Посольского приказа боярин Федор Головин разрешил дать инженеру Трезини 20 рублей. Уже немного легче. А 23 ноября наконец-то царь Петр Алексеевич повелел выплатить за прошедшие месяцы сполна: 149 рублей. В Москве же Трезини получит еще жалованье и за декабрь, январь и февраль 1704 года.
Государь не любил, когда напрасно едят его хлеб. 20 февраля 1704 года Трезини уже нет в Москве. Можно утверждать, что архитектор отправился в Петербург в середине февраля. Через десять месяцев после начала строительства Петропавловской крепости.
Говорят, что первую половину дальнего пути человек вспоминает прошлое, вторую – размышляет о предстоящем. Возможно, Трезини следовал этому правилу. Но воссоздать течение его мыслей нам не дано. Можно только предполагать.
За спиной архитектора уже выстроились тридцать три прожитых года. И многие из этих прожитых лет всё еще остаются для нас тайной.
Если начинать издалека, то следует признать роль Случая. Весной 1908 года, после трудной зимы, искусствовед и художник Александр Бенуа решил отдохнуть в тихом укромном месте, где нет художественных музеев и прославленных памятников. Выбор пал на маленький городок Лугано, что на юге Швейцарии. Все, казалось бы, сулило бездумный и безмятежный отдых. Но первые же прогулки по окрестным селениям разрушили мечты о сладостном безделье. Почти всюду встречались удивительные и прекрасные памятники старого зодчества. «Край этот оказался настоящим рассадником архитектуры и художеств, от нее зависящих». И Бенуа истово, с интересом и наслаждением стал ездить по близлежащим городкам, рыться в архивах, слушать рассказы старожилов. «Если взять циркуль, – записал он, – и, поставив штатив на Лугано, обвести карту озерной местности радиусом в 8 или 10 километров, то в черту этой окружности попали бы ряд селений, из которых родом огромное количество архитекторов, декоративных скульпторов, декоративных живописцев, создавших и разукрасивших самые замечательные памятники за последние 5–6 веков по всей Европе (кроме Англии)…»
Постепенно на письменном столе Бенуа собирались заметки с именами уроженцев предгорий Альп, уехавших в далекую равнинную Россию. В обширном списке был знаменитый строитель Эрмитажного театра и здания Смольного института Дж. Кваренги, один из создателей ансамбля в Павловске Д. Висконти, живописец Ф. Бруни, семейство Жилярди, прославленное строениями в Москве после пожара 1812 года, архитекторы Л. Руска и Д. Адамини, столь дорогие сердцу каждого петербуржца, и даже Д. Бернардацци – первый строитель Пятигорска.
Однажды у какого-то букиниста А. Бенуа случайно обнаружил прелюбопытную книгу столетней давности – словарь знаменитых уроженцев кантона Тессин. Автор ее, Джиан Альфонсо Ольдели, кратко излагал жизнеописания своих прославленных соотечественников. Можно представить радость Бенуа, когда он прочел: «Доминико Трезини… славный инженер при дворе датском; был послан королем к Московскому царю Петру Великому, и тот так ценил его, что ему поручил строить новый город Петербург, начатый в 1703 году…»
О своих разысканиях в окрестностях Лугано Александр Бенуа написал статью «Рассадник искусств» и напечатал ее в 1909 году в журнале «Старые годы».
Работа Бенуа вдохновила историка архитектуры М. Королькова на поиски в московских и петербургских архивах. В тех же «Старых годах» в 1911 году появилось его исследование об уроженце Тессина, первом архитекторе Петербурга Доминико Трезини. Публикуя интереснейшие неизвестные документы, Корольков вместе с тем вынужден был признать: «Сведения о происхождении Доминико Трезини очень скудны…»
Только в 1951 году швейцарский историк Йозеф Эрета после долгих разысканий в архивах Лугано и Астано сумел прояснить историю семейства Трезини и судьбу некоторых его потомков.
Используя факты из статьи Эрета, попытаемся вообразить, о чем мог вспоминать Доминико Трезини первую половину пути из Москвы в Петербург…
Маленький, уютный Астано. Каштанов в нем больше, чем жителей. Здесь все знают друг друга и всё друг о друге. В центре городка – старая церковь Петра и Павла. В ней 30 января 1698 года он, Доминико, венчался с Джованной ди Вейтис. Весь город, стар и млад, собрался тогда на площади. Семейство Трезини уважали.
Правда, никто из рода не славился богатством. Но над входом в дом горделиво сиял начищенный щит с дворянским гербом. Две пересекающиеся перевязи на голубом фоне. В верхнем треугольном поле – дворянская корона. В нижнем – восьмиконечная звезда, символ мудрости, В боковых полях – волнистые золотые линии.
В Астано несколько Трезини. У рода много ветвей. Есть среди них землевладельцы, купцы, священники. У каждого свой дом. Доминико с Джованной поселились в том, что ближе к площади.
Дом еще сохранялся вплоть до 40-х годов нашего, XX столетия и назывался Casa del Principe. В большой комнате на стене висели две шпаги. Предание гласило, что принадлежали они Доминико (кстати, большинство историков почему-то пишет «Доменико», хотя сам архитектор всегда подписывался Dominico Trezzinij). На клинке одной из шпаг гравировка: «Саксен, Гота и Ангальт, Фридрих, герцог». Действительно, после Тридцатилетней войны этим маленьким немецким государством правил герцог Фридрих. Может, у него Доминико начинал свой путь архитектора? И за успешную работу герцог подарил молодому зодчему шпагу? Но тут же возникают каверзные вопросы. Фридрих умер в 1691 году, когда Трезини исполнился всего двадцать один год. Не слишком ли рано для успеха? А если Доминико действительно проявил себя зрелым мастером в молодые годы, то почему не продолжал работу в Германии, а вернулся на родину? Много неясного, много непонятного в этой легенде. А документов нет. Войны не способствуют сохранению архивов. За три столетия их немало прокатилось по бывшим землям герцога Фридриха. Но само предание о пожалованной шпаге любопытно. Оно должно убедить потомков, что русский царь призвал к себе Трезини не случайно, а зная уже, что берет на службу опытного, способного мастера.
Как каждый мужчина, Доминико мечтал о сыне, продолжателе рода. А рождались девочки – сначала Фелиция Томазина, потом Мария Лючия Томазина. Судя по всему, в Копенгаген Трезини отправился один. В Москву он тоже приехал один. О судьбе Джованны нам ничего не известно. А со второй дочерью Доминико встретится только через двадцать один год.
Почему уехал? Почему бросил семью? Так было заведено испокон веков. Настоящий тессинец должен искать удачи на стороне. Десятки и сотни его земляков отправлялись в далекие странствия, чтобы создать и украсить замечательные памятники по всей Европе. Этот природный дар тессинцев четко определил А. Бенуа: «Если и невозможно разгадать тайну самой одаренности, то несомненный характер одаренности – то, что Тессин главным образом поставлял архитекторов и скульпторов, – можно объяснить тем, что люди здесь обречены иметь дело с камнем, их окружающим и часто им угрожающим… Райская красота местности с ее переливами света, с ее скульптурными формами, с ее гармонией линий и “наглядным равновесием” грандиозных масс должна была влиять особым образом на глаз населения, способствуя развитию художественного вкуса именно в направлении архитектурного и пластического понимания».
Царь Петр не знал об этих достоинствах нанимаемого мастера. Не мог и не хотел знать. По замечанию историка В. Ключевского, Петр, привыкший больше «обращаться с вещами, с рабочими орудиями, чем с людьми, и с людьми обращался, как с рабочими орудиями». Привечал лишь тех, кто надобен в настоящий момент. В 1703 году царю необходим был строитель крепостей. Еще не приспело время свободно и спокойно возводить город и порт. Сначала следовало удержать отвоеванные земли и укрепить их. Именно Доминико нужен был Петру сейчас. Он числился «архитектонским начальником» в строении крепостей…
Чем меньше оставалось до конца пути, тем больше должен был Трезини размышлять о предстоящем. Что поручит ему русский государь? Возводить бастионы, куртины, равелины? А может, дворцы и жилые дома, зачинать новый город? Ехал, не ведая предстоящей судьбы. Не позволяя себе даже помыслить о возможной славе. А его ожидало будущее бессмертие…
Все лето и осень 1703 года шведская эскадра маячила на горизонте. Вице-адмирал Нумерс сторожил устье Невы. Наблюдал за действиями русского царя. Петру оставалось только терпеть. Торопливый в исполнении желаний и замысленных преобразований государства, царь умел терпеливо выжидать в критические моменты, когда решалась судьба Отечества.
Наконец задул предзимний северо-западный ветер, и Нумерс увел эскадру на зимовку в Выборг. И сразу же, чуть притих ветер, Петр на яхте вышел в море. Твердо решил выбрать пригодное место для возведения морской крепости. Аванпоста, способного навсегда закрыть путь шведам в Неву.
Конечно, лучшим местом для будущей фортеции мог стать остров Котлин. Он лежал как раз посередке узкого горла Финского залива. Однако возведение мощных бастионов на скалах требовало немало сил и средств. А шведы уже весной могли напасть на юный Петербург. Нет, следовало искать другое.
Промеряя дно песчаной банки-отмели, протянувшейся от Невы вдоль южного берега залива, царь обнаружил самое мелкое место. К счастью, оно находилось прямо против Котлина, на северной оконечности банки у самого фарватера. Глубина всего 17 футов (около 5,5 метра). Море сделало царю подарок. Здесь и только здесь следовало возвести многопушечный форт.
Выбрав место, Петр радостно и легко умчался в Воронеж. А недавно назначенному генерал-губернатору Петербурга, расторопному Александру Даниловичу Меншикову, строго наказал: готовить лес для будущего строения. Много леса.
Морозным декабрьским днем гонец примчал из Воронежа тяжелый ящик с моделью будущего форта. А через неделю по льду Невы и залива потекли черные живые «реки». Многие тысячи людей двинулись в сторону Котлина. Кто на розвальнях, а кто и просто волоча за собой баграми заранее припасенные бревна.
Строить форт решили, как испокон веков возводили на Руси города. Срубили мощные высокие срубы. Потом окололи вокруг них лед, и башни, засыпанные камнем, плавно опустились на дно. Вновь засуетился людской муравейник. С берега везли и тащили гальку, мерзлую землю. Всё плотно набивали в торчащие над водой башни. Когда натрамбовали доверху, стянули срубы брусьями и сверху перекрыли плахами. Получилась большая, просторная платформа над морем. Своеобразный фундамент. На нем предстояло возвести сам форт для многих пушек.
В эти дни в Санкт-Петербург наконец прибыл Доминико Трезини.
Последние 70 верст до города он ехал вместе с большим обозом под охраной драгун. Не так далеко еще стояли шведы. И такие конвои существовали еще долго. Вплоть до тех дней, когда взяли Выборг. До 1710 года.
Перед приезжим открылась замерзшая широкая река и равнина, укрытая снегом. На белом фоне чернели оголенные деревья. Посередке торчали горбы крепостных валов, а вокруг – великое множество землянок. Рядом с фортецией – просторная утоптанная площадь. От нее во все стороны серыми ручейками разбегались дорожки. Там и сям черными пятнами выделялись одинокие хижины. И подпирали низкое небо прямые столбы многочисленных синих дымов. Было морозно и тихо.
Что мог подумать, что мог ощутить Трезини в эти минуты? Испуг? Вряд ли. Уроженца предгорий Альп нельзя испугать снегом. Да и раньше он уже слышал о русской зиме. Отчаяние от суровых условий существования?
Тоже, наверное, нет. Жизнь не баловала его. И потом, живут же здесь люди. Значит, и он сможет. Жалованье платят хорошее. Обещают работу – вот главное. Оставалось только узнать – какую…
На строении форта ждали опытного инженера и архитектора. Была модель, были чертежи, но укрытия для пушек, казармы для солдат, пороховые погреба следовало построить так, чтобы выдержали страшную бомбардировку врага. Именно это очень важное и спешное дело Петр поручил исполнять приехавшему архитектору Доминико Трезини.
От четкости, быстроты и качества исполнения порученного зависели теперь будущая судьба и благополучие тессинца. Доминико хорошо понимал это. И стараться стал не за страх, а за совесть. Да и время торопило. Приближалась весна, ледоход. А по чистой воде подвозить материалы и работников трудно.
Сегодня можно только дивиться, как привычный совсем к другому климату Трезини выдержал эту суровую зиму на льду залива, обдуваемого всеми ветрами. Сотни и тысячи людей выдержать не смогли. Датский посланник Юст Юль записал, что при строении форта погибло от тяжелой работы и морозов более 40 тысяч крестьян. Цифра, вероятно, завышена, но представление о трудностях дать может.
Когда залив очистился ото льда, над водной поверхностью высилась огромная массивная башня под конической крышей. Внутри еще шли работы. Стучали топоры, достраивали казармы, укрепляли порты для пушек. На семь локтей под воду выкладывали камнем и свинцовыми листами сухие погреба для пороха и припасов. Но само укрепление было готово.
4 мая 1704 года царь Петр на яхте в окружении галер подошел к форту. Он привез пушки и будущий гарнизон. Орудия расставили в три яруса, как на больших кораблях, Шестьсот отборных пушкарей и солдат разместились в казармах.
6 мая поутру на высокой мачте подняли штандарт. Затрепыхало на ветру желтое полотнище, а на нем черный двуглавый орел и контуры четырех морей – Каспийского, Черного, Белого и Балтийского. Разом заревели пушки, и шары белого дыма медленно поплыли над волнами. В ответ дружно рявкнуло несколько пушек, упрятанных среди камней Котлина. Пороховые дымы встретились над фарватером и закрыли его густой белой пеленой.
Морскую фортецию назвали Кроншлот – Коронный замок. И обязан он был охранять распахнутую дверь из России на Балтику. Коменданту царь лично вручил наказ: «Содержать сию ситадель с Божей помощью, аще случится, хотя до последнего человека… Зело надлежит стеречься неприятельских брандеров. При приближении к крепости нейтральных кораблей давать по ним предупредительный выстрел, чтобы опустили паруса и бросили якорь; в случае неповиновения открывать огонь».
Первое строение Трезини в России – форт Кроншлот – не дожило до наших дней. Не уцелели, к сожалению, ни его модель, ни чертежи. Но сохранилось несколько гравюр той поры, и по ним можно представить, как выглядело мощное укрепление, поднявшееся посреди залива. Приземистая восьмигранная башня, утыканная кругом пушками. Башня – сестра стройных и высоких восьмигранных колоколен русских церквей. Только раздавшаяся вширь как бы под тяжестью многочисленных орудий.
Непривычная форма Кроншлота вызывала недоумение и скептические замечания современников. Анонимный автор «Описания Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710-м и 1711-м гг.» писал: «Мысль форта не дурна: однако смышленые головы толкуют, что неприятельское судно, которое надумало бы двинуться на всех парусах к реке, немного встретит в том помехи от упомянутой крепостцы, потому что с круглой башни нельзя делать по кораблю зараз более двух или трех выстрелов, тогда как, если б крепостца имела форму треугольника, то с нея можно было бы залпами из десяти или двадцати выстрелов успешнее задерживать проходящие суда или даже совсем их истреблять».
Вероятно, с точки зрения классической фортификации автор и прав. Но не учел он силу и мужество русского солдата, растерянность шведов при виде неожиданно родившегося русского форта и воинский талант царя Петра. Будущее показало, что даже такой форт, своевременно поставленный, смог оказать решающее влияние на ход событий.
Через два месяца после освящения Кроншлота, 12 июля, шведская эскадра возникла на горизонте. На сей раз Нумерс привел сорок многопушечных кораблей. Несколько дней они курсировали в отдалении. И вдруг, точно набравшись смелости, приблизились на расстояние пушечного выстрела. Тотчас от кораблей отвалило полсотни шлюпок с десантом и устремилось к острову. Небольшой русский отряд, засевший на Котлине, защищался столь мужественно и разумно, что шведам пришлось ретироваться. Тогда разъяренный Нумерс решил разрушить Кроншлот.
Двое суток продолжалась непрерывная бомбардировка. Но благодаря своей форме форт выдержал обстрел, не понеся особого ущерба. Правда, и шведские корабли не пострадали, но прорваться в устье не рискнули. Это была победа русских. Царь Петр мог торжествовать. Радовался и Трезини. Он доказал, что умеет работать и может принести пользу русскому царю.
Примерно через год, с 4 по 6 июня 1705 года, шведы, на сей раз под командованием адмирала Анкерштерна, вновь появились в виду Кроншлота. Одновременно со стороны Выборга на Петербург двинулся десятитысячный отряд генерала Майделя. Шведы решили взять русских в клещи. Но теперь врага уже поджидали на море русские корабли под командованием вице-адмирала Корнелия Крюйса. А на суше успешно действовал командующий русскими полками генерал Роман Брюс.
Вновь пытались шведы высадить десант на Котлине. И столь же неудачно. Вновь попытались бомбардировать Кроншлот и прорваться к городу. Но контратака, предпринятая Крюйсом, причинила врагу немалый урон. Да и Майдель был вынужден отступить, понеся ощутимые потери. 14 июля Анкерштерн предпринял последнюю попытку захватить Котлин. Однако, потеряв 600 солдат и матросов, постыдно ретировался. Штурмовать Кроншлот и Котлин шведы больше никогда не пытались.
В честь сей «виктории» царь Петр отпечатал в Амстердаме план морского сражения с подробным описанием. Пусть в Европе знают, что Россия окончательно утвердилась на море.
Победа упрочила положение Доминико Трезини. Он понравился русскому царю и стал ему нужен.
Европа встретила XVIII столетие пушечным рыком и стонами раненых. На севере Россия в союзе с Польшей и Данией сражалась против шведов. Весной 1701 года Англия, Голландия и Австрия объединились против Франции и Испании. Началась Война за испанское наследство. 1704 год – первый високосный год нового века. Говорят, что он всегда сулит несчастья. Но на войне если есть проигравший, то должен быть и победитель. Англичане в тот год остановили продвижение французов на севере и захватили Гибралтар – ключ к Средиземному морю.
26 апреля того же года Петр Апраксин начал осаду Нарвы. А в мае из Петербурга выступил сам царь. Впереди шли лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки. Шли к хорошо памятным местам. Они одни в 1700 году, стоя по колено в крови, как гласила молва, сдержали страшный натиск опытных шведов и не отступили. За великое мужество пожаловал им царь особое отличие: надевать к парадному мундиру чулки цвета крови – красные. Теперь полки маршировали к Нарве, чтобы отомстить за недавнее поражение русских войск.
Петр нарочито именовал Нарву во всех приказах на старинный российский манер «Ругодев». (Некоторые ученые считают, что в переводе это означает «производитель пеньки». Правда, пеньку Нарва получала из Пскова и Новгорода, но считалась самым крупным портом на Балтике по ее вывозу.) Пока город был в руках шведов, царь не хотел называть его иначе.
Готовясь к войне, шведы изрядно укрепили Нарву. Только за три года – с 1698-го по 1700-й – на строительство ее бастионов и крепостных ворот отпустили 259 530 золотых талеров. Однако к началу русской осады успели завершить лишь северные укрепления с мощными бастионами «Виктория» и «Гонор». Но и те, что остались недостроенными, внушали уважение.
Окружив Нарву, царь предложил гарнизону почетную капитуляцию. Но старый вояка генерал Горн, который командовал обороной еще в 1700 году, с презрением отказался, не забыв напомнить Петру о прошлом поражении. Разъяренный царь велел прочитать ответ Горна солдатам.
13 июля русские начали круглосуточную бомбардировку крепости и продолжали ее до 9 августа. А в два часа дня пошли на штурм. С северной, самой укрепленной стороны, откуда русских и не ждали. В три часа раздались глухие удары барабана: комендант Горн сам бил в него кулаками, прося о пощаде. Но было уже поздно. Над крепостью поднялся русский флаг. Через неделю сдался Иван-город – на правом берегу реки. Трофеем русской армии стали 520 пушек.
Четыре года назад Карл XII в честь своей победы повелел выбить одну медаль. Петр после взятия Нарвы указал сделать три медали. Позор первого поражения он искупил. Теперь у русских было уже два порта на Балтике. Первый високосный год нового столетия оказался счастливым для Петра Алексеевича.
Но шведы еще были сильны. Их полки, под командованием опытных генералов, квартировали от Нарвы на расстоянии трех-четырех переходов. Шведов следовало остерегаться, а обретенную крепость следовало починить и укрепить. Видимо, в самом конце лета 1704 года царь вызвал из Петербурга инженера-фортификатора Доминико Трезини.
От Санкт-Петербурга до Нарвы – 148 километров. Три дня езды. Можно предположить, что уже к середине сентября архитектор прибыл в пропахший гарью и порохом город.
Нарва лежала в развалинах. Солдаты расчищали узкие улочки от кирпичей и обгорелых балок. Изредка, прижимаясь к стенам домов, прошмыгивали уцелевшие горожане. Царь поселился в двухэтажном домике с башней у городской стены. Он сам взял его во время штурма и с гордостью говорил об этом. Но больше разговоров шло о том, как быстрее и лучше укрепить разбитые ядрами крепостные стены и бастионы, как и где соорудить казармы для солдат, погреба для воинских припасов. Всем этим предстояло заниматься Доминико Трезини.
А вот ремонт обывательских домов для нужд приближенных Петр Алексеевич поручил вызванному в Нарву Ивану Матвеевичу Угрюмову. (Многие десятилетия исследователи называли его Иваном Матвеевым, и только в 1959 году А. Н. Петров установил фамилию мастера.)
Две главные улицы Нарвы – одна с севера на юг, а другая с запада на восток – рассекали город на четыре части. Трезини строил западные и восточные ворота. Особенно много внимания уделял он восточным. Царь потребовал, чтобы походили они на триумфальные арки, которые ставили в Древнем Риме для кесарей.
Заметим, что, овладев несколько лет спустя Ревелем, Выборгом и Ригой, Петр нигде больше не ставил триумфальных арок. Только в Нарве-Ругодеве, древнем русском городе, где неудачно начал войну и где искупил свой позор.
Еще десятилетия назад в честь воинских побед и знаменательных событий возводили на Руси памятные храмы. И эту традицию поломал Петр Алексеевич. По римскому образцу – триумфальной аркой – решил царь отметить свою первую победу под Азовом еще в 1696 году. Велел сколотить ее из досок и брусков и указал даже, где поставить. А потом целый месяц терпеливо ожидал, пока построят, чтобы во главе армии торжественным маршем войти в столицу. Впервые в истории России колокольный перезвон сопровождался пушечным салютом. А вместо торжественного молебна прозвучали праздничные вирши. Царь ликовал, а народ с непривычки молчал в изумлении. Но с той поры древнеримская триумфальная арка стала неизбежной при всех российских торжествах.
Так было и после Нарвы. В Москве поставили семь триумфальных ворот. Пушкин в «Истории Петра» заметил: «Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями (курсив мой. – Ю. О.)». Чувство национальной гордости и патриотизма сильнее непонимания.
Мелкие и честолюбивые наследники царя-реформатора стали со временем возводить арки в честь своих коронаций, въездов в города и других не столь уж знаменательных событий. К триумфальным аркам привыкли. А привычное, обыденное, как правило, утрачивает свой изначальный высокий смысл. Традиция, рожденная Петром, вновь обрела свое истинное предназначение только после войны 1812 года.
Массивные и торжественные триумфальные ворота из камня, возведенные Трезини в Нарве, царю понравились. Архитектор получил государево одобрение. А ворота прозвали «Петровскими». Иноземцев впускали в город только через них. Пусть видят памятник русской славы и мощи. (К сожалению, ворота не дожили до наших дней. Не сохранились и чертежи.)
Сам архитектор без особой радости вспоминал потом свою жизнь в Нарве. Составляя на склоне лет «Краткий реестр работам…», он только в самом конце дописал: «Еще некоторые по указам блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорского Величества построены здесь в Российской службе в прежних годах, а именно: в Нарве градския врата, крепость Кроншлота…»
В конце лета 1705 года Доминико Трезини велено наконец возвратиться на берега Невы для строения города.
Городом называли крепость. Так уж велось на Руси испокон веков. Даже много позже, в 1717 и 1718 годах, когда Санкт-Питер-Бурх уже был столицей государства, в донесениях о строительных работах по-прежнему писали: в Городе (то есть в крепости), в Летнем саду, в Зимнем дворце, в Петергофе. Крепость всегда была главным строением Петербурга.
Остров, на котором возводили крепость, следовало подсыпать. По теперешним меркам – гектара на полтора. Так требовал Ламбер по законам военной науки. И многие тысячи людей принялись безропотно таскать землю.
Анонимный автор «Описания… столичного города С.-Петербурга…», напечатанного в 1718 году, сообщает: «Земли в этих низких местах очень мало, и ее надобно приносить издалека в подолах одежды, в тряпках или мешках из старой рогожи, на плечах или в руках…»
За все вершившееся на берегах Невы отвечал генерал-губернатор рождавшегося города. А в его отсутствие – будущий президент Коллегии иностранных дел, мудрый и образованный Гавриил Головкин. Они исправно и часто доносили царю о всех делах.
Меншиков – Петру 25 июля 1703 года: «Городовое дело управляется как надлежит. Работные люди из городов уже многие пришли и непрестанно прибавляются…» В строгое деловое письмо неожиданно врывается человеческая жалоба: «Только то бедно, что здесь солнце зело высоко ходит». Непривычны для уроженца Москвы белые ночи, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».
Как выдержать напряжение, как сохранить силы, когда есть приказ работать от зари до зари? И если устает кавалер Александр Меншиков, то что же тогда говорить о солдатах и работных людях? Проклиная царя и его затею, строители таскали землю, копали рвы, забивали сваи, ставили огромные ряжи и засыпали их землей.
Головкин царю 17 августа: «Городовое дело строится истинно с великим прилежанием… Как у солдат, так и у работных людей нынешней присылки болезнь одна: понос и цинга». И вовсе не случайно Головкин просит царя повелеть, чтобы «закупили в низовых городах рыбьего жиру на 40 000 работных людей». Такое число людей обязана была отправлять Россия на берега Невы в первые годы строительства Петербурга. Причем не всех сразу, а в две смены – с апреля по июль и с июля по сентябрь – по 20 тысяч работников. В разные годы наборы проводились по-разному. Сначала по работнику с девяти дворов. Потом – с двенадцати и даже с шестнадцати. Остальные откупались деньгами на корм несчастных.
Их гнали пешком под охраной солдат. Месяцами шли они, пробавляясь в дороге собственным харчем. От Москвы до Петербурга весной и осенью добирались за пять-шесть недель. А из дальних городов еще дольше. До конечной цели доходило 57–60 процентов. Никогда не удавалось собрать нужное число. Помещики и монастыри всячески старались укрыть своих людей. А сколько умирало в дороге или уходило в бега? Число беглых вначале было столь велико, что 9 июня 1707 года Петр издал указ – брать всех членов семьи бежавшего и держать их в тюрьме до тех пор, пока беглец не будет изловлен. Пойманным рвали ноздри и отправляли на каторгу. В 1724 году царю показалось, что ноздри у каторжников вырваны мало, и он повелел «вынимать до кости».
Работали от зари до зари, прерываясь летом на три часа для обеда, а весной и осенью, когда дни короче, – на два часа. За день прогула вычитали семидневный заработок. За час прогула – однодневное жалованье. Такой поистине каторжный труд оплачивали одним рублем в месяц. Позже, чтобы уменьшить смертность от голода, временным работникам стали выдавать 29 килограммов муки в месяц и 50 копеек деньгами.
Датчанин Юст Юль в 1710 году пишет: «От работ, холода и голода погибло, как говорят, 60 000 человек…»
Другой иноземный современник: «Говорят даже, будто бы свыше 100 000 при этом погибло».
Русские историки считают, что цифры смертности, приводимые иностранцами, несколько преувеличены.
Сохранилось письмо А. Д. Меншикова от 1716 года кабинет-секретарю царя А. В. Макарову: «В Петергофе и Стрельне в работниках больных зело много и умирают беспрестанно, которых нынешним летом больше тысячи померло». Это пишет человек, который заинтересован скрыть плохое состояние дела. Ведь именно он, Меншиков, отвечает за строительство Петербурга и дворцов вокруг него. Кроме того, в 1716 году положение работных людей лучше, чем было восемь-десять лет назад. Наладился подвоз еды. Накоплен кое-какой опыт.
Царские дворцы в Петергофе и Стрельне возводили работники, набранные в Петербургской губернии. По данным, приведенным С. П. Лупповым, в 1714 и 1715 годах (данные за 1716 год не сохранились) губерния должна была выделять по 7304 человека в год. Но фактически в 1715 году в столицу отправили 4380 работников. Часть из них (видимо, меньшую) послали на работы при Пушечном дворе. Остальных – около 3000 человек – на строительство дворцов. Тогда, по письмам Меншикова, получается, что умирал каждый третий человек. А в годы, когда зачинался город и людей прибывало больше, а условия были хуже, смертность наверняка была не меньше.
Рядом с мужиками, согнанными со всей Европейской России (Сибирь людей не слала, а откупалась деньгами), работали солдаты пехотных и драгунских полков и пленные шведы. (Кстати, последние были в лучших условиях, чем русские. Они получали бесплатно те же 29 килограммов муки и еще 90 копеек деньгами, то есть всего 1 рубль 40 копеек.) Но смерть, голод, болезни не выбирали жертвы по одежде. Они одинаково уносили и мужика, и бравого солдата. Справедлива, видно, народная легенда, что стоит Петербург на костях.
В России жило тогда около 14 миллионов человек. И даже несколько десятков тысяч трупов, уложенных в основание нового города, – факт очень страшный. Увы, человек, совершающий великое историческое деяние, не всегда руководствуется высокими нравственными идеалами. Не случайно, приступая к написанию «Истории Петра», Пушкин заметил: его временные указы «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом».
Даже если иноземцы преувеличивают число погибших, а народные предания не имеют под собой достаточных оснований, они всё равно важны для историков. В них – отношение современников к происходящим событиям. Они отражают изумление европейцев перед российским безразличием к человеческой жизни и народный страх перед бессмысленной жестокостью царя.
Город на болоте, возникший с непривычной для россиян торопливостью, не обладал собственной историей. Посему успешно способствовал рождению многочисленных и разнообразных легенд. Впрочем, не только рождал, но и притягивал, собирал их, населяя на многие десятилетия вперед просторные пустыри-площади и широченные улицы-проспекты странными образами и причудливыми видениями.
Для утверждения и освящения деятельности царя, для поднятия духа народного была создана красивая легенда: «Когда Петр выбрал место для будущего города, то все вдруг увидели орла, парящего над царем, и шум от парения его крыл был слышен. А в день закладки крепости снова появился орел, который с высоты спустился и вновь парил над оным местом».
Легенду о Божественном вмешательстве настойчиво пересказывали по всей стране. А в 30-е годы XVIII столетия ее записал анонимный автор, добавив, что закладка Константинополя – первой столицы Православной Церкви – также была ознаменована появлением орла. Эта легенда, рожденная «наверху», как и многие ей подобные, прожила долгую жизнь. Даже в 1903 году, когда Россия торжественно праздновала двухсотлетие основания Петербурга, ее пересказывали газеты и популярные брошюры для народа.
Но еще раньше пополз в народе слух о «подмененном царе», о «Петре-антихристе», о страшных видениях, обещавших проклятому Петербургу быть пусту. И столь же долго, столь же упорно передавались по Руси рассказы о заклятом городе на Неве, сулящем простому люду беды и несчастья…
Когда к лету 1705 года Трезини покинул Нарву, земляная фортеция уже давно была готова. Огромным пауком с шестью мощными лапами-бастионами распласталась она на Заячьем острове. Триста пушек стояли на ее валах. В центре возносился к серому небу тонкий шпиль деревянного храма Апостолов Петра и Павла. Предстояло завершить сооружение кронверка на Городовом острове. Его земляные валы обязаны были прикрывать крепость с севера. Следовало закончить канал, прорезавший фортецию с запада на восток, чтобы ослабить напор волн в часы наводнений и питать защитников водой в дни осады. Своей очереди ждали казармы, пороховые погреба, аптека, дом коменданта.
Почти с самого начала возведения крепости смотрение за техническим совершенством всех работ имел знающий фортификационное дело Иоганн Кирхенштейн из Саксонии. Он приглянулся царю еще при строении азовских укреплений. За что был пожалован званием майора. Но саксонец скончался на берегах Невы 24 июня 1705 года. Вот почему, не мешкая, собрав нехитрые пожитки, Доминико Трезини заторопился из Нарвы в Петербург. Государь назначил его преемником Кирхенштейна. Трудная и почетная обязанность.
Теперь ему, Трезини, предстояло отвечать за главную русскую цитадель на Балтике. За Петропавловскую крепость, без которой сегодня мы не мыслим город.
«Архитект цивилии и милитарии»
Год 1706-й – особый в жизни Трезини. Переломный. С него начался путь архитектора в будущее.
Еще зимой повелел государь начать перестройку земляной Петропавловской фортеции в камне – кирпиче. Чтобы стали ее будущие малиново-красные бастионы символом вечного стояния России на балтийском берегу.
Перестройку государь поручил «архитекту цивилии и милитарии» Доминико Трезини. Это – признание и почет строителю, прибывшему сюда меньше трех лет назад. Правда, других архитекторов-иноземцев в Петербурге пока еще не было. Но царь ведь мог пригласить. А не сделал этого. Доверил испытанному на Кроншлоте и в Нарве тессинцу. Доминико осознал и оценил милость Петра Алексеевича.
Это великое и мощное строение своими могучими стенами навсегда отгородило Трезини от Европы и заставило прожить до самой смерти в России. Двадцать восемь лет отдаст архитектор этому главному делу своей жизни. Уже в преклонном возрасте все перечни своих трудов неизменно станет начинать фразой: «Первейшая из главных работ – Санктпетербургская фортификация, которая застроена каменным зданием с 1706 года…»
30 мая после торжественного молебна под пушечную пальбу перед строем полков царь Петр Алексеевич самолично заложил первый камень в основание будущей кирпичной цитадели. А под тот камень поставили золотой ковчежец с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.
Размах начинания, надобность в умельцах и строительных материалах требовали нового отношения к делу. Следовало в нужные сроки заготовить и подвезти много плитного камня для фундамента, сотни и сотни тысяч кирпичей, отборную известь, лес. Для своевременного исполнения всех надобностей Петр создал специальную Канцелярию городовых дел. Во главе ее поставил дельного, расторопного Ульяна Акимовича Синявина (Сенявина). А Трезини, получивший наказ возвести каменную фортецию, сделался фактически его правой рукой.
Позже Канцелярия станет ведать строением государевых домов, а потом и всей планировкой Петербурга. Так постепенно, исподволь Трезини окажется человеком, который будет отвечать перед царем за внешнее обличье города. Но это – в будущем. А пока одна забота: крепость.
Перестройку начали с бастиона Меншикова, что справа от входа в крепость. Раскатывали земляные валы (земля пошла на подсыпку острова). Потом рыли глубокие канавы, откачивали из них воду, били дубовые сваи. Только после этого закладывали траншеи плитным камнем и заливали известью. И так день за днем. Под дождем и солнцем. Всегда по колено в воде. На готовом фундаменте выводили стены из звонкого, хорошо обожженного кирпича.
Государь внимательно следит за ходом дела. Отъезжая, требует, чтобы исправно отписывали ему, что и как построено. И пишут. Страшно вызвать гнев Петра Алексеевича. Ведь крепость для него не просто защита от шведов, а памятник его политике, его воинским талантам. Перестроенная в камне, она и через столетие напомнит потомкам, как он, Петр, вывел Россию на берег западного моря. Твердо встал на этом берегу и построил удивительный город. Вот почему и вход в крепость должен быть торжественным, триумфальным.
Осенью 1707 года царь приказывает: «В будущем 708 году ворота делать подобные Нарвским». Значит, запала государю в душу арка, возведенная тессинцем в освобожденном Ругодеве.
К лету 1708 года в крепости уже выведены каменные пороховые погреба, начато строение казарм, выкладывают в кирпиче два бастиона – Меншикова и Головкина – и куртину между ними. Теперь предстоит соорудить ворота. Правда, неведомо место, где можно ломать камень для их строения. Но царь повелел, и надо срочно делать. Поэтому Трезини возводит их сначала из дерева.
Ворота пока называют Верхними. Будут и Нижние – обращенные в сторону Васильевского острова. Их сделают позже и тогда же перекинут мостик через Кронверкский пролив. Но сейчас в крепость можно пройти только со стороны Городового острова.
Перед подъемным мостом со стороны крепости – малый земляной равелин для защиты ворот в случае приступа. Но достаточно обогнуть его, и взору открывается вид на мощную триумфальную арку. Ее венчает двухметровая фигура апостола Петра с двумя ключами в руках – от рая и от ада (по этой фигуре ворота со временем стали называть Петровскими). С правой стороны арки – железная доска с датой и надписью об основании крепости. С внутренней стороны над воротами установлен большой черный двуглавый орел. В правой лапе у него держава, в левой – скипетр.
Академик Якоб Штелин, писавший в годы царствования Екатерины II историю русской скульптуры XVIII столетия, сообщает, что на воротах стояли статуи и Петра, и Павла, а между ними – фигура Христа. Однако полностью доверять запискам человека, приехавшего в Россию в 1735 году, несколько рискованно. Очень часто Штелин многое путает, устные предания выдает за подлинные факты, а порой и вовсе не сдерживает полет своей фантазии.
Библиотекарь Академии наук А. И. Богданов, составивший в середине XVIII века «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его…», сообщает, что по сторонам фигуры апостола Петра и ниже его – два ангела с трубами. Женские фигуры в нишах изображали Благочестие и Крепость или Надежду. Не исключено, что воспринимали эти изображения именно так. Ведь каждое время по-своему толкует символические образы. В зависимости от своих воззрений и потребностей.
4 апреля 1714 года государь повелел «по Большой Неве и большим протокам деревянного строения не строить». Одновременно велено Петровские ворота вывести в камне. К тому времени уже прознали о больших залежах гранита под Сердоболем (теперь Сортавала). Во всяком случае, в 1715 году сооружение каменных ворот велось полным ходом.
На пятнадцатиметровую толщину крепостной стены Трезини наложил декорацию из ниш, пилястров, волют и рустованного камня. А резко выступающий карниз как бы продолжает верхнюю кромку стены и делит декорацию на две неравные части.
Нижняя – массивная, одетая грубо околотым камнем (через сто лет его заменили штукатуркой). Мощные пилястры по краям сооружения и по обеим сторонам въездной арки сдерживают его разрастание вширь. Между пилястрами ниши для статуй Афины Паллады – победоносной воительницы и Афины Полиады – покровительницы города.
Верхняя часть, над карнизом, состоит из прямоугольника – аттика, увенчанного закругленным лучковым фронтоном. Массивные волюты поддерживают его и связывают с горизонталью крепостной стены.
Аттик украшен символическим барельефом «Низвержение Симона волхва апостолом Петром». Для человека XVIII столетия аллегория воспринималась просто – царь Петр, победивший неразумных шведов. На фронтоне и волютах – рельефные композиции из шлемов, лат, фанфар. Во всем ощущение силы и воинского торжества.
К концу лета 1716 года сооружение ворот завершено. 23 сентября Трезини доносит: «На ворота фигуры поставлены и штукатурные работы доделывают». Но статуи и рельефы были деревянные, снятые со старых ворот. А для новых, каменных, следовало, конечно, сделать их из металла.
Среди бумаг Петра хранится донесение, поданное в декабре 1722 года:
«Архитект Трезини по ведомости объявил надобно на Петропавловские ворота выливать из свинца басерливы (барельефы. – Ю. О.) и фигуры, а именно:
1. Большой басерлив, который будет поставлен в середине над воротами длиною в 17 фут и 10 дюймов, вышиною 9 фут 5 дюймов.
По обе стороны того большого басерлива 2 басерлива длиною по 4 фута по 11 дюймов с половиною, вышиною по 5 фут по 1 дюйму (это те барельефы, что должны быть на волютах. – Ю. О.).
Басерлив же, который будет поставлен наверх во фронтоне, длиною 17 фут 10 дюймов, вышиною 3 фута 2 дюйма с половиною.
2. Статуи круглые, которые будут поставлены в нишах по обе стороны ворот, вышиною по 9 фут с половиною».
Исполнить отливку Трезини договорился с Бартоломео Растрелли. За работу скульптор потребовал 2350 рублей и свинец. А ежели из его свинца и алебастра для форм – тогда 3350 рублей. «…И в том, – как сказано в донесении, – архитекты Микетти, Трезини и Гербель подписались, что дело оных басерливов и фигур той цены стоит». Петр с мнением своих зодчих не согласился. Цена за художественную работу показалась ему слишком высокой. Растрелли заказ не получил. Ничего не жалея на строение флота и армию, Петр постарался сберечь несколько сотен рублей на памятнике своим победам. Рачитель славы государства, царь твердо верил, что сила России только в ее многопушечных фрегатах, драгунских и пехотных полках.
Свинцовые фигуры и барельефы на главные ворота крепости отлили уже после его смерти. Но к тому времени и сами Петровские ворота оказались укрытыми от взоров горожан: по желанию императрицы Анны Иоанновны архитектор Трезини начал в 1731 году строить перед ними вместо старого, земляного, новое мощное каменное предмостное укрепление – равелин. В честь отца государыни – старшего брата Петра – его назвали Иоанновским.
Из рапорта Трезини от 24 февраля 1732 года: «В новозачатом прошлого года равелине… под… стены, под фасы, фланки и контргарды и под простенки казарм надлежит нынешним зимним временем бить круглые сваи, дабы в наступающем апреле в последних или майя в первых числах в оном равелине зачать каменным строением делать, чтоб в оном лете совсем по чертежу можно достроить…»
Крепость продолжали строить как главную твердыню России на Балтике, как символ вечного владения морским простором. Хотя после Полтавы, после взятия в 1710 году Выборга и Риги, после разгрома шведского флота при мысе Гангут опасности никакой уже для Петербурга не было. Но пушки крепости палили много и часто. Горожане слышали стрельбу по всем праздничным дням и по торжественным случаям, объявленным государем; после тостов на царских пирах; при спуске новых кораблей; в дни печальных церемоний – похорон. Однако за всю свою историю крепость ни разу не обрушила ядра на головы врагов. Впечатление, что укрепляли и украшали фортецию ради престижа, как символ государственной власти и главную политическую тюрьму России.
…14 июня 1718 года караульные солдаты широко распахнули тяжелые, окованные железом дубовые створки Петровских триумфальных ворот. Прогремев по мосту, в крепость вкатила закрытая черная карета в окружении драгун. Промчавшись вдоль канала, разрезавшего крепость с запада на восток, она замерла у Трубецкого бастиона. В крепость привезли государственного преступника.
По странной иронии судьбы первым политическим заключенным в фортеции оказался сын основателя Петербурга царевич Алексей. Противник всех отцовских нововведений, сторонник тихой, безмятежной старины, он не скрывал своих мечтаний: «Когда буду Государем, буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; корабли держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем не хочу, буду довольствоваться старым владением». Бежав от гнева отца в Вену, царевич готовился использовать чужеземные войска для захвата трона. Теперь в крепости начинался последний акт шекспировской по своим страстям трагедии. Ничего не утаивая, Алексей обязан был назвать своих соумышленников…
Из письма австрийского резидента Плейера: «В крепость никого не пускали, и перед вечером ее заперли. Голландский плотник, работавший на новой башне (колокольне собора. – Ю. О.) в крепости и оставшийся там ночевать незамеченным, вечером видел сверху в пыточном каземате головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента…»
25 июня царевичу объявили приговор: смертная казнь. На следующее утро царь еще раз допросил сына под пыткой. В тот же день Алексей умер. Легенда гласит, что его тихо придушили по указанию отца. Событие это надолго стало предметом взволнованных пересудов среди жителей Петербурга. Вероятно, появились какие-то послания и подметные письма, тайно ходившие по рукам. Не случайно в августе того же года государь издает суровый указ: в монастырях, этих центрах противоборства реформам, под страхом наказания никто не смеет что-либо писать в кельях при закрытых дверях. А осенью, когда все разговоры поутихли, Петр повелел изготовить серебряную медаль в память «Восстановления спокойствия». На лицевой стороне сам государь в лавровом венке, латах и мантии. На оборотной – на высоком пне корона под лучами солнца, а сверху на ленте надпись: «Величество твое везде ясно».
Непривычные к русским нравам иностранцы были потрясены твердостью духа и жестокостью отца, не пожалевшего сына. Но молчали. Предпочитал молчать и строитель крепости Доминико Трезини, знавший, вероятно, чуть более прочих. Считал, что не дело художника заниматься политикой.
Пыточный каземат – скорее всего, временно приспособленное помещение для специально созданной в феврале 1718 года Тайной канцелярии. Но для столь важного охранительного учреждения требовалось собственное и, наверное, немалое здание. Возвести его повелели, конечно, главному строителю крепости архитекту Доминико Трезини.
Работы велись несколько лет. Из архивных дел известно, что в июне 1725 года, например, для печей в Тайной канцелярии «деланы изразцы живописные с каймами». Заплечных дел мастера тоже имеют право на уют. По рапорту Трезини, в 1728 году он еще продолжал вести какие-то работы в палатах Тайной канцелярии. Не исключено, что с возникшей надобностью расширял старые помещения.
Раз в неделю крепостные ворота открывали, чтобы пропустить роту солдат для смены караула. И еще утром и вечером впускали и выпускали служителей Тайной канцелярии и мастеров Монетного двора. Кстати, его тоже построил Трезини – между Трубецким и Нарышкинским бастионами.
Чтобы не гуляли по крепости лишние люди, Сенат, уже четыре года заседавший в крепости, в том же 1718-м перевели во вновь построенное мазанковое здание на Троицкой площади Городового острова. А в 1722 году Трезини перенес из крепости и аптеку в специально для нее сооруженный мазанковый дом в начале Немецкой улицы (ныне Миллионная улица)[3].
Теперь тишину фортеции могли нарушить только команды при смене часовых на постах да еще разве истошные вопли несчастных из пыточных подвалов Тайной канцелярии.
За два столетия, вплоть до 1917 года, одиннадцать раз широко распахивали крепостные ворота, чтобы впустить траурную колесницу с гробом очередного усопшего монарха. И сотни раз проносилась под сводами триумфальной арки ворот черная, наглухо закрытая карета с обреченными на заточение государственными преступниками. Боевую крепость, построенную по самым последним достижениям инженерной науки своего времени, превратили в усыпальницу монархов и каменную могилу их противников.
Покойные императоры не могли слышать вопли пытаемых.
Но погребенные в казематах Тайной канцелярии с тщетной надеждой прислушивались к звукам заупокойных молебнов, доносившимся из крепости. И лишь караульные солдаты с одинаковым рвением и безразличием охраняли и мертвецов, и похороненных заживо.
Только в начале XIX столетия, когда на русский трон взошел Александр Павлович, крепость открыли для посещения любознательными горожанами и путешественниками.
Тянулись десятилетия. Парадные ворота дряхлели. Их ремонтировали, подновляли и, конечно, каждый раз что-то переделывали. Пришлось заменить и статуи. Ветхим стал свинец. Но даже через два столетия после закладки создатель первой истории русского искусства И. Э. Грабарь признал: «Серьезная и благородная архитектура Петровских ворот говорит… о каких-то не совсем еще прерванных нитях, соединявших “инженера”… с гениальными… крепостными сооружениями Микеле Санмикеле в Вероне».
Помянутый Грабарем итальянский зодчий работал в первой половине XVI столетия. Ученик прославленного Браманте, начавшего сооружение ныне существующего собора Святого Петра в Риме, он рано уехал на север Италии и до самой смерти (в 1559 году) строил в городах Венецианской республики.
Санмикеле прославился высоким умением сопрягать строгую монументальность с чувством прекрасного. Это заметно во всех его произведениях, но особенно ощутимо в крепостных воротах Вероны: Порта Нуова, Порта Ступпа и Порта Дзено. Они уцелели до наших дней и по-прежнему украшают очаровательный городок, рожденный еще в III веке до нашей эры.
Пожалуй, именно нижняя половина Петровских ворот в Петербурге напоминает крепостные ворота Порта Дзено. Только вместо узких дверей для пешеходов по обеим сторонам проездной арки Трезини сделал ниши для статуй.
Хочется думать, что Доминико видел творения Санмикеле. Присматривался к ним, запоминал. А тонкая нить сходства двух крепостных сооружений позволяет хотя бы пунктиром наметить странствия главного строителя Петропавловской крепости в годы учебы.
Припомним его рассказ в Посольском приказе вскоре после приезда в Россию: «…учился… архитектурной работе и инженерству во Италии…»
Во второй половине XVII столетия на Апеннинском полуострове существовало два основных художественных центра – Рим и Венеция. Для небогатого Доминико Венеция была ближе и потому доступнее.
Годы учебы Трезини совпадают с годами последнего триумфа Венеции. Еще многочислен флот республики. Еще знамениты военачальники и фортификаторы. В союзе с Австрией и Польшей (позже к ним присоединилась Россия) Венеция отвоевывает у турок Морею, Далмацию и часть островов в Ионическом море. Прославлено и венецианское искусство, бережнее других хранившее великие традиции Возрождения.
Путь из Астано в Венецию лежит через Милан и Верону. Здесь некогда родился знаменитый Витрувий, автор трактата «Десять книг об архитектуре», в котором он обобщил опыт греческого и римского зодчества. Трезини не мог здесь не задержаться. Место рождения великого Мастера и Учителя – цель паломничества каждого молодого человека, мечтающего стать архитектором. Будем думать, что это было именно так. А триумфальные ворота в Нарве и Петербурге – тихий отзвук далеких юношеских впечатлений.
Наше первое восприятие Петербурга определяет словесность.
Сначала мы узнаём город Пушкина. Державный, великолепный. С простором капризной Невы, ограниченной гранитом набережных. Желтоватые громады зданий охраняют покой площадей. Загадочные львы и сфинксы у пристаней и подъездов. Кружевной узор чугунных оград. И обязательное сияние адмиралтейской иглы.
Позже мы открываем другой Петербург. Мрачный, давящий душу. Город, где во дворы-колодцы никогда не заглядывает солнце. А глухие брандмауэры даже в летние дни, кажется, источают промозглую сырость. Это Петербург бедных людей, которых заставляют вечно дрожать нужда и пронизывающий ветер с моря. Это город Достоевского.
Есть и Петербург Блока, где на перекрестках в круговерти снежных метелей или в призрачном сиянии белых ночей так странно переплетаются мечты и реальность, рождая фантасмагорические видения…
Но существовал когда-то город изначальный. Петербург государя Петра Алексеевича. Тот, который начинал строить Доминико Трезини. Каким он был?
Несколько зданий, доживших до наших дней, не позволяют восстановить реальную картину. Время уничтожило ее композицию. Однако сохранились пухлые тома архивных дел, тронутые желтизной листы чертежей и планов. Они способны многое поведать о Петербурге изначальном. Его облике, быте и нравах.
В Музее истории Санкт-Петербурга хранится план города 1706 года. Не исключено, что Трезини мог участвовать в его создании. Через двадцать лет, составляя краткий реестр своим работам, он записал: «…абрисование всех здешних окрестных островов…»
Города в теперешнем понимании на этом плане еще нет. Только раскиданные на разных островах группы строений и землянок. Холодная речная вода, сулящая беду, разъединяет людей. А белесое низкое небо, кажется, еще сильнее давит их к земле, к непролазной осенней и весенней грязи, готовой стащить с ног последние лапти или чуни. Мостов нет. Каждый остров живет своим укладом. Лишь необходимая поспешность в строении укреплений объединяет усталых людей. И первое среди всех оборонительных сооружений – крепость.
На сохранившемся плане она резко выделена четкостью абриса и жирным штрихом. Крепость пока главное строение будущего города. Впрочем, навсегда останется символом Петербурга, символом прочности власти.
Наискосок от нее, на левом берегу Невы, – прямоугольник Адмиралтейства, способный вместить двенадцать стапелей. А так как война со шведами еще в самом разгаре, то стапели обведены рвом и валом с бастионами. Место для Адмиралтейства отвели как раз на расстоянии пушечного выстрела от крепости. Чтобы накрыть его огнем, если захватит враг. Обычный расчет военного человека. Градостроительное искусство, сиречь архитектура, хорошо для Петра только то, которое отвечает практическому делу. Через десять лет немецкий ученый, математик Г. Лейбниц, запишет после встречи с царем Петром: «Он больше восхищается некоторыми хорошими машинами, чем собранием прекрасных картин, которые ему показывали в королевском дворце».
К 1 октября 1705 года сооружение Адмиралтейства со рвом, четырьмя бастионами по углам и пятым перед башней на южной стороне завершили. Над башней с въездными воротами установили тонкий шпиль. Теперь уже две стремительные вертикали на обоих берегах – одна над крепостной церковью, другая над Адмиралтейством – нарушали равнинное однообразие рождавшегося города.
Маленькие кораблики, нарисованные в протоке между крепостью и Городовым островом, указывают на стоянку русского военного флота. А купеческая пристань расположена на самом острове – на месте теперешнего съезда с Троицкого моста. Дальше по берегу, вверх по реке, квадратики жилых домов.
Для них рубили лес вокруг, заболачивая и без того волглую землю. Перевозили уцелевшие срубы из Ниеншанца. Везли бревна из Карелии. Сохранилось письмо Меншикова коменданту Олонца с просьбой срубить дом на восемь покоев и с церковью, а потом, разобрав, привезти его в Петербург.
Генерал-губернатор, «липсте камрат» государя, построил свой поместительный дом рядом с «Красными хоромцами». (Позже в доме селили знатных приезжих, а в 1711 году он в одночасье сгорел.) Тут же вдоль берега реки поднялись жилые палаты ближайших сподвижников: Никиты Зотова, Романа Брюса, Петра Шафирова, Гавриила Головкина.
Позади этих «дворцов» – дома поменьше, поскромнее, для людей чинами пониже. Получилось некое подобие улицы. Дворянской.
У кронверка – табор. Землянки, халупы, шатры. Рынок. Зато на северной оконечности острова порядок. Четкие ряды солдатских жилищ.
На Васильевском острове запустение. Лес да кустарник. Только на восточном мысу, будущей Стрелке, машут крыльями ветряные мельницы для пилки досок. Да в северной его части, неподалеку от устья Малой Невы, укрылась в лесу чухонская деревня домов на двадцать.
Случайность царит в застройке левого берега. Между теперешним Литейным проспектом и Фонтанкой несколько барских усадеб с огородами и коровниками. Каждая из них обнесена прочным тыном: вокруг немало людей, падких на чужое добро. Да что здесь, в Петербурге, – по всем дорогам России гуляют воровские шайки. Опасно ездить стало. Разгул вольницы – характерная черта Петровской эпохи. Долго не могли с ней совладать и в новом городе на Неве. В конце концов 10 августа 1719 года государь указал: «Для прекращения воровских проходов и всяких непотребных людей сделать при Санктпетербурге шлахбомы (шлагбаумы. – Ю. О.) и… при них быть в ночи караулу…» Тогда стало чуть легче. Вздохнули свободнее…
У самого истока Фонтанки, на правом ее берегу, велел государь разбить свой Летний сад. А начиная от Большого луга (теперешнее Марсово поле) и дальше до самого Адмиралтейства – дома офицеров флота, опытных корабелов, иноземных мастеров. Дома стоят свободно, как Бог на душу положит, от Невы до Мьи (Мойки). Чистота и порядок отменные. За всем наблюдает строгий вице-адмирал Корнелий Крюйс. Гигант-моряк слыл среди обитателей Греческой слободы (так почему-то ее прозывали) человеком разумным, справедливым и добрым. Свидетельство современника: «У него же во дворе находится реформатская церковь… За неимением колоколов при этой церкви, время богослужения… возвещается поднятием на углу двора, выходящем к набережной, присвоенного вице-адмиралу флага, на котором изображен голубой крест в белом поле».
Рядом с Греческой слободой на другом берегу Мьи поселился и Доминико Трезини. Примерно там, где находится последняя квартира Пушкина.
Дальше вниз по Неве, за Адмиралтейством, снова порядок военного лагеря: флотские склады, жилье моряков и адмиралтейских служителей.
Таков первоначальный Петербург. И еще никто не подозревает, что в будущем он обретет славу одного из прекраснейших городов мира. А пока каждый приехавший строит для себя как хочет и где хочет. «Потому, – свидетельствует очевидец, – что здесь на место полное раздолье». И потому, как во всех русских городах, – глухие заборы, тупики, кривые изгибы улиц. Нет системы. Нет единого плана. На всем печать временности, случайности.
И. Э. Грабарь называет этот период в истории города «деревянным». Длился он вплоть до начала 1711 года. Название справедливое, если припомнить, что, помимо крепости, до 1710 года ни одного каменного жилого дома или церкви на берегах Невы построено не было.
Вплоть до 1709 года Петру Алексеевичу недосуг всерьез заниматься внешним обликом Петербурга. Еще очень силен Карл XII. Слишком большая опасность нависла над Россией. Война забирает все силы и помыслы. Но Петр твердо убежден – город будет существовать. Основание для него уже заложено.
Естественно, что в этот «деревянный» период Доминико Трезини не мог раскрыть свои способности архитектора. Он весь поглощен Петропавловской крепостью. Вдобавок все время возникают какие-то неотложные дела в Кроншлоте, на Котлине. Требует сил и времени ремонт крепостных сооружений Шлиссельбурга. Ведь он охраняет тыл юного города на Неве. Но все эти заботы связаны лишь с точными инженерными расчетами и предельной аккуратностью в деле. Художественный вкус и талант зодчего не надобны для установки бревенчатых срубов. Даже если предназначены они для знатного вельможи. Остается одно: надеяться и ждать своего часа.
Начальный Петербург – город военных. Повсюду зеленые мундиры пехотинцев. Реже красные – артиллеристов. Еще реже гражданское платье. Совсем мало женского.
Доминико Трезини ходит в немецком. Не имеет чина. Кафтан до колен из синего сукна с большими обшлагами и вместительными накладными карманами. На воротнике и по бортам – строгий серебряный галун. Такого же сукна короткие штаны до колен. Под кафтаном – светлый короткий камзол без складок и воротника. Днем сапоги – лазить по стройке. Вечером – в гости или на ассамблею – чулки и туфли.
До сих пор неизвестны его портреты. Но если поверить народным суждениям, что потомки порой напоминают дедов, то есть у нас маленькая надежда представить облик архитектора. До наших дней дожила миниатюра с изображением правнучки Трезини в преклонном возрасте. Судя по этому портрету, у зодчего должно было быть удлиненное лицо с тяжелым, большим подбородком, крупные черты, большой нос и круглые глаза чуть навыкате. Видимо, небольшого роста, сухощав, подвижен и, конечно, темпераментен, как всякий уроженец южных стран.
И. И. Лисаевич, историк искусства, в своей работе о творчестве Д. Трезини опубликовала хранящийся в Стокгольме рисунок, исполненный в 1721 году шведом Карлом Фридрихом Койетом. На рисунке изображены три человека: левый и средний держат развернутый план Петербурга, а третий, стоящий справа, что-то указывает на плане. Лисаевич резонно замечает, что «внимательное изучение этих портретных изображений поможет специалистам ответить на вопрос: не Трезини ли один из троих?». Читатель сам может представить, сколь велика была моя радость, когда реконструированный портрет зодчего совпал с обликом человека, изображенного на рисунке справа. (Кстати, следует заметить, что в начале 20-х годов какой-то пленный швед Койет работал у Трезини чертежником.)
По запискам Трезини видно, что умеет он принимать решения быстро, четко, по-деловому. Поэтому ему легче, чем другим иноземцам, жить и работать в Петербурге. Здесь признают людей скорых, работящих.
Дух города – тоже воинский. Все без исключения исполняли регламент, установленный царем. Но в этом огромном военном лагере со своими храмами, судилищами и маркитантами цивильный кафтан Трезини почитали за офицерский. Стоило ему в окружении трех-четырех молодых людей – учеников появиться в крепости, на строении пороховых погребов или в Шлиссельбурге, как тут же, подобравшись, бежали ему рапортовать унтер-офицеры и инженерные кондукторы. Знали, что «архитект цивилии и милитарии» командует главными строениями Петербурга и отвечает за них самому царю. Знали, что он въедлив, строг, но справедлив. Вникает во все дела, а коли кто допустит промашку – спуску не жди. Но и по-пустому, для страха, распекать не станет.
Всюду стремился успеть Доминико Трезини, архитектор в немецком кафтане, которого слушались, будто на нем офицерский мундир. Может быть, именно поэтому почти все здания, которые возвел зодчий, не требовали серьезных перестроек и переделок, а прочно стоят и в наши дни, надежно исполняя свою службу.
Истинные четкость и справедливость всегда одинаковы и на работе, и в домашней повседневности. За эти достоинства иноземные обыватели Греческой слободы избрали Доминико старостой своего прихода. (Отметим, что в 1720 году августа 22 дня по указу государя архитектор Гербель приступил к строению на Адмиралтейском острове, на берегу Мьи-реки, каменного католического храма вместо деревянного. А завершили его в 1723 году.) Никто лучше Трезини не сумел бы решить сложные вопросы и помирить рассорившихся соседей. Вот почему мы можем предположить, что мартовским днем 1710 года все от мала до велика собрались во дворе и в покоях дома архитектора.
Повод для общего сборища особый: крестили наследника Трезини, недавно родившегося Пьетро. Долгожданного мальчика. Крестным отцом изъявил желание стать сам государь Петр Алексеевич. А крестной матерью – дочь близкого друга, протестанта вице-адмирала Корнелия Крюйса. Гордый, ликующий встречал Трезини гостей. Принимал поздравления. Перебрасывался шутками. Да, теперь у него есть наследник. Мальчик обязательно станет архитектором. Разве может быть иначе? Он, конечно, пошлет его учиться в Италию, а потом передаст и свой опыт. У Пьетро будет свой сын, и тоже архитектор. Фамилия Трезини навечно станет связанной с Петербургом…
Наконец прибыл царь. Веселый, громогласный «герр Питер» знал здесь многих. И вероятно, сразу охотно включился в общий шумный разговор. Большие незатейливые компании радовали Петра. Он любил ездить в гости, а порой неожиданно являлся и сам, без приглашения. «Будучи приглашен к кому-либо или приходя по собственному побуждению, царь обыкновенно сидит до позднего вечера… Не следует, однако, забывать и его людей: их должно хорошенько накормить и напоить, потому что царь, когда уходит, сам спрашивает их, давали ли им чего-нибудь. Если они изрядно пьяны, то все в порядке…» Это наблюдения Юста Юля. Трезини, конечно, знал об этих привычках Петра Алексеевича. Всего наготовил впрок и мог спокойно сидеть за столом.
Все хлопоты заранее взяли на себя денщики, ученики и доброжелательные соседки. Дело нелегкое. Достать в Петербурге достаточно хорошей, вкусной еды – очень непросто. Наблюдательный современник заметил: «В числе разного рода неудобств здешней жизни следует в особенности отметить трудность добывания съестных припасов… Все дорого, что нужно для домашнего обихода, – но хуже всего то, что порою иных припасов вовсе нет в продаже…» И все же хочется думать, что праздник удался. Шумели до позднего вечера, пока государь наконец не встал из-за стола и тяжелой походкой не направился к выходу. Через какое-то время стали расходиться и прочие гости. И наверное, долго еще соседи припоминали, как танцевал царь Петр Алексеевич, а генерал-губернатор князь Меншиков изображал уличного продавца пирогов. Припоминали, улыбались, смеялись и убежденно говорили: торжество прошло хорошо. Все были довольны. Денщики царя, получившие небольшие подарки, тоже.
Известно, что в Россию Трезини приехал один. Первую свою жену, Джованну ди Вейтис, оставил в Астано. В Петербурге Доминико – вероятно, в 1708 или 1709 году – женился вторично.
Джованни Баттиста Цинетти, который в 1729 году работал под началом Трезини и жил у него в доме, вернувшись на родину, рассказывал, что архитектор был женат трижды. Как звали вторую жену, он не упоминал. Знал только ее сына Петра. Третья жена – Мария Карлотта. От нее у зодчего сыновья Иосиф, Иоаким, Георгий, Матфей и дочь Катарина.
Помимо семьи, в доме всегда обитали шестнадцать – восемнадцать мужчин. Сохранились документы, где перечислены все, кто состоял при Трезини и проживал при нем: десять учеников (в редких случаях восемь), писарь, копиист (а то и два) и шесть денщиков для посылок. Собственная немалая канцелярия.
Почему же этот деятельный, трудолюбивый работник, всю жизнь рисовавший чертежи, наблюдавший за строением, хлопотавший о добротных материалах, отбиравший для дела нужных, хороших мастеровых, не стал начальником Канцелярии городовых дел?
Ответ прост: не дозволял регламент. Как свидетельствует современник, «царь не назначает начальником иностранца, а всегда природного русского, хотя бы он решительно ничего в деле не смыслил. Чтобы заправлять делом и пускать его в ход, царь сажает под русским иностранцев». Так было и в этом случае. Но Трезини повезло. Ульян Акимович Синявин оказался человеком толковым. Он сразу оценил Трезини. Никогда не мешал ему мелкими придирками, не досаждал никчемной опекой. Наоборот, полностью доверял.
Уже позже, после смерти царя Петра, когда вместе с двором Петра II Синявин вынужден отъехать в Москву, он отдает приказание: «Дела… поручить… смотрению господину… архитектору Трезину… рапорты подавали бы и прочие архитекты, и мастера, и командиры к означенному господину Трезину понедельно…»
Принимая всё новые и новые обязанности, взваливая на свои плечи новые заботы и хлопоты, Трезини продолжал трудиться не ропща и не отказываясь. Таков характер. Он честно исполнял условия, подписанные еще весной 1703 года.
Трезини договор соблюдал. Царь – нет. Третий пункт гласил: «Именованному Трецину сверх того обещаю, как явно показал искусство и художество свое, чтоб ему жалованья прибавить». Архитектор сей пункт выполнил: мастерство показал. А Петр Алексеевич жалованья не увеличивал.
Настало время, когда в Петербург начали приезжать другие архитекторы. Некоторым из них платили больше, чем Доминико. Так, Леблону в 1716 году царь повелел давать по пяти тысяч в год. Француз очень знаменит и талантлив, но надо бы и первому строителю города надбавить сотню-другую…
Может, причина такой скупости кроется в личных убеждениях царя? Существует предание, что, беседуя со своим любимцем Григорием Чернышевым, государь Петр Алексеевич обстоятельно говорил о том, «как надлежит обходиться с… людьми разных наций и содержать их… Принимая их в службу, должно делать с ними договор или определять им жалованье не только по их способности и ожидаемой от них пользе, но также по свойству их нации и обыкновенного образа жизни.
Французу всегда можно больше давать жалованья; он весельчак и все, что получает, проживает здесь.
Немцу также должно давать не менее, ибо он любит хорошо поесть и попить, и у него мало из заслуженного остается.
Англичанину надобно давать еще больше. Он любит хорошо жить, хотя бы должен был и из собственного имения прибавлять к жалованью,
Голландцам должно давать менее; ибо они едва досыта наедаются, для того, чтобы собрать больше денег.
А итальянцам – еще менее, потому что они обыкновенно бывают умеренны и у них всегда остаются деньги; да они и не стараются скрывать, что для того только служат в чужих землях и живут бережливо, чтобы накопить денег и после спокойно проживать их в раю своем, в Италии, где в деньгах недостаток».
Занимательны психологические наблюдения и выводы царя. Кстати, почти через два столетия Александр Бенуа, рассуждая о характере тессинцев, напишет: «Значительную роль здесь играет то обстоятельство, что сгущенность населения в этих горных неплодородных странах издавна заставляла людей искать себе пропитание в промышленности и в заработке на стороне…» Но признаем, что свойств души Трезини, навсегда поселившегося в России и сердцем прикипевшего к новой родине, Петр Алексеевич не понял.
Чуть ли не четверть века безмолвно сносил архитектор государеву несправедливость. Лишь после смерти сурового царя не сдержал молящего крика: «Приемлю дерзновенно просить милостивейшего награждения прибавочным жалованьем против других, моей братьи, дабы я мог с своею фамилею в домашнем пробавлении, пищею и в одеждах исправиться…»
В День святого Сампсония, 27 июня 1709 года, русские войска под предводительством Петра I разгромили шведов. Непобедимый Карл XII постыдно бежал в Турцию. Гром сражения заставил изумленную Европу обернуться к востоку, и все увидели, что на политическую сцену уверенно вышло новое значительное действующее лицо: молодая, полная сил Россия.
Петр – Федору Апраксину вечером после сражения: «Ныне уже совершенно камень в основание Санктпитербурха положен с помощью Божей…»
Примечательные слова. Теперь царь смотрит на Петербург не только как на любимый город, а как на памятник рождения новой России. Как на символ победы над опасным врагом. Вовсе не случайно о сооружении монумента в честь Полтавской победы – высокой пирамиды с фигурой царя на вершине – Петр Алексеевич заговорит только через две недели после битвы. А о Петербурге вспомнит, еще не успев остынуть после сражения.
Едва только известие о разгроме шведов достигло Петербурга, как Доминико Трезини тут же отправляет письмо царю.
«Премного милостивый мой государь, господин полковник (так имели право называть Петра только люди из его близкого окружения. – Ю. О.), за добрую Вашу викторию Вашему Величеству поздравляю. Даждь Боже впредь на неприятеля такую же победу.
О своей работе доношу к Вашим великим счастием ныне твердый камень во основание и крепость Питербурха положен, а я со всяким радением рад трудиться против чертежа Вашего, токмо даждь Боже, дабы Вашему Величеству труды мои угодны были…
При сем писании униженный и покорнейший раб Величества Вашего Dominico Trezzinij
di S-to Petersburgo. А di 14 julli, anno 1709».
Для нас письма Петра и архитектора интересны еще и почти дословным совпадением фразы о камне, положенном в основание города. Видимо, Трезини знал послание царя, полученное адмиралом Апраксиным. Читал его. А это свидетельство причастности строителя к ближнему окружению государя. Многого достиг зодчий за шесть лет пребывания в России.
Фраза эта необычайно важна и для историков, и для потомков. Она позволяет сделать вывод: возведение Петербурга-столицы и для Петра, и для Трезини началось после Полтавы. А все, что делалось на берегах Невы до этого, стоит числить временным, случайным. Вот только теперь, когда уничтожена угроза России, можно спокойно и всерьез задуматься, где, как и что строить.
Еще не зная, когда и где будет возводить новый город, Петр видел его на берегу моря, похожим на Амстердам. Город должен был подняться в начале прямой дороги на Запад. Чтобы промежуточные страны не мешали честному политическому и торговому общению. «Дабы новый сей царствующий град с прочими доброжелательными и союзными европейскими государи как наилучше поблизости мог с ними иметь во всех политических делах честное обхождение в договорных союзах… а в комерциях происходила бы взаимная друг другу польза» – так в середине XVIII столетия объяснил стремления Петра первый историк Петербурга, библиотекарь Академии наук А. И. Богданов.
Через тридцать шесть лет после рождения Петербурга его посетил молодой образованный итальянец граф Франческо Альгаротти. С берегов Невы он отправил письмо лорду Гервею на берега Темзы: «Это – огромное окно, недавно прорубленное на севере и в которое Россия смотрит на Европу». В 1764 году он напечатал эту характеристику Петербурга в книге, изданной в Ливорно. А. С. Пушкин хорошо знал высказывание графа и сослался на него в примечаниях к «Медному всаднику».
Петербург со дня своего рождения – любимое дитя Петра. Он еще не называет его городом, но уже отчаянно волнуется за его судьбу. (Городом с большой буквы государь вплоть до 1712 года именует порт Архангельск.) Очутившись в очень тяжком положении на реке Прут, окруженный 140-тысячной османской армией, Петр готов отдать противнику все – Азов, Таганрог, даже земли, завоеванные у шведов, за исключением любимого Петербурга. «Парадиз» – рай – ласкательно называет его государь.
Еще нет ничего, только выросли земляные валы крепости да красным пятнышком выделяется на берегу единственный домик, а Петр Алексеевич уже видит в мечтах будущую столицу. В конце сентября 1703 года он радостно извещает Меншикова: «Мы чаем в три дни или четыре быть в столицу (Питербурх)». Первое письменное свидетельство о будущем призвании новорожденного!
Необходимость новой столицы Петр, скорее всего, осознал после жестокой казни стрельцов. Слишком ненавистен стал ему устоявшийся за века дух Москвы. Казалось, вся она пропитана заговорами, мятежами, яростным неприятием всего нового. Память о такой Москве осталась у царя на всю жизнь. Время от времени она будет проявлять себя нервным тиком и острой головной болью.
Но даже после Полтавы еще нет сил и возможностей заняться будущим обличьем Петербурга. Шведы еще владеют побережьем Финского залива. Вот почему летом 1710 года в Петербурге по-прежнему возводят деревянные строения. На площади Городового острова против крепости – храм во имя Святой Троицы. И площадь получает название Троицкой. А на Выборгской стороне – церковь Святого Сампсония Странноприимца. В память победы под Полтавой.
Лишь осенью того же года, когда взяты у шведов Выборг, Ревель, Рига, обрел Петербург наконец, по образному выражению царя, «мягкую подушку» и полную надежность покоя. Теперь Петру не терпится быстрее заключить свое любимое детище – «окно, прорубленное в Европу», – в пышную раму солидных каменных домов. Однако есть желание, а нет кирпича. Все, что готовят построенные вокруг Петербурга заводы, идет на нужды крепости, Адмиралтейства и укреплений на Котлине. Обжигать еще больше невозможно. Не хватает топлива. Нет лесов на болотистой равнине вокруг Петербурга. И тогда государь принимает неожиданное решение: строить мазанковые, или, как их называют иноземцы, «фахверковые», дома на «прусский манир».
В апреле 1711 года первые такие строения – типографские палаты и книжную лавку – поставили справа от въезда на крепостной мост. По другую сторону, ближе к Неве, стоял большой питейный дом, или, как государь его называл, «Аустерия четырех фрегатов». В дни пребывания в Петербурге царь любил посидеть здесь за кружкой пива и шахматной доской. Здесь проводили ассамблеи и буйно праздновали большие и малые победы.
Перед типографией и «Аустерией» не утихая гудела Троицкая площадь. Еще недавно ее северо-восточный край ограничивал большой Гостиный двор из нескольких сотен брусчатых торговых лавок. Но в июльскую ночь 1710 года он сгорел дотла. Из его остатков мелкие торговцы соорудили к северо-западу от Кронверка некое подобие рынка – барахолку. В народе это место прозвали «Татарский табор» – по землянкам татар и калмыков, пригнанных в Петербург на строительство крепости.
Здесь царство мелких торговцев, игроков, жуликов. То срежут шпагу у какого-нибудь офицера, то сдерут парик и шляпу. А то какой-то всадник на плохонькой кляче снял у некоей дамы ожерелье, поблагодарил ее под смех толпы и, повернувшись к ней спиной, предложил желающим купить украшение.
Севернее «Табора» стояло несколько продолговатых строений: казармы каторжников с галер. За ними, к северу, ближе к окончанию острова, поставили пороховую – зелейную – фабрику. А восточнее, за пепелищем Гостиного двора, в четком порядке разместились пехотные полки.
Площадь считали центром города. Здесь объявляли государевы указы и казнили преступников. Приходили закупить съестное и узнать последние слухи, посмотреть на иноземные корабли и выпить кружку-другую пива. (Хитроумный купец Лапшин быстренько поставил пивной завод на берегу Выборгской стороны у начала Большой Невки.) Вот почему именно на этой людной и шумной площади, чтобы всякий человек мог увидеть, выбрал царь место для новых домов. Фахверковые здания назвали «образцовыми» и всем велели строить свои палаты по их подобию.
Все же простого убеждения для жителей Петербурга оказалось недостаточно. Требовалось принуждение. И тогда 4 апреля 1714 года последовал строгий государев указ:
«При Санктпитербурхе на Городовом и Адмиралтейском островах, также и везде по Большой Неве и большим протокам деревянного строения не строить, а строить мазанки… А каким манером дома строить брать чертежи от архитектора Трезина…»
Значит, именно Доминико отвечал теперь за внешнее обличье, за пригожесть фахверковых строений. Ведь в предыдущие годы, когда в Петербурге рубили избы, подобных забот у архитектора не было.
Наглядным примером новых обязанностей Трезини после 1711 года служат документы о строении здания Коллегий на Троицкой площади.
В том же апреле 1714 года Петр решил на восточной стороне Троицкой площади поставить большое мазанковое здание для заседаний Сената и пяти Коллегий. Последовал указ: «При Санктпитербурхе на Городовом острову построить шесть канцелярий прусским новым буданктом против чертежа архитектора… Трезина, который он объявил… длиною каждая по 1, поперек по 8 сажен».
Двухэтажное здание общей длиной 140,4 метра и шириной почти 13 метров протянулось с севера на юг. Однако наружное убранство – пилястры, капители, росписи – и внутреннее украшение палат поручили другому человеку – офицеру Матвею Витверу. И Трезини не протестовал. Так было принято.
В России начала XVIII столетия архитектурное искусство еще оставалось неразрывно связанным с практикой строительства. Художественный образ здания рождался не сразу на чертеже и в модели, а складывался постепенно, в ходе самой работы. Сначала, как правило, определяли размеры здания и его план, потом клали фундамент, возводили стены, делали перекрытия. По мере продвижения работы решали, каким быть фасаду; определяли формы и размеры декоративных деталей и окончательно уточняли отделку внутренних помещений. Порой эти задачи решал уже другой архитектор. Так поступали еще в XVII веке.
Будь способности Трезини более яркими, а имя его более известным в Западной Европе, возможно, он сумел бы нарушить эту традицию. Как сумел, например, Франческо Бартоломео Растрелли. Но, увы, способности Доминико Трезини не достигали вершин архитектурного искусства. Имя его мало кто знал в западных странах. Он был всего-навсего честным, трудолюбивым профессионалом. Таких было много. Ему привалило счастье, когда пригласили в Россию. Трезини оказался первым приехавшим, и не было никого рядом для сравнения. Следовало только прочно держаться за место, безупречно выполняя все пожелания деспотичного заказчика. О какой-нибудь ломке устоявшихся правил и взглядов не могло быть и речи.
Не исключено, правда, что, подготовив чертежи и планы Коллегий, он вынужден был срочно исполнять другую работу. Слишком много дел предстояло уладить единственному в ту пору архитектору города. (Прибывший в 1713 году в Петербург зодчий А. Шлютер отвечал только за строение государевых дворцов.)
В том же 1714 году на Адмиралтейской стороне (на месте теперешнего Мраморного дворца) возводят фахверковый двухэтажный Почтовый дом с гостиницей. На западной стороне Троицкой площади – жилые дома для иноземцев – коллежских служителей. Годом раньше Троицкую площадь ограничил с севера большой мазанковый Гостиный двор – двухэтажный квадрат с галереей вокруг. На гравюре А. Ростовцева 1716–1717 годов он внешне очень похож на каменный Гостиный двор, построенный Трезини позже на Васильевском острове.
Основой стен фахверкового дома служил каркас из толстых брусьев – вертикальных, горизонтальных и порой даже диагональных. Квадратные или треугольные ячейки, образованные брусьями, заполняли кирпичом или щитами из сплетенных ветвей. Потом обмазывали с двух сторон глиной и штукатурили. Брусчатый каркас можно было покрасить в темный цвет, а штукатурку побелить. И тогда новый дом смотрелся особенно нарядно. Такие средневековые постройки можно и по сей день еще увидеть в древних городах центральной и северной Европы. Трезини вовсе не стремился изобрести порох. Он просто разумно и своевременно использовал чужой опыт.
Непривычные внешним обликом дома рождали восторженное удивление российских людей. Для иностранцев же, впервые прибывших на берега Невы, они представали привычным знаком устойчивости и постоянства. Но нам сегодня все же трудно представить Петербург с такими вот иноземными строениями, так и не прижившимися в России.
Фахверковые постройки родила необходимость. Они сулили скорую и большую выгоду: не нужно копать канавы для фундамента и откачивать из них воду, кирпича и извести надобно значительно меньше, а при умелой раскраске Петербург будет смотреться каменным, нарядным. Правда, каждый год мазанки следует подновлять, ремонтировать, Но это расходы будущего, и о них пока не стоит печалиться. Главное – выгоды сегодняшнего дня. При недостатке кирпича можно быстро и дешево возвести на топких берегах Невы нарядный и представительный город. Такой, чтоб поражал воображение приезжих иностранцев. И ведь действительно дивились. И печатали в своих странах восторженные описания новой российской столицы.
И. Э. Грабарь, изучая начальный период жизни Петербурга, наметил три этапа. Первый – «деревянный», о котором мы уже говорили. Второй – «фахверковый», который, по его мнению, начался с постройки типографии и завершился в 1714 году. Третий – «каменный».
Наивно, конечно, предполагать, что каждый этап завершается в точно обозначенный срок, а за ним сразу начинается новый. Будущее всегда зреет в настоящем. Оно тихо, исподволь набирает силу, занимая все больше и больше места. Наконец, само становится настоящим. А в его недрах уже зреет новое будущее. Извечный, неудержимый процесс. Так было и в строении Петербурга. На Троицкой площади еще рубили деревянную церковь. Еще никто даже не помышлял о фахверковых домах, как летом 1710 года, желая угодить царю, начал строить для себя каменные хоромы граф Гавриил Головкин, пожалованный недавно высшей государственной должностью – канцлером. Вслед за ним, 7 августа, приступил к возведению своего каменного дворца на Васильевском острове генерал-губернатор князь Александр Меншиков. А еще через несколько дней, 18 августа, по указаниям Доминико Трезини начали бить сваи под фундамент каменного Летнего дворца государя на Адмиралтейской стороне. В то же время, в 1715 году, на Городовом острове начинают возводить одновременно и деревянный Мытный двор, и мазанковый мясной и рыбный рынок. (Кстати, очень возможно, что делают их по чертежам Доминико.) В 1714-м обнародован строжайший указ: строить по берегам Невы только каменные дома. Но в 1715 году начинают строить мазанковый госпиталь, а еще три года спустя восстанавливают сильно пострадавшие от пожара фахверковые здания Коллегий. Хотя уже существует замысел возводить новые, каменные на Васильевском острове.
Нет, не смена приемов и строительных материалов определяет рубежи этапов. А только наличие четких градостроительных планов и начало их претворения в жизнь.
О Петербурге с прямыми, как лет стрелы, улицами, с каменными домами, стоящими плечо к плечу фасадами на Неву, о городе, похожем на полюбившийся в молодости Амстердам, царь Петр Алексеевич возмечтал, едва ступив на балтийский берег. Он мог сказать, где поставить то или иное здание, как оно должно выглядеть. Чтобы у церквей, например, были шпили на европейский лад для отличия от московских. Мог даже указать, какой ширины прокладывать улицу или копать канал. Но все это еще не было планом города.
Когда после Полтавы настала наконец пора окончательно решить, каким быть Петербургу, где размещаться его центру, оказалось, что у царя нет твердого мнения. В самом начале основания Петербурга царь поселился на Городовом острове, твердо веруя, что город поднимется здесь. Под защитой фортеции. В самом конце 1711 года Петр неожиданно принимает решение: стоять Петербургу на острове Котлин в двадцати верстах от устья Невы. А в 1714 году снова перемена: центру города быть на Васильевском острове. Петербург же тем временем, невзирая на метания царя, растет по своим законам на Адмиралтейской стороне, чтобы иметь прямую связь со всей страной. И Петр в конце концов вынужден был смириться.
Но все же указ от 16 января 1712 года, когда государь повелел строить Петербург на Котлине, – первый настоящий градостроительный план. В нем подробно говорится и о регулярной застройке, и о сословном расселении жителей Петербурга. Это рубеж нового этапа в жизни города.
Все, что было до него, можно назвать «городским периодом» (припомним, что до этого момента Петербург мало чем отличался от прочих русских городов). А после указа наступил «столичный период». Рубежи определяет история, переломные события в жизни страны, а в данном случае города.
Заметим, что, когда у стен крепости возвели первый фахверковый дом для типографии, в городе насчитывалось свыше восьми тысяч жителей. Английский посол Чарльз Уитворт доносил в Лондон: «Петербург сильно растет по числу домов: их теперь на разных островах и на Ингерманландской стороне Невы разбросано более 1500…» Когда начали строить последнее мазанковое здание – госпиталь, в Петербурге уже было, по подсчетам С. Луппова, 4500 дворов.
Государь неотступно следил за ростом своего любимого детища. Тщательно вникал во все тонкости строительного искусства. В его обширной библиотеке хранилось немало западных книг по архитектуре. Но зодчим себя не считал. Не объявлял таковым. Мог выполнить наброски, чертежи, сделать замечания, но никогда не давал расчета конструкций, что входило в основную обязанность архитектора. Царь строил корабли, но не строил дома. Он был разумным, требовательным заказчиком. За свои деньги хотел получить то, что ему по душе. И когда загорался какой-нибудь строительной идеей, поручал ее воплотить тому, кто это дело разумеет… Как правило – Трезини.
Современники свидетельствуют, что Петр редко ошибался в людях, верно угадывая, кто на что годен. За деловитость, за любовь к работе и пренебрежение личными благами Трезини нравился царю. Он привык к архитектору, как привыкают к повседневно необходимому инструменту, удобно лежащему в руке. А единожды признав кого-нибудь как надежного помощника и, следовательно, друга, царь редко потом менял свое мнение.
В государстве, где, по замечанию Пушкина, «…все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою», чувство собственного достоинства еще неведомо российским подданным. И естественно, всякое действо – большое или малое – приписывалось государю. «Государь победил…», «государь построил…», «государь заложил…». А все прочие, включая архитектора, художника, всего-навсего лишь исполнители мудрых указаний правителя.
В. О. Ключевский, рассматривая деятельность Петра, вынужден был признать: «Едва ли не он сам начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из глубокого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу».
И все же терпеливый, сдержанный Трезини проговаривается. В «Реестре» 1723 года он пишет: «Регулярное строение домов… по чертежу, подписанному Его Императорского Величества собственной рукой, учинено…» Он, Трезини, автор чертежа-проекта. А царь только утвердил. Так будем и мы в своих суждениях следовать этой примечательной проговорке.
Трудовой день в Петербурге начинался с пяти утра. Нелегко вставать с петухами. Но постепенно Трезини втянулся и другого порядка уже не мыслил. Правда, зимой легчало. Работу начинали попозже, да и было ее чуть поменьше. Все строительство вели только в теплое время, когда сходил лед с Невы. В холода готовили материалы, свозили в амбары, чертили, считали.
К ледоходу готовились. А он наступал неожиданно. Однажды поутру уехал архитектор на Городовой остров в Канцелярию. За делами не заметил, как пробежали часы. Только собрался возвращаться домой, а с крепости три пушечных выстрела подряд. Глянул в окно: над крепостью флаг подняли. Значит, тронулся лед. В тот день ночевал у Ульяна Акимовича Синявина. Супруга его, Евдокия Алексеевна, отменных пирогов напекла. А сани с лошадью денщик через три дня перевез через Неву на барке.
Денщиков было шесть. Так определил сам царь, когда он, Трезини, начинал перестраивать крепость в камне. По одному солдату от шести полков. Денщики следили за лошадьми, за буером, были на посылках и помогали по хозяйству – кололи дрова, притаскивали мешки с мукой, держали двор в порядке. Заодно несли охрану. Со временем стали они своими, домашними. Через двадцать два года, в 1728-м, архитектор вынужден обратиться в Канцелярию: «Выбраны были ко мне… в деньщики… шесть человек… И с того времени и поныне оные обретались при мне и некоторые из них померли, а достальные пришли к старости и всякие посылки и хотя бы понести не могут… Того ради прошу дабы повелено было в Канцелярии определить ко мне из рекрут молодых людей… или дать за них жалованье, из которого буду я наймывать деньщиков из вольных людей». Конечно, новых денщиков дали. Ульян Акимович понимал многотрудность и хлопотность дел инженера и архитектора…
