Семь с половиной уроков о мозге. Почему мозг устроен не так, как мы думали бесплатное чтение
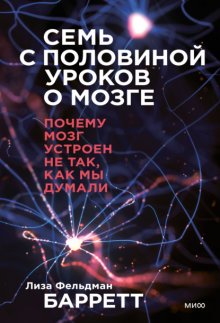
Посвящается Барбаре Финлэй и остальным моим коллегам, которые, проявляя небывалое великодушие и еще более беспримерное терпение, помогли мне разобраться в нейронауке
От автора
Цель этой книги, состоящей из коротких эссе, – заинтриговать и развлечь читателей. Ее нельзя назвать полноценным пособием для изучения работы мозга. В каждом эссе вы найдете несколько любопытных научных фактов о нашем мозге, которые позволят по-новому взглянуть на природу человека. Лучше всего читать эти очерки по порядку, но, если хотите, можете начинать с любого.
Будучи профессором, я привыкла включать в свои работы множество подробностей, связанных с деятельностью ученых, например описания исследований или ссылки на статьи из научных журналов. Но поскольку эссе, вошедшие в книгу, написаны не в строгой научной форме, список всех использованных источников я опубликовала на сайте sevenandahalflessons.com.
Некоторые из научных сведений приведены в конце книги, в Примечаниях, а также отмечены цифрами по тексту. Они помогут лучше разобраться в проблемах, освещенных в эссе, узнать, по каким вопросам в ученой среде все еще нет единого мнения, и дадут возможность познакомиться с мыслями некоторых из упоминаемых в этой книге людей.
Почему уроков семь с половиной, а не, скажем, восемь? Первый очерк, в котором речь пойдет об эволюции нашего мозга, рассказывает об этом длительном процессе кратко, то есть это не полноценный урок, а как бы половина. Тем не менее именно в первом эссе обозначены идеи, на которые опирается повествование во всех остальных главах книги.
Надеюсь, вам придется по душе то, насколько необычен человеческий мозг с точки зрения ученого, занимающегося его тщательным исследованием. Уверена, вы будете удивлены, узнав, насколько сильно от почти полуторакилограммового комка, находящегося у нас между ушами, зависит человеческая натура. О ней можно думать по-разному, и в эссе никаких строгий указаний на этот счет нет. Я просто предлагаю вам поразмышлять о том, каким человеком вы являетесь или хотели бы стать.
Мини-урок. Мозг предназначен не для мышления
Когда-то давно на нашей планете господствовали существа, у которых не было мозга. Речь сейчас идет, конечно, не о политике, а о чисто биологическом факте.
Одно из таких существ – ланцетник. Возможно, вы его когда-нибудь видели и, скорее всего, подумали, что это маленький червяк, пока не заметили по бокам щели, похожие на жабры. Ланцетники населили океан около 550 миллионов лет назад[1]. Жили они незамысловато. Обладая довольно примитивными двигательными функциями, они просто проталкивали себя сквозь толщу воды. Питались тоже весьма незатейливым способом: частично зарываясь в поверхность дна, торчали, как травинки, и поглощали всех мелких живых существ, которые попадали им в рот. Такие привычные для нас ощущения, как вкус и обоняние, ланцетникам были неведомы. Вместо глаз у них было лишь несколько клеток, способных реагировать на свет. Ушей тоже не было[2]. Нервная система ланцетников представляла собой крохотный сгусток клеток, который нельзя назвать полноценным мозгом[3]. В общем, это не животное, а какой-то желудок с хвостом.
Однако ланцетники – наши с вами дальние родственники, и существуют они по сей день. Смотря сегодня на этих животных, обитающих в каком-нибудь из морей, не забывайте, что именно такой или почти такой внешний вид был у вашего древнего маленького предка[4], который когда-то давным-давно передвигался в этой же самой морской воде.
Если представить себе крохотное пятисантиметровое животное, похожее на червяка и плавающее в толще доисторического океана, трудновато поверить, что с этого существа начался эволюционный процесс, приведший однажды к появлению человека. У человека, в отличие от ланцетника, чего только нет: несколько сотен костей, множество внутренних органов, руки, ноги, нос, способность улыбаться и, что самое главное, мозг. Последний ланцетникам не нужен. У них клетки, предназначенные для получения информации об окружающем мире, соединены с клетками, отвечающими за двигательную функцию, так что организм этого животного реагирует на все происходящее в воде быстро, у него нет необходимости обрабатывать получаемые сигналы. А вот у человека, напротив, есть сложно и эффективно функционирующий мозг, благодаря которому наша психика дает о себе знать самыми разнообразными проявлениями, такими как мысли, эмоции, воспоминания, сны. Это целый внутренний мир, без которого невозможно представить существование многих важнейших элементов нашей с вами жизни.
Благодаря чему мозг человека эволюционировал? Видимо, благодаря тому, что совершенствовалась наша способность мыслить. Принято считать, что мозг живых существ развивался постепенно, переходя от состояния примитивности, характерного для низших животных, ко все более и более сложному состоянию, превратившись наконец в необычный и непростой орган – человеческий мозг, способный думать[5]. Это определенно вершина эволюции. По крайней мере, мы так считаем. Ведь мы, люди, уникальны именно потому, что умеем мыслить, правда?
Ответ, как ни странно, отрицательный. На самом деле гипотеза, что наш мозг совершенствовался благодаря все лучшей работе ума, уже успела стать причиной большого числа очень грубых ошибок, допущенных в ходе изучения человеческой природы. Нужно отбросить это ложное убеждение, и тогда мы сделаем первый шаг к пониманию, как на самом деле работает наш мозг, какова его основная задача и, наконец, в чем заключаются основополагающие особенности таких существ, как мы.
500 миллионов лет назад, в то время как крохотные ланцетники и другие примитивные животные продолжали безмятежно трапезничать на дне океана, наша планета вступила в период, который ученые называют кембрийским. В ту пору на эволюционной сцене появилось кое-что новое и крайне значимое – охота. Каким-то образом одно из тогдашних живых существ вдруг сумело почуять присутствие другого существа и съесть его. Конечно, животные и раньше пожирали друг друга, однако теперь этот процесс стал целенаправленным. Охота, пока еще не требовавшая работы мозга, тем не менее стала важным шагом к его развитию.
Активность хищников в кембрийский период изменила нашу планету, превратив ее в весьма опасное место, где постоянно приходилось бороться за выживание.
Мы не эволюционировали напрямую от ланцетников, но у нас с ними общий предок, очень похожий на тех ланцетников, которых можно увидеть в наши дни
И плотоядным существам, и их потенциальным жертвам потребовалось как можно более отчетливо ощущать все, что происходит вокруг. У них стала развиваться сложная система получения сигналов посредством органов чувств. Если ланцетник был способен лишь различать свет и темноту, то новые животные видели окружающий их мир в подробностях. Кроме того, они не просто что-то чувствовали кожей, как это было у ланцетников, а обзавелись внушительным спектром ощущений, позволявших им воспринимать собственные движения в воде и улавливать вибрации, исходящие от проплывающей где-то рядом потенциальной добычи. Эта особенность, кстати, сохранилась у современных акул.
Живые существа того далекого периода были сосредоточены на том, чтобы определить, можно ли съесть другое находящееся поблизости создание или лучше от него спрятаться. Те, кто воспринимал окружающую среду отчетливее остальных, жили дольше и процветали. Ланцетник мог бы стать одним из самых ловких и удачливых животных того времени, но, в отличие от своих новых современников, он был не в состоянии почувствовать, что происходит в окружающем его пространстве.
Охотясь друг на друга и выполняя довольно сложные движения, существа получили возможность испытывать совершенно новые ощущения. Ланцетник шанса на такой прогресс был лишен, поскольку его нервы, дающие возможность двигаться, были связаны с нервами, отвечавшими за восприятие окружающего мира. Каждый раз, когда зарывшийся в песчаное дно ланцетник чувствовал, что количество попадающей ему в рот мелкой добычи уменьшается, он извивался и, плывя в произвольном направлении, вновь зарывался уже на каком-нибудь другом участке дна. Любая тень, падавшая на тело этого червеобразного существа, воспринималась его нервами как угроза и заставляла уплывать подальше. У новых животных, постоянно вынужденных то нападать, то защищаться, постепенно развивалось умение передвигаться все более и более замысловато, быстрее и точнее. Они могли совершать резкие, порывистые движения, поворачиваться, совершать бросок именно туда, где присутствовало что-то похожее на будущую добычу, или, наоборот, почуяв опасность, удаляться от нее способами, возможными в данной конкретной окружающей среде.
Среди всех существ, научившихся чувствовать друг друга на расстоянии и отличавшихся сложной двигательной активностью, наиболее предпочтительными с точки зрения естественного отбора были те, кто эти новые особенности использовал лучше остальных. Если какой-нибудь зверь, преследуя того, кого можно съесть, бежал не слишком быстро, то появлялся другой, более ловкий, которому в результате и доставалась еда. Или, например, животное могло долго и усердно скрываться от кого-то, кто казался ему опасным, но в дальнейшем выяснялось, что никакой угрозы не было. В итоге потраченная энергия давала о себе знать чуть позже, когда уже самому надо было охотиться, а сил не хватало. В общем, ключом к выживанию стало эффективное расходование энергии.
Здесь можно провести аналогию с бюджетом. С его помощью мы видим, сколько денег тратим и сколько зарабатываем. Если мысленно перенести это в сферу биологии, то можно сказать, что наше тело расходует и получает такие ресурсы, как вода, соль и глюкоза. Когда мы, например, плывем или бежим, эти вещества из нас выходят, что похоже на снятие денежных средств с личного счета. А чтобы «пополнить счет», нужно восстановить потраченные силы с помощью сна, приема пищи и т. д. Это, конечно, упрощенное сравнение, но оно позволяет понять, как работа нашего организма зависит от биологических ресурсов. Когда вы совершаете (или не совершаете) то или иное действие, мозг принимает решение либо расходовать ресурсы организма, либо, наоборот, сохранить их до следующего раза.
Лучший способ сэкономить деньги, как вы и сами знаете, – заранее продумывать, на что конкретно они вам понадобятся в будущем, и не допускать внезапных трат. То же верно и для «биологического бюджета». В кембрийский период крохотным существам, регулярно сталкивавшимся с голодными агрессорами, требовалась эффективная тактика выживания. Выбирать приходилось между двумя вариантами: подождать, застыв на месте (или спрятавшись), пока прожорливый зверь пройдет мимо, либо бежать прочь, израсходовав определенное количество энергии.
Когда речь идет о бюджете организма, то правильная подготовка к возможным расходам – это более рациональное решение, нежели простое реагирование на происходящее. Древние животные, умевшие заранее «просчитывать», как и где можно натолкнуться на хищника, имели больше шансов остаться в живых, чем те, кто такой дальновидностью не отличался. Чтобы нормально существовать, нужно было как можно более точно предугадывать развитие событий и избегать фатальных ошибок, при этом извлекая уроки из незначительных промахов.
Всем тем организмам, которые подобными качествами не обладали и, например, тратили слишком много сил, резко реагируя на то, что в результате оказывалось безопасным, жилось непросто. Они не умели добывать себе достаточное количество еды и реже получали возможность продолжить свой род.
Бюджет организма на научном языке называется аллостаз[6], [7]. Это механизм, действующий вне зависимости от воли и помогающий телу заранее подготовиться к возможным расходам энергии. Благодаря аллостазу работа организмов животных кембрийского периода большую часть времени протекала гармонично. Нужно было лишь своевременно пополнять израсходованную энергию, и тогда никаких проблем с «бюджетом» не возникало.
Ваш мозг следит за расходованием и накоплением таких биологических ресурсов, как вода, соль, глюкоза и т. д. Ученые называют этот процесс аллостазом
Что помогает живым существам предугадывать, когда им потребуется определенное количество ресурсов? Лучшая подсказка в данном случае – опыт, накопленный в прошлом, то есть совокупность действий, совершенных ранее и способных послужить опорой для принятия решений в текущих обстоятельствах. Если определенное действие уже когда-то привело к благоприятным последствиям, например удалось уберечься от опасности или добыть сытную пищу, то в данный момент следует поступить точно так же. Запоминать уже случившиеся ситуации и принятые решения, чтобы впоследствии подготовиться к тому или иному событию, свойственно всем животным, в том числе и человеку. Прогнозирование настолько полезно, что даже одноклеточные организмы способны заранее планировать свои действия. Ученые всё еще пытаются до конца разобраться, как таким существам это удается.
Итак, представим себе маленькое создание кембрийского периода, плывущее в воде. Вдруг оно чувствует, что впереди аппетитный объект, который можно поймать. Что в таких обстоятельствах предпринять? Двигаться вперед? Но тогда придется израсходовать часть энергии из своего внутреннего бюджета. Любое действие, как и каждая трата денежных средств, должно быть оправданным с точки зрения экономии[8]. Это и есть планирование, основанное на опыте и призванное подготовить организм к эффективным действиям. Речь идет, конечно, не о сознательном продумывании шагов, взвешивании всех «за» и «против». У животных внутри есть нечто, подталкивающее их извлекать уроки из опыта и выполнять конкретную последовательность действий, пренебрегая другими. Это нечто дает возможность почувствовать, что организму выгодно, а что – нет. Ценность каждого движения определяется тем, как оно влияет на «биологический бюджет».
Древние животные не только учились по-новому расходовать и накапливать ресурсы, они становились больше и сложнее. Усложнялось внутреннее строение их тел[9]. У ланцетника, этого крохотного желудка с хвостом, внутри почти и не было никаких систем, нуждавшихся в регулировании. Некоторое количество клеток, чтобы организм принимал вертикальное положение и поглощал добычу своим примитивным пищеварительным каналом, – вот и все, что ему требовалось. В то же время его более развитые современники обзавелись сложными внутренними системами: сердечно-сосудистой, обеспечивавшей циркуляцию крови внутри тела; дыхательной, позволявшей поглощать кислород и выделять углекислый газ; и иммунной, способной к адаптации и боровшейся с инфекциями. Животным с усовершенствованным организмом стало еще сложнее контролировать собственный биологический бюджет – как если бы вам нужно было следить не за одним-единственным банковским счетом, а за работой целого бухгалтерского отдела крупной компании. Для того чтобы контролировать расход и накопление десятков разных ресурсов – воды, крови, соли, кислорода, глюкозы, кортизола и половых гормонов, – эти существа нуждались в чем-то большем, чем маленький сгусток нервных клеток. Им нужен был целый «командный центр», то есть мозг.
Итак, тела животных становились крупнее и обзаводились всё более сложными внутренними системами, работу которых требовалось тщательно контролировать, поэтому группки клеток, предназначенных для ведения «биологического бюджета», тоже начали совершенствоваться, постепенно превращаясь во все более и более сложный мозг. Через несколько сотен миллионов лет нашу планету населяло великое множество разнообразных существ – в том числе и люди – с очень непростой нервной системой, способной эффективно управлять примерно шестьюстами мышцами, поддерживать баланс между уровнями разных гормонов, перекачивать около 7,5 тысячи литров крови в сутки, управлять энергией, заключенной в миллиардах клеток мозга, переваривать пищу, выводить из организма ненужные вещества и бороться с болезнями. И со всеми этими задачами мозг среднестатистического человека справляется на протяжении примерно 72 лет. Организм подобен огромной международной корпорации, и ее деятельностью управляет наш мозг, непрерывно следящий за нашим внутренним бюджетом. И все это в условиях огромного и замысловатого мира, в котором мы сосуществуем с другими созданиями, обладающими мозгом.
Но вернемся к изначальному вопросу: зачем эволюция сделала выбор в пользу развития мозга? Для начала нужно понимать, что эволюционный процесс не предполагает какой бы то ни было цели и не отвечает на вопрос «зачем». Но мы можем ответить на вопрос: какова основная задача нашего мозга? И она не в рациональном мышлении, формировании эмоций и не в том, чтобы человек мог пользоваться воображением, быть креативным или эмпатичным. Главная функция мозга – управлять организмом, осуществляя аллостаз и своевременно прогнозируя, в каких ситуациях и сколько придется израсходовать энергии, чтобы совершить действительно необходимые действия и, таким образом, выжить. Когда мозг расходует биологические ресурсы, он делает это, «ожидая», что получит взамен что-то ценное, например еду, укрытие, приятные эмоции от общения с другими людьми, ощущение безопасности. Все то, что важно, чтобы мы могли продолжить свой род.
В общем, основная обязанность мозга – не умственная деятельность, а контроль над крупным, сложным организмом, который когда-то давным-давно был всего лишь маленьким червячком.
Безусловно, мозг умеет и думать, и чувствовать, и воображать, и выполнять еще множество других задач, например помогать вам читать и понимать этот текст. Но все это лишь филиалы основной деятельности – контроля за накоплением и расходованием биологических ресурсов, необходимых, чтобы выжить. Именно с этой «миссией» неразрывно связано абсолютно все, что создает наш мозг, от воспоминаний до галлюцинаций, от ощущения экстаза до чувства стыда. Иногда энергия расходуется с расчетом на скорое пополнение, например когда вы пьете кофе и сохраняете бодрость в течение всей ночи, чтобы закончить работу над проектом, зная, что завтрашний день посвятите восстановлению сил. А иногда мозг выдает энергию понемногу, но на протяжении длительного срока, когда вы, допустим, годами оттачиваете сложные навыки, чтобы в долгосрочной перспективе добиваться значительных успехов и зарабатывать на жизнь.
Мы думаем, чувствуем радость, гнев, восторг, обнимаемся, проявляем дружелюбие, противостоим агрессии, но не можем сказать, что при этом отчетливо ощущаем, как уменьшается или увеличивается объем наших метаболических ресурсов. Тем не менее именно это и происходит у нас внутри. И именно здесь лежит ключ к пониманию того, как работает мозг и, следовательно, как оставаться здоровым, жить долго и чувствовать, что жизнь наполнена смыслом.
Краткий экскурс в эволюцию завершен. А теперь позвольте начать более долгий и подробный рассказ о том, как устроен наш мозг и мозг окружающих. В следующих семи главах мы поговорим о крайне интересных выводах, к которым пришли нейробиологи, психологи и антропологи. Речь пойдет о фактах, послуживших импульсом для кардинальных перемен в восприятии процессов внутри нашей черепной коробки. Вы узнаете, чем мозг животных, с которыми мы соседствуем на нашей планете, отличается от нашего мозга. Поймете, как мозг младенца постепенно преобразуется в мозг взрослого человека. А еще разберетесь, почему одна-единственная область внутри черепа может стать основой для развития разных типов человеческого мозга.
Кроме того, мы рассмотрим вопрос, непосредственно касающийся реальности, в которой мы живем: откуда человек черпает силы для того, чтобы придумывать традиции, правила и создавать цивилизации? Подробнее разберем «бюджет» организма и выясним, как наш мозг взаимосвязан не только с нашим телом, но и с другими людьми. Надеюсь, когда вы дочитаете эту книгу до конца, то почувствуете нечто вроде озарения, какое однажды ощутила я, поняв, что наш котелок, предназначенный вроде бы в основном для умственной деятельности, на самом деле выполняет гораздо больше очень важных функций.
Урок 1. У вас только один мозг (а не три)
Две тысячи лет назад древнегреческий философ Платон рассуждал о войне – о войне не между городами или странами, а той, что идет внутри каждого человека. Наш разум, говорил Платон[10], – это непрерывная битва трех глубинных сил, контролирующих наше поведение. Первая сила – это базовые инстинкты, такие как тяга к пище и половое влечение, необходимые для выживания. Вторая – чувства и эмоции, такие как радость, гнев, страх и т. п. Взаимодействуя, первые две силы похожи на животных, и они, как утверждал Платон, способны направить наше поведение в противоречивое, иногда даже опасное русло. Справиться с этим хаосом, взять «зверей» под свой контроль помогает третья сила – рациональное мышление, именно благодаря ему наша жизнь становится более правильной и осмысленной.
Внутренний конфликт, о котором говорил Платон, и сегодня остается одной из самых обсуждаемых тем в западной цивилизации. Вряд ли найдется тот, кто никогда не испытывал борьбу между сферой чувств и рассудком.
Наверное, именно поэтому ученые решили спроецировать рассуждения Платона на устройство нашего мозга[11] и попытаться таким образом объяснить, как он эволюционировал. Когда-то давно, 300 миллионов лет назад, говорит нам наука, мы были ящерицами и наш рептильный мозг функционировал лишь для того, чтобы удовлетворять базовые потребности – находить пищу, бороться друг с другом и продолжать свой род. Спустя примерно сто миллионов лет в нашей голове сформировалась новая область, наделившая нас способностью испытывать эмоции; так мы стали млекопитающими. Ну а позже в мозгу появилась еще одна область, отвечающая за рациональное поведение и регулирующая тот самый внутренний конфликт между «зверями». Так человек приобрел способность мыслить логически.
Эволюционный путь сделал наш мозг тройственным, то есть состоящим из трех слоев: один предназначался для выживания, другой – для чувств и эмоций, а третий регулировал работу ума. Инстинкты, необходимые исключительно для поддержания жизни и, по неподтвержденным данным, унаследованные нами от древних ящериц, находятся на самом нижнем «этаже» – в рептильном мозге. Далее располагается лимбическая система, которая, предположительно, включает области, сформировавшиеся еще у доисторических млекопитающих и отвечающие за возникновение эмоций. И последний, третий слой, неокортекс («новая кора»)[12], [13] – это, как принято считать, уникальная отличительная черта рода человеческого, позволяющая его представителям мыслить рационально. Одна из областей неокортекса, префронтальная кора, якобы управляет эмоциональным и рептильным уровнями мозга, чтобы держать в узде иррациональную, «звериную» часть нашего «я».
Концепция триединого мозга
Вы, думаю, заметили, что я рассказала уже о двух разных версиях эволюции человеческого мозга. В первом мини-уроке речь шла о том, что когда-то давно у живых существ начала развиваться способность воспринимать подробную информацию об окружающем мире, помогать организму в выполнении целого ряда сложных движений и, поскольку строение тела тоже становилось все более сложным, следить за расходованием и накоплением биологических ресурсов. Согласно же второй концепции, наш мозг является триединым, то есть за многие миллионы лет в мозгу постепенно сформировались три слоя, чтобы над животными порывами и эмоциями начал доминировать ум. Можно ли как-то совместить первую теорию со второй?
К счастью, в этом нет необходимости, потому что версия о триедином мозге ошибочна. Это одно из самых распространенных и долго господствовавших заблуждений, которые когда-либо появлялись в научной среде[14]. Хотя, стоит отметить, она довольно интересна и подчас кажется наиболее подходящим объяснением того, как мы чувствуем себя на протяжении дня. Например, когда ваши вкусовые рецепторы «просят» кусочек аппетитного шоколадного торта, но вы им отказываете, так как уже позавтракали, можно предположить, что к поеданию лакомства вас подталкивали импульсивная «внутренняя ящерица» и эмоциональная лимбическая система, а рациональный неокортекс поборол их и взял бразды правления в свои руки.
На самом деле мозг функционирует не так. Неправильное поведение не зарождается из импульсов нашего первобытного «внутреннего зверя». А разумные действия не результат деятельности «рациональных» областей нашего мозга. Более того, рассудок никогда не воюет со сферой эмоций.
На протяжении многих лет концепцию триединого мозга продвигали несколько ученых, а придать ей окончательно сформулированный вид удалось врачу Полу Маклину в середине двадцатого столетия. Маклин считал, что в мозгу, как когда-то рассуждал и Платон, происходит непрерывное противостояние разных импульсов. Свое предположение он пробовал обосновать, используя лучший из доступных на тот момент методов – визуальное исследование. Иными словами, он рассматривал под микроскопом ткани мозга мертвых ящериц и млекопитающих, в том числе человека, и искал между ними сходства и различия. Маклин утверждал, что в человеческом мозге есть части, которых нет у других млекопитающих. Ученый назвал их неокортексом. Кроме того, Маклин обнаружил, что в мозгу млекопитающих есть функциональные блоки, которые отсутствуют у рептилий, – он назвал их лимбической системой. Именно так родилось описание происхождения всего нашего человеческого рода.
Предположение Маклина о трехслойном мозге не осталось незамеченным и приобрело сторонников в определенных кругах научного сообщества. Его наблюдения и выводы показались специалистам простыми, элегантными и как будто не идущими вразрез с идеями Чарльза Дарвина о развитии у человека когнитивных способностей. В своей книге «Происхождение человека и половой отбор»[15] Дарвин утверждал, что наш разум эволюционировал вместе с телом и, следовательно, внутри каждого из нас есть как бы первобытный зверь, которого мы вынуждены укрощать при помощи рационального мышления.
В 1977 году теория о триедином мозге была представлена широкой публике в книге Карла Сагана «Драконы Эдема»[16], за которую он получил Пулитцеровскую премию. В наши дни понятия «рептильный мозг» и «лимбическая система» можно встретить во многих научно-популярных книгах, газетах и журналах. Например, когда я работала над текстом этого урока, то в нашем местном супермаркете видела в продаже специальный выпуск Harvard Business Review, посвященный тому, «как стимулировать рептильный мозг клиентов, чтобы побудить их совершить покупку». А рядом лежал специальный номер National Geographic, рассказывавший об областях внутри нашей черепной коробки, составляющих «эмоциональный мозг».
Не все, правда, знают, что книга «Драконы Эдема» вышла в ту пору, когда ученым, изучающим эволюцию мозга, уже было доподлинно известно, что гипотеза о трехслойном мозге – выдумка. Неопровержимые доказательства появились тогда, когда ученые углубились в изучение клеток мозга – нейронов – и увидели то, что раньше было скрыто от невооруженного глаза. В результате к началу 1990-х годов гипотезу о трехслойном мозге отвергли окончательно, так как она попросту не соответствовала установленным фактам.
Во времена Маклина мозг одних животных сравнивали с мозгом других, делая в него инъекции красящих веществ, затем нарезая, словно мясной деликатес, тончайшими ломтями и рассматривая каждый окрашенный кусочек под микроскопом. Подобный способ применяется и сейчас, но теперь в арсенале ученых есть новые методы, позволяющие досконально изучить нейроны и расположенные в них гены[17]
