Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке бесплатное чтение
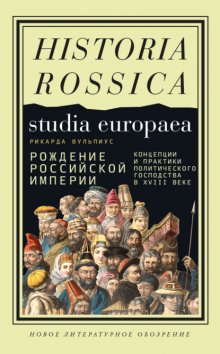
УДК 321(47+57)«17»
ББК 63.3(2)511-3
В88
Редактор проекта Studia Europaea
Д. А. Сдвижков (Германский исторический институт в Москве)
Совместный проект Германского исторического института в Москве и издательства «Новое литературное обозрение»
Перевод с немецкого М. Богданович
Рикарда Вульпиус
Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке / Рикарда Вульпиус. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – (Серия «Studia Europaea»).
После крупной победы над Швецией в Северной войне царь Петр I принял титул «императора». Если до этого страна именовалась Московской Русью, Московским царством, Русской землей или Россией, то отныне она была символически преобразована в «империю». Означало ли это, что произошло некое коренное изменение в развитии страны? И если да, то что именно изменилось? Разве прежде в восприятии государственной элиты еще не существовало империи? И что понимали современники Петра I и его преемниц под «империей»? Заложило ли это понимание основы имперского сознания, которое существует и в наши дни? Книга Рикарды Вульпиус исследует XVIII век как поворотный момент в истории страны и показывает, что процесс формирования империи в царской России вовсе не шел по какому-то исключительному «особому» пути. Дискурсы и практики цивилизаторства, аккультурации и ассимиляции, которыми оперировало российское государство, обнаруживают многочисленные параллели с образом мысли и действиями других колониальных империй. Анализируя институт подданства и практику взятия в заложники нехристианских народов Востока и Юга, исследовательница показывает, как существовавшая в России до XVIII века идея ассимиляции соединяется с европейским цивилизаторским дискурсом и приводит к формированию всеобъемлющего имперского самосознания российской элиты. Рикарда Вульпиус – профессор Мюнстерского университета, специалист по истории Восточной Европы.
На обложке: рис. Е. Корнеев, грав. И. Ланитин из кн.: Rechberg, Charles de: Les peuples de la Russie ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l’Empire de Russie: Accompagnée de fig. coloriées, Tome premier, Paris, 1812, S. 7.
ISBN 978-5-4448-2197-6
© Böhlau, ein Imprint der Brill-Gruppe, 2020
© Р. Вульпиус, 2023
© М. М. Богданович, перевод с немецкого, 2023
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа является переработанной версией докторской диссертации, которая была представлена в 2018 году на факультет истории и искусствоведения мюнхенского Университета Людвига-Максимилиана. Многие люди и организации помогли мне на этом пути. Я хотела бы от всего сердца поблагодарить их за руководство, поддержку, советы и подсказки.
Прежде всего я хотела бы поблагодарить профессора доктора Мартина Шульце Весселя, который как научный руководитель моего диссертационного проекта не только предоставил мне необходимую свободу и активно поддерживал меня в реализации проекта, но и всегда внушал мне уверенность в том, что мои многолетние исследования приведут к достойному результату. Моим менторам – профессору д-ру Кристофу Нойману и профессору д-ру Мартину Аусту я обязана ценными указаниями и советами, а также критическими отзывами на окончательный вариант рукописи. Мартин Ауст, многолетний друг и компаньон по научной деятельности, всегда находил время для дискуссии, вдохновляющей меня на новые идеи.
Немецкое научно-исследовательское общество предоставило мне как матери троих детей «персональную ставку с частичной занятостью», создав тем самым роскошные условия для научной работы. Щедрые исследовательские гранты Баварского фонда поддержки равных возможностей и Фонда Герды Хенкель помогли довести обширный проект до конца. Я выражаю мою искреннюю благодарность всем трем учреждениям.
Более десяти лет я могла рассчитывать на помощь сотрудников университетской библиотеки Свободного университета в Берлине, особенно службы межбиблиотечного абонемента, которая снабжала меня материалами из самых отдаленных регионов мира. Я хотела бы поблагодарить Маркуса Бресгота из отдела оцифровки за его умение преодолевать любые проблемы при оцифровке старых иллюстраций.
Незаменимым для проекта был обмен идеями с коллегами. Прежде всего я хотела бы поблагодарить Джона Ледонна и, к сожалению, слишком рано ушедшего Марка Раева, которые не только вдохновили меня на написание данной работы, но чей живой интерес к проекту и критические замечания (изложенные в длинных письмах) задавали на ранних этапах важные векторы работы. Я благодарна Майклу Ходарковскому за плодотворный обмен мнениями, происходивший от Саппоро до Филадельфии; Уилларда Сандерленда я благодарю за чрезвычайно важную беседу в Вашингтоне, а более всех остальных я хотела бы выразить признательность Андреасу Каппелеру, который не только поддерживал меня советами на протяжении десяти лет, но и вычитывал и критически комментировал отдельные главы.
Кроме того, немало важных импульсов придали работе конференции по истории империй, особенно конференция «Азиатская Россия», организованная в Японии Томохико Уямой; конференция по глобализации в XVIII веке на озере Комо под руководством Маттиаса Мидделла; конференция по сравнительной и реляционной истории империи, которую мы организовали в Москве с Мартином Аустом и Алексеем Миллером; посвященная истории понятий конференция Ингрид Ширле, Дениса Сдвижкова и Алексея Миллера в Москве; конференция о пространственных образах, воле к порядку и мобилизации насилия, организованная в Гамбурге Ульрикой Юрайт, и семинар о связи между Просвещением и колониализмом, проведенный Дамьеном Трикуаром в Галле.
Концепция и фрагменты исследования были представлены и стали предметом дискуссии на многочисленных исследовательских коллоквиумах, где высказывались ценные критические замечания, предложения и советы. Я хотела бы поблагодарить руководителей и участников исследовательских коллоквиумов в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете, в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене, в Берлинском университете имени Гумбольдтов, на кафедрах в университетах Билефельда, Констанца, Тюбингена, Бонна, Фрайбурга, Базеля и Эрлангена, в Гамбургском институте социальных исследований и особенно небольшую, но очень чуткую аудиторию в Ходдздоне – ежегодном месте встреч британской Исследовательской группы XVIII века.
Помимо уже названных лиц, я хотела бы поблагодарить многочисленных коллег и друзей, которые обогатили мой исследовательский проект указаниями на литературу, на определенные источники, в том числе в процессе насыщенных бесед. Вот лишь некоторые из них: Ульрике Вельс, Мартина Винклер, Доминик Гепперт, Керстин С. Йобст, Глеб Казаков, Колум Лекки, Максимилиан Мюллер-Херлин, Денис Сдвижков, Ванесса де Сенаркленс, Райнхард Фрётшнер, Каролина Хассельман, Шарлотта Хенце, Ульрих Хофмайстер, Фритьоф Беньямин Шенк и Зильке Штрикродт. Моим «звездным часом», состоявшимся благодаря Ульрике фон Арним, Анне Дитрих и М. Мюллер-Херлину, стал «Симпозиум друзей» по случаю представления моей докторской диссертации, на котором я имела возможность продемонстрировать результаты исследования юристам, литературоведам, врачам, экономистам и инженерам.
Рукопись диссертации или ее отдельные главы прочли и сделали ценные критические замечания Аксель Вульпиус, Франциска Дэвис, Штефан Иро, Матиас Граф фон Кильмансегг, Екатерина Махотина, М. Мюллер-Херлин, Ш. Хенце, У. Хофмайстер, Ф.Б. Шенк и Дитмар Шорковиц. Моя сестра Карола Вульпиус вычитала диссертацию как корректор. Всем им, кто нашел моей работе место в своей насыщенной профессиональной жизни, я выражаю огромную благодарность.
Я хотела бы поблагодарить редакторов серии Beiträge zur Geschichte Osteuropas («Материалы к истории Восточной Европы») за включение моей монографии в издательский план и за ценную критику и выразить особую признательность Ф. Б. Шенку, который не только помог мне найти лаконичное название для работы, но и поддерживал меня по мере своих возможностей последние десять лет на этом нелегком пути. Я благодарна издательству Böhlau Verlag за профессиональную поддержку на завершающих этапах подготовки рукописи, отделу корректуры – за заботу и настойчивость и особенно Фонду Герды Хенкель – за щедрую финансовую поддержку, позволившую напечатать книгу.
Наряду с моими родителями, которые всегда были рядом, и моими тремя детьми, делающими мою жизнь бесконечно счастливой, самую большую благодарность – последнему в списке, но далеко не последнему по значимости – я высказываю моему мужу Матиасу. Без его поддержки, ободрения и любви я, конечно, никогда не смогла бы закончить эту книгу; она посвящена ему.
УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ
ААЕ – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук
АИ – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией
ДАИ – Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею
КабРО – Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII веках
КРО – Казахско-русские отношения
МипсК – Материалы по истории политического строя Казахстана
МпиБ – Материалы по истории Башкортостана
МпиБ АССР – Материалы по истории Башкирской АССР
МпиК – Материалы по истории Казахской ССР
ПиБ – Письма и бумаги Петра Великого
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи, серия 1
ПСПР – Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РДагО – Русско-дагестанские отношения
РМонгО – Русско-монгольские отношения
РТуркО – Русско-туркменские отношения
СГГД – Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел
СИРИО – Сборник императорского Русского исторического общества
FOG – Forschungen zur osteuropäischen Geschichte
JbfGO – Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas
MERSH – Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History
УКАЗАТЕЛЬ КАРТ
Рис. 2. Терская крепость на реке Терек между Черным и Каспийским морями, расположенная между территориями кумыков и кабардинцев на Северном Кавказе, XVIII век
Рис. 7. Северная часть Тихого океана с Камчаткой и Русской Америкой, включая прибрежные острова Аляски – Алеутские острова и остров Кадьяк, главную базу Григория Ивановича Шелихова. Карта Билла Нельсона
Рис. 13. Окружение Транскамской и Оренбургской укрепленными линиями башкирских поселений. 1736–1743
Рис. 14. Оренбургская укрепленная линия (от Каспийского моря до Алтайских гор) отделяет калмыков и башкир от территорий летнего расселения казахских Младшего, Среднего и Старшего жузов. Вторая половина XVIII века
Рис. 18. Букеевская Орда на «внутренней стороне», Младший, Средний и Старший казахские жузы на «внешней стороне». Центральная Азия в XIX веке
Рис. 19. Кавказские линии XVIII века и российская южная граница 1829 года
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. ТЕМА
После крупной победы над Швецией в Северной войне царю Петру I был присвоен титул «императора». Если до этого страна именовалась Московской Русью, царством или государством, Русской землей или Россией, то отныне она была на уровне понятия преобразована современниками событий в «империю». Означало ли это, что произошло некое коренное изменение? И если да, то что именно изменилось? Разве прежде в восприятии государственной элиты еще не существовало империи? И что понимали современники Петра I и его преемниц под империей? Заложило ли это понимание основы имперского сознания, которое продолжает оказывать влияние в России и в наши дни?
Историк Райнхарт Козеллек предложил различать понятия, происходящие из источников, и понятия, применяемые в историческом анализе. Если взглянуть с данной точки зрения на термин «империя» как на категорию аналитического познания и задаться вопросом – с точки зрения современного понимания империи – о возникновении Российской империи как многонациональной державы, то точкой отсчета считается завоевание Великим княжеством Московским обоих крайних западных оплотов Золотой Орды, а именно Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств1. В действительности на севере страны в состав княжества уже раньше были включены нерусскоговорящие и неправославные этнические группы. Но в случае с ордынскими ханствами речь впервые шла о включении суверенных государств с династической легитимностью власти и чужеродной высокоразвитой культурой, жители которых придерживались нехристианской религии, а именно ислама, и имели сравнимую с русскими дифференцированную социальную структуру2.
Уважение, с которым русская сторона относилась ко всем трем ханствам Золотой Орды – Казанскому, Астраханскому и завоеванному в XVII веке Сибирскому, – выражалось в том числе в том, что в русских источниках они всегда именовались царствами. Когда Великое княжество Московское выиграло битву за господство над ханствами, московские государи стали претендовать на то, чтобы прибавить к своей титулатуре соответственно титул «Царь Казанский, Астраханский и Сибирский». В то время как титул «Царь и Великий Князь всея Руси» с 1721 года был официально изменен на «Император Всероссийский», три татарских царских титула сохранялись до конца существования империи, то есть до февраля 1917 года (все дореволюционные даты, касающиеся российского государства, в книге приводятся по юлианскому календарю). Они недвусмысленно выражали притязание на то, что Московское государство унаследовало власть над этими государствами от Орды – державы, под властью которой русские сами находились на протяжении более двухсот лет3.
Однако несмотря на очевидные признаки того, что падением старой империи воспользались для создания новой, в источниках конца XVI и XVII веков все еще обнаруживается недостаточно свидетельств того, что цари и их правящая элита осознавали себя правителями империи – империи, которую можно разделить на различные периферии, каждая из которых включала свои этнические группы4. Новое царство не могло или не стремилось говорить на имперском языке. Скорее политика базировалась (с незначительными, но немаловажными исключениями, которые еще будут рассмотрены в данной работе), как и прежде, на принципах патримониального государства, на принципе вотчины, которые определяли политические отношения между государем и его подданными в период раздробленности русских княжеств5. Согласно этим принципам, все подданные были в целом равны между собой по отношению к государю: не существовало принципиальной разницы между русскими и нерусскими, православными и неправославными землями6.
С завоеванием Сибири до границы с Китаем и с поглощением, помимо Казанского и Астраханского ханств, левобережной Украины, возникло обширное властное образование в виде многочисленных разнообразных этнических групп, конфессий и полунезависимых политических субъектов – де-факто империя7. Однако поскольку Московское государство продолжало в основном придерживаться патримониального дискурса, Александр Филюшкин предложил ввести для обозначения этой фазы понятие неонатальная империя, «империя-младенец»8.
Только в этом контексте становится понятно то значение, которое, как я намереваюсь показать в своем исследовании, имел XVIII век в развитии российского царства: это столетие, в котором разрыв между империей как категорией аналитического познания и категорией, происходящей из источников, исчезает. В этот период, обрамленный царствованиями Петра I и Екатерины II, произошли глубокие изменения в традиционном мышлении и практике российской элиты благодаря принятию изначально дихотомической концепции цивилизации и варварства из «Западной Европы»9. Эти перемены привели к формированию всеобъемлющего имперского самосознания, что, соответственно, позволяет говорить о рождении Российской империи в применении именно к XVIII веку10.
Эти изменения выразились – согласно центральным тезисам данной работы – во-первых, в том, что Петр I и его окружение, приняв парадигму цивилизованности, инициировали дискурс цивилизаторской миссии в отношении нехристианских этнических групп на юге и востоке, в котором роль образца играло собственное русское и аккультурированное российское население, включая крестьян, а также в том, что, независимо от этого процесса, Петр I начал дискурс самоцивилизирования11. Во-вторых, речь шла не просто о дискурсе: эти изменения, начатые Петром I, ставшие более интенсивными при императрицах Анне Иоанновне и Елизавете Петровне и лишь постепенно усиливавшиеся при Екатерине II, отразились и в политике «цивилизирования». В-третьих, в контексте русской традиции государственного строительства эта «политика цивилизирования» означала начало реализации многообразных стратегий по изменению нехристианских этнических групп с целью их «слияния» с титульным народом или, по крайней мере, максимально возможного сближения с ним. В процессе реализации намерений аккультурации и частичной ассимиляции произошла до некоторой степени трансформация имперского мышления и имперских практик в сторону господства колониального характера. В свете всего вышесказанного в работе выдвигается аргумент в пользу того – и это в-четвертых, – что российское владычество уже в XVIII веке, пусть и с временными и географическими ограничениями, может стать предметом компаративистских исследований колониализма12. И в-пятых, работа определяет российскую рецепцию отдельных нарративов Просвещения как движущую силу перехода к колониальной политике. Таким образом, данный анализ призван способствовать включению Российской империи, с точки зрения историков, в глобальное исследование такой спорной темы, как взаимосвязь между колониализмом и Просвещением13.
Высказывая вышеназванные тезисы, я по нескольким аспектам занимаю позиции, противоречащие тем, которые встречаются в работах других авторов, или призываю к модификации представляемых ими точек зрения.
Во-первых, цель состоит в том, чтобы внести вклад в дискуссию о периодизации и опровергнуть сложившиеся в последнее время представления, согласно которым петровский период не рассматривается как значимый поворотный пункт в истории Российской империи. В два последних десятилетия рядом историков были приведены веские аргументы в пользу отказа от прежней классификации, согласно которой раннее Новое время завершилось с Петровской эпохой и с провозглашением Петра «императором» российского государства, и замены ее описанием периода относительной преемственности приблизительно от 1500 до 1800 года14. Традиционная периодизация, в центре которой находился Петр I, была ориентирована исключительно на центр, не уделяя равного внимания провинции; учитывала только элиту, игнорируя широкие массы населения; и отражала влияние тезиса о масштабной секуляризации, хотя де-факто религиозные верования и практики по-прежнему сохраняли большое значение. Брачная политика правящих династий Рюриковичей и Романовых также обнаруживает единую линию развития с 1495 по 1797 год, поскольку только в этот период, за редким исключением, невесты для царей выбирались не за границей, а из собственных служилых людей. Следовательно, только с изменением процедуры царем Павлом I удалось, по мнению этих историков, существенно ограничить борьбу за власть и влияние между высокопоставленными семействами15.
Однако главный аргумент, выдвигаемый в поддержку тезиса о преемственности, заключается в том, что при ближайшем рассмотрении все до настоящего времени приписываемые Петру I нововведения были осуществлены уже в XVII веке, а значит, до него16. К числу таких нововведений относится и отделение государства от личности царя, и появление представления о «Западе» как о «Другом», которое в будущем сформирует русскую национальную идентичность17. Масштабы петровской экспансии, по мнению сторонников этой точки зрения, тоже не выдерживают сравнения с размахом более ранних экспансий18. Однако, для данного исследования самым существенным является утверждение, что в отношении категории «империя» в XVIII веке не происходило никаких значительных коренных изменений по сравнению с развитием предыдущих столетий19: лишь самое раннее в конце XVIII века, если вообще не в конце XIX, российская элита стала воспринимать свое государство как империю. Взгляд, согласно которому лишь в XIX веке сформировалась имперская политика, направленная на изменение образа жизни и стиля правления инкорпорированных нехристианских этнических групп, нашел приверженцев как среди историков раннего Нового времени, так и среди историков Нового времени20.
В свете этой дискуссии особенно важной представляется задача: выявить характер изменений имперской политики в XVIII веке и, в частности, в эпоху Петра I как поворотного момента истории империи21. На примере истории империи должно быть в то же время показано, что при создании периодизации более продуктивно основываться на отдельных областях политики, чем отрицать с помощью обобщающих утверждений возможность одновременности неодновременного. Эта дискуссия заставляет и в предлагаемой вниманию читателя работе постоянно уделять значительное внимание вопросу о том, в какой степени конкретные имперские концепции и практики правления российской элиты XVIII века продолжали следовать давно известному или внедряли новое.
Во-вторых, работа оспаривает точку зрения, согласно которой дискурс цивилизаторской миссии Петра I, шедший рука об руку с европеизацией и «вестернизацией», а также усилия первого российского императора по разработке и проведению «политики цивилизирования» одинаково охватывали все его государство. Согласно этому мнению, в XVIII веке не существовало разницы между самоцивилизированием и цивилизированием других; скорее и то и другое основывалось на одном и том же дискурсе22. Эта точка зрения скрывает, однако, от наших глаз тот факт, что принятие парадигмы цивилизованности сподвигло российскую имперскую элиту не только присвоить чужие территории господства и культурные области, но прежде всего попытаться изменить их в соответствии со стандартами образа жизни русского или российского аккультурированного населения «метрополии». Наблюдатель, не делающий различий между самоцивилизированием и цивилизированием других, рискует впасть в апологию унитарного государства, восходящую к традиции национальной историографии русских историков XIX века. Кроме того, русская/российская цивилизаторская миссия XIX века (по поводу которой царит всеобщий консенсус) лишается своего периода становления и важной предыстории23.
В-третьих, ставятся под сомнение представления об отношениях между империей и воображаемой «нацией» в Российской империи XVIII века. Оспаривается также точка зрения, согласно которой внутри российского государства тогда еще не проводилось концептуального различия между группами, воспринимаемыми как этнически однородные (нация), и нацией как населением империи в целом, охватывающим всех жителей государства, и они еще рассматривались как синонимы24. Отвергается мнение, будто в течение XVIII века в сознании российской элиты утвердилось нагруженное оценочными суждениями представление о географическом разделении страны на европейскую и азиатскую части, где последняя приняла образ колониального «Другого»25. Напротив, как показывает настоящая работа, российская элита XVIII века была очень хорошо осведомлена о различиях между нацией как государствообразующим народом, в котором преобладали русские, и жителями нерусских окраин, между российским подданством (принадлежностью к империи) и нерусской «национальной принадлежностью» в смысле принадлежности к одной из этнических групп (наций), живущих внутри империи26. В то же время разработанные ею (элитой) концепции и практики господства в отношении нерусских этнических групп на юге и востоке были направлены не на создание географически зафиксированного колониального оппонента. Колониальный подход ее политики был обусловлен не географической локализацией колонии, а предположением о собственном цивилизационном превосходстве над нехристианскими этническими группами, чей образ жизни должен был трансформироваться в соответствии с интересами метрополии.
Долгосрочной целью данной трансформации, как показано в работе, было, с одной стороны, преодоление ощущаемого дефицита цивилизованности, а с другой стороны, слияние различных этнических групп с русским или российским аккультурированным населением, составляющим большинство, и в результате объединение пространства империи с пространством находящегося под русским влиянием унитарного государства27. Анализируя активную российскую политику аккультурирования и отчасти даже ассимиляции, автор, таким образом, приводит доводы в пользу модификации существовавшего до сих пор предположения об истоках первых стратегий и практик русификации по отношению к нерусскому населению на юге и востоке страны28.
В-четвертых, положение данной работы, согласно которому определенные фазы российского господства в плане его политики по отношению к некоторым периферийным территориям в XVIII веке следует характеризовать как колониальные, ставит под сомнение одновременно три противоречащие друг другу точки зрения, высказанные в научной литературе. Согласно одной из них, уже Московское государство вело колониальную политику в широком смысле; в соответствии с другим мнением, о колониализме можно вести речь только по отношению к XIX веку; представители третьей точки зрения высказывают сомнение, проводила ли вообще Российская империя когда-либо колониальную политику, сравнимую с политикой западноевропейских держав, и если да, то в какой степени29. В противовес указанным мнениям данная работа поддерживает тезис о том, что русское царское правительство уже с XVIII века периодически осуществляло колониальное правление (определение данного термина раскрыто в следующем параграфе), тогда как в предшествующем столетии отсутствовали как сознание собственного цивилизационного превосходства (имеющее фундаментальное значение для дефиниции колониального господства), так и воля к настойчивому преобразованию образа жизни коренных народов30. Оба этих фактора имели решающее значение для формирования внешнего управления нерусскими этническими группами в XVIII веке.
Наконец, в-пятых, задача данной работы состоит в том, чтобы модифицировать существовавший до сих пор анализ того, как были адаптированы в Российской империи идеи Просвещения. То, что отныне отношения с Западной Европой стояли на повестке дня российской элиты, стало не единственным значимым результатом рецепции идей Просвещения31. Данная работа расширяет поле зрения и направляет взгляд на то, каким образом рецепция избранных идейных направлений Просвещения воздействовала на имперскую политику российского государства. При этом понятие Просвещения, несмотря на весьма позитивные коннотации его возникновения, не будет рассматриваться само по себе ни как позитивное, ни как негативное явление32. Кроме того, не входит в задачи данной работы выносить суждение о том, придерживаются ли отдельные представители Просвещения колониалистской или антиколониалистской точки зрения33. К тому же Просвещение понимается здесь не как некая монолитная концепция34. Скорее оно рассматривается как собрание нарративов, которые по сути объединены новым, саморефлексивным пониманием исторического значения и самобытности Европы, в основе которого лежит идея прогресса35.
Таким образом, не вдаваясь в философские и литературоведческие изыскания, посвященные авторам Просвещения, данное исследование сосредотачивается на вопросах о том, в какой степени акторы перенимали отдельные нарративы Просвещения и какую политику они проводили с их помощью. Тогда оказывается очевидным не только то, что такие концепты, как цивилизация и стадиальная теория развития, то есть позиционирование человечества на различных ступенях «цивилизационной лестницы», устойчиво формировали имперское правление в российской державе. Прежде всего становится ясно, как эти концепты, далекие от «башни из слоновой кости» философских дебатов, использовались российской элитой, чтобы легитимировать свою отчасти колониальную политику или же чтобы установить ее пределы. Именно этот аспект взаимосвязи философской мысли с политической историей является при прояснении отношений Просвещения и колониализма зоной, еще ждущей своего исследования. До настоящего времени в данной дискуссии принимали участие преимущественно литературоведы и философы и в наименьшей степени – историки колониализма36.
1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Основным для всех вышеназванных аспектов является вопрос, какие именно определения стоят за понятиями «империя», «колониализм» и «колонизация». Множество форм правления обозначались в прошлом и обозначаются сегодня термином «империя», и это осложняет выбор определения, которое бы соответствовало каждому отдельному случаю от «Древнего Рима до Соединенных Штатов»37. Несмотря на признание того, что «хотя общее и существует, но всегда лишь в образе частного»38, исследований империй и определений этого понятия уже давно великое множество39. В рамках предложенной работы под «империей» понимается сложносоставной союз господства, чья метрополия контролирует множество периферийных территорий и их культурно инородное население с помощью угрозы насилия, административного управления и местного коллаборационизма и высказывает претензии на универсализм40.
Одновременно с этим последние исследования отчетливо показали, что империи в столь же незначительной степени являются данностями и статичными образованиями, как и нации. Скорее переходные формы могут быть подвижными – от империи к унитарному или национальному государству и наоборот, – что позволяет рассматривать эти два феномена в большей степени как идеальные типы, между которыми существует множество вариантов империй с признаками национального государства, так же как и единых/национальных государств с имперскими признаками41. Чтобы отразить процессообразный, местами ситуативный характер этого явления, некоторые авторы даже отказываются от термина «империя» и охотнее выбирают выражения «имперская формация», «имперская ситуация» или «имперская модель»42.
Независимо от выбора терминологии, не существует разногласий в вопросе о том, что имперское мышление и действия предполагают в первую очередь различие: с одной стороны, разделение, усматриваемое внутри союза господства между «нами» – воображаемой, часто гомогенной с точки зрения языка и религии, связанной с метрополией господствующей элитой – и всеми теми «Другими», которые отличаются от этой центральной группы (опять же в основном по языковому и религиозному признакам) и относятся к перифериям43. С другой стороны, имперское господство также применяет политику различия в отношении многообразия народностей, не входящих в центральную группу, и правит различными этническими группами по-разному44.
Как такая основанная на различии политика соотносится с колониальным господством? В основе колониализма тоже лежит политика, построенная на различии. Имперская политика понимается здесь как «родовое понятие», под которое подпадает и колониальное господство. Другими словами: не каждое имперское господство одновременно является колониальным. Колониальное же господство, напротив, осуществляется, как правило, только империями. Определяющими критериями колониального господства и современного колониализма в данной работе считаются признаки, указанные в широко признанном специалистами определении, данном Ю. Остерхаммелем. Определение Остерхаммеля подходит к феномену колониализма всесторонне, ограничивая, однако, центральное содержание этого понятия тремя критериями: это, во-первых, попытка управлять извне целым обществом, лишить его собственного исторического развития и переориентировать его на потребности и интересы колонизаторов; во-вторых, характерная для колонизаторов убежденность в более высокой ценности собственной культуры, на основании чего они формулируют и обосновывают тезис о том, что их глобальная миссия – перестроить колонизируемые общества; и в-третьих, ожидание, что колонизируемые будут перенимать навязываемые колониальной властью ценности и обычаи45.
Эти три критерия (внешнее управление, осознание своего превосходства и ожидание аккультурации) образуют эталон, по отношению к которому ниже будут оцениваться различные концепции и практики властвования российской элиты в XVIII веке с целью определить, носили ли они только имперский или же более специфический колониальный характер. С помощью такой процедуры понятие «колониальный» применительно к Российской империи (как это оказалось необходимым и с тех пор было неоднократно осуществлено в отношении понятия «империя») будет освобождено от оценочных коннотаций, оно станет пригодно для чисто аналитического подхода, что облегчит изучение российской державы в рамках компаративных исследований империй и колониализма46. Прежде всего, использование понятия «колониальный» в приложении к Российской империи представляется эвристически полезным в тех случаях, когда можно различать политику, направленную на подчинение, повиновение, получение дани, и политику, выходящую за рамки этих целей. О колониальном господстве в том смысле, в котором это понятие применяется в данной работе, можно говорить только тогда, когда политический центр державы осуществляет попытки глубокого вмешательства во внутренние дела покоренного населения, обычно используя насилие или угрозу такового, руководствуясь ощущением собственного культурного превосходства и стремясь навсегда изменить прежний образ жизни покоренного населения в соответствии с предопределенными шаблонами и подчинить это изменение исключительно потребностям метрополии, минимально учитывая интересы местных жителей47.
Тем самым становится ясно, что колониализм рассматривается и анализируется в данной работе, как и в определении Остерхаммеля, прежде всего как отношение господства. А территориальному аспекту, то есть географической удаленности от метрополии, которую обычно связывают с заморским колониализмом и концепцией колонии, применительно к Российской империи отводится лишь незначительная роль как предпосылке установления колониального господства. Учитывая размытость границ между метрополией и периферийными областями, столь характерную для континентальных империй и препятствующую строгому географическому разделению, не представляется возможным (или можно лишь неудовлетворительно) однозначно отнести периферийные территории российского государства XVIII века к категориям колоний-владений, поселенческих колоний или колоний-баз в том смысле, как их понимал Остерхаммель48. В случае с южными и восточными окраинами речь шла скорее о территориях, на которые Российская империя заявляла претензии, в зависимости от обстоятельств, либо путем приграничной колонизации, либо в ходе захватнических войн, сформировавших ее как империю; в обоих случаях эти территории не были четко отграничены от метрополии49. Чтобы подчеркнуть эту особенность по сравнению с заморским колониализмом, можно, по аналогии с рассуждениями Клеменса Рутнера о Габсбургской империи, говорить о присущем Российской империи «внутриконтинентальном колониализме»: это понятие учитывает также и подвижные границы между центром и периферией50.
Для обозначения географического аспекта имперского и колониального господства в российском государстве представляется более удобным использовать термин «фронтир» (frontier) вместо термина «колония»51. Под фронтиром понимается, так же как и у Ю. Остерхаммеля, «подвижная граница освоения ресурсов», или, точнее, «проявляющийся на обширных территориях тип процессуальной ситуации контакта», при котором «на определенной территории вступают в контакт минимум два коллектива различного этнического происхождения и культурной ориентации, преимущественно применяя силу или угрожая друг другу ее применением. Отношения между этими коллективами не регулируются унитарными и четкими государственным порядком и правовыми нормами»52. Один из этих коллективов выступает при этом в роли захватчика, его представители заинтересованы в первую очередь в присвоении и эксплуатации земель и/или других природных ресурсов53.
Применительно к российскому государству такая «подвижная граница освоения ресурсов» может быть использована для описания как планировавшихся, так и реализованных случаев захвата многих территорий на юге и востоке, что одновременно также подпадает под определение «колонизации». В отличие от колониализма, который обозначает отношение господства, колонизация описывает процесс, при котором поселенцы захватывают земли, чтобы использовать их по своему усмотрению54.
1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Но как в случае континентального государства с размытыми границами между центром и периферией отличить колонизацию приграничных районов, равно как и сопутствующую ей колониальную политику, от строительства государства? Разве не должны были такие характерные для раннего Нового времени процессы, как усиление и расширение государственных институтов, рецепция централистских концепций правления – «абсолютизма», камерализма, меркантилизма – и политика унификации и рационализации неизбежно сопровождаться таким способом правления, который элементарно вмешивается в жизнь подданных в том числе и в приграничных районах?55 Действительно, данная работа исходит из того, что приграничная колонизация и строительство государства были тесно связаны между собой. Речь при этом идет об основном признаке построения империи (empire-building) континентальными государствами. В результате большое внимание будет уделено тесной взаимосвязи строительства государства и империи. Также вышеназванные формы господства и политико-экономические концепции играли значительную роль для российской политики правительства в XVIII веке56.
В то же время в работе отвергается идея описывать с помощью понятия «строительство государства» все процессы, во время которых нерусские этнические группы, часть из которых столетиями ранее, а часть – только в XVIII веке были включены в состав российской монархии, в течение нескольких десятилетий были лишены собственного исторического развития, управлялись извне с политико-социальной точки зрения и были (в реальности или по плану) переориентированы на политические, военные и экономические потребности и интересы центра. Ведь тем самым именно процессы, которые при изучении морских империй как бы само собой аналитически причисляются к колониализму, в случае Российской империи уже в силу одной только ее континентальной протяженности рассматриваются как составляющие «абсолютистского» или камералистского строительства государства57.
Однако не только императив сравнительной имперской и колониальной истории требует в данном случае другой перспективы. Не следует забывать и о сформулированной в рамках постколониальных исследований задаче историка – воздерживаться от взгляда на ситуацию с позиции лишь одной из действующих сторон58. Центральные понятия – и прежде всего они – должны быть такими, чтобы они не теряли своей валидности при взглядах с разных сторон. Так, например, понятие «строительство государства» при его использовании для обозначения российской политики фронтира XVIII века в значительной степени игнорировало бы точку зрения нерусского населения юга и востока страны.
Аналогичные критические замечания справедливы для использования такого понятия, как «внутренняя» колонизация59. Включение в это понятие также осуществляемого в интересах метрополии захвата ареала расселения инородных коллективов и культур несет в себе опасность игнорирования значимости исходящей от этой метрополии экспансивной колонизации. Подобная колонизация включает господство над чужими этическими группами и в этом смысле она скорее эквивалентна «внешней» колонизации и превращению страны в колониальную державу60. Использование же термина «внутренняя колонизация», с другой стороны, означало бы возвращение к вышеупомянутой традиции таких знаменитых русских историков XIX века, как Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и С. Ф. Платонов, согласно нарративу которых «русская» территориальная и имперская экспансия проходила не как силовой захват, а как мирное освоение земель. Кроме того, применение этих понятий способствовало бы представлению истории российского многонационального государства – в традиции вышеупомянутых историков – как исключительно русской истории61.
Господство в многонациональном государстве: этническое и географическое многообразие
Однако не только тесное переплетение процессов строительства государства и строительства империи представляет значительную трудность для исследователя российской имперской истории. Помимо этого, Российская империя присоединилась к ряду европейских империй – как морских держав, так и континентальных – еще и в том смысле, что на разных ее окраинах одновременно существовали различные формы правления. Эта столь типичная для империй особенность – наличие ступенчатых политических иерархий, гетерогенных правовых структур и регионально крайне отличных друг от друга подходов – в случае Российской империи выражалась в одновременном существовании типично имперских форм господства в отношении нерусских или не исконно русских подданных на севере и западе, то есть в Смоленске с 1654 года, в Эстляндии и Лифляндии с 1710-го, в Карелии, Старой Финляндии с 1721–1743 годов, на польских территориях, присоединенных в результате разделов, с 1772, 1775 и 1795 годов, и таких форм господства, которые сочетали имперские и колониальные фазы, как в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в регионе северной части Тихого океана, на Русской Аляске, в южных степях и на Северном Кавказе62.
В центре внимания данной работы находятся исключительно российские концепции и практики господства в отношении тех этнических групп населения империи, в отношении которых в XVIII веке производились попытки полностью подчинить и кардинально изменить их образ жизни в интересах российской метрополии, руководствуясь осознанием собственного цивилизационного превосходства, и которые, согласно выдвигаемому в этой работе положению, таким образом, в соответствии с приведенным выше определением, периодически находились под колониальным господством. Различные подходы царских правительств к различным этническим группам трактуются в данной работе как следствие субъективного восприятия российской элитой того, насколько соответствующая этническая группа была уже «цивилизована» или насколько она отчасти, как в случае остзейских губерний, даже могла служить образцом для желаемых изменений в коренных российских регионах63. В то же время, однако, необходимо не только различать, какие из российских концепций и практик особенно активно использовались в том или ином крупном регионе: прежде всего необходимо учитывать имевшие место внутри крупных регионов, таких как «восток» или «юг» страны, различия между определенными периодами и между формами политического правления, применявшимися в отношении различных этнических групп.
Нерусские этнические группы на Востоке
При рассмотрении политики в отношении нерусских этнических групп «Востока», а именно Восточной Сибири, Дальнего Востока и региона северной части Тихого океана, в данной работе проводится различие между правительственным курсом в отношении бурят и якутов, с одной стороны, и таких малых этнических групп Дальнего Востока, как чукчи, коряки, ительмены, алеуты, жители Курил и острова Кадьяка, с другой64. Первые после жестокого покорения в XVII веке смогли частично приспособиться в течение XVIII века к российским требованиям, сохранив при этом ряд определенных свобод и окрепнув экономически65. Поэтому в случаях бурят и якутов данная работа исходит из имперской политики конца XVIII века, а не из фаз колониального господства66.
Иначе сложилась ситуация в случае этнических групп, проживавших на Крайнем Севере и в бассейне Тихого океана, – чукчей, коряков, юкагиров, ительменов, алеутов, кадьякцев и частично коренного населения Аляски67.
Правда, проводимая в их отношении политика различалась в зависимости от географического положения, российских интересов и силы их сопротивления68. Однако царские правительства на протяжении всего XVIII века продолжали практиковать не только методы покорения, использованные ими в Западной и Восточной Сибири веком ранее, – боролись с «непокорным» (то есть не желающим платить дань) туземным населением с помощью пушек, брали силой в заложники их детей и привлекали мужчин к принудительным работам, так что численность коренного населения резко сократилась как вследствие этих мероприятий, так и в результате болезней69. Прежде всего, именно ительмены, алеуты и кадьякцы подвергались такой экономической эксплуатации и их экономика была так последовательно перенаправлена на российские интересы в области промысла моржей и каланов, что они больше не могли выживать в своих традиционных структурах и все больше оказывались в жизненной зависимости от экономической помощи российского государства70. В то время как эти аспекты колониальной политики господства подробно охарактеризованы в литературе, в данной работе рассматриваются мало освещенные надрегиональные практики, которые проявлялись, в частности, в форме захвата заложников с серьезными последствиями как для коренного населения, так и для российской стороны.
Нерусские этнические группы на юге и юго-востоке
Одна из основных тем данной работы – российские концепции и практики господства над этническими группами на юге и юго-востоке государства, большинство из которых по полгода или круглый год вели кочевой образ жизни. В XVIII веке в числе российских подданных, проживающих в южных степных районах, были башкиры, калмыки, Малая и Средняя казахские орды и ногайцы. Если башкиры формально уже с середины XVI века частично являлись подданными царя, то их покорение методами колониальной экспансии началось лишь в 1730‐х годах71. Политике в отношении башкир в данной работе уделяется особое внимание, прежде всего потому, что для их завоевания была использована уникальная в мировом сравнении российская колониальная практика – окружение линиями укреплений.
Калмыки, которые как западно-монгольские племена под давлением восточных монголов и казахов перекочевали на юго-запад и в начале XVII века заселили степи севернее Каспийского моря, с середины XVII века рассматривались российской стороной в качестве подданных72. Их покорение в XVIII веке с помощью чередующихся имперских и колониальных методов занимает в данном исследовании одно из центральных мест постольку, поскольку и попытка сделать их оседлыми, и успешные усилия выхолостить содержание их традиционных структур господства сформировали модель царской политики, к которой позднее прибегали и в отношении других этнических групп.
Столь же важную роль для данного исследования играет и российская колониальная политика в отношении Младшего и Среднего казахских жузов73. Вместе со Старшим жузом, чей центр жизненных интересов располагался в Семиречье на востоке, казахи населяли огромные степные районы, простиравшиеся между Южным Уралом и Каспием на западе, Алтайскими горами и Тянь-Шанем на востоке и оазисами Средней Азии. Расположение этих территорий, представлявших для российских властей большой геостратегический интерес с точки зрения торговли с Индией и Китаем, в значительной степени определяло российскую имперскую политику от Петра I до Екатерины II74. Это привело к тому, что русская имперская элита в XVIII веке занималась вопросами и проблемами покорения казахов и господства над ними больше и интенсивнее по сравнению со всеми остальными этническими группами юга и востока.
Особое внимание в работе уделяется российской политике в отношении Младшего казахского жуза. Он не только первым из трех жузов уже в 1730‐х годах вступил в подданство русского царя, но и благодаря своему ареалу расселения, располагавшемуся ближе всего к русским поселениям к востоку и югу от реки Урал, находился в особенно интенсивном контакте с русским населением, осуществлявшим колонизационное продвижение на юг75.
Из ногайцев, которые в результате московской экспансии XVI века разделились на три орды, только предводители Большой ногайской орды формально считались с 1557 года подданными русского царя76. В силу своей разобщенности (и частичного подчинения крымскому хану) они не представляли больших трудностей для российской имперской политики в XVIII веке. Тем не менее в данной работе они играют определенную роль как объект колониальной российской политики, поскольку впервые именно в их случае российская сторона объединила свою «политику цивилизирования» с правовой дискриминацией.
Нерусские этнические группы на Северном Кавказе
Третьим регионом, включенным в анализ концепций и практик господства как имперской, так и колониальной политики, является Северный Кавказ77. Среди более чем пятидесяти этнических групп северной части этого горного региона особое значение для российской политики XVIII века имели черкесские (адыгские) кабардинцы78. Обласканные вниманием османского султана, персидского шаха, кумыкского шамхала и крымско-татарского хана, кабардинцы, населявшие предгорья к западу от Терека, наряду с кумыками принадлежали, благодаря высокой степени социальной дифференциации и могущественному княжескому слою, к политическим «тяжеловесам» региона. С принятием кабардинских князей в российское подданство в 1588 году связано начало практики взятия заложников Московским государством79. Ее анализу, как и дальнейшему развитию этой практики, исходившей из Кабарды, в работе придается большое значение.
В XVIII веке кабардинцы оказались геополитическими пешками в борьбе между Османской и Российской империями за господство на Северном Кавказе80. Только после заключения Кючук-Кайнарджийского мира (1774), по которому Османская империя должна была отказаться от притязаний на Кабарду и признать российскую власть над ней, российская сторона смогла применить здесь имперские и колониальные концепции и практики, которые она уже опробовала на других периферийных территориях. К ним относится, например, практика, примененная в отношении башкир, – строительство укрепленных линий для колониального завоевания.
Участники событий и их названия
Контакты с вышеназванными этническими группами (в русском языке обозначаемыми словом народы) для российской элиты влекли за собой не только проблему, как именовать ту или иную группу, но прежде всего как интерпретировать характерный для нее уклад жизни. При присвоении названия следовали преимущественно самоназванию этнических групп, хотя это нередко и сопровождалось недоразумениями, неоправданными обобщениями и ошибочной идентификацией (поэтому историки призывают относиться к ним с осторожностью)81. Самая большая проблема для российской стороны состояла в том, что структуры власти преимущественно кочевых этнических групп существенно отличались от государственной структуры оседлого населения метрополии, занимавшегося земледелием и торговлей. Поэтому требуется особая осторожность, чтобы не попасть под влияние колониального образа мышления, который, согласно возникшему в XVIII веке представлению о возможности расположения всех «народов» на «цивилизационной лестнице», концептуально превратил негосударственные союзы в догосударственные коллективы.
По этой причине в данной работе крайне сдержанно применяется термин «племя» (Stamm). Это понятие как научная категория уже отвергается антропологией, так как во многих случаях европейского колониального управления XIX века оно ассоциировалось с отсталостью82. Кроме того, также по мере возможности не употребляется многозначное в немецком языке понятие «народ» (и соответствующее ему политически дискредитированное прилагательное «народный» (völkisch)), равно как и спорное понятие «этнос». Они заменяются понятием «этническая группа» (ethnische Gruppe) для обозначения таких групп, члены которых объединены общим прошлым, выражавшимся в исторических преданиях, обычаях, языке, религии и образе жизни. Чтобы четче дистанцироваться от понятия «этнос», необходимо указать на ситуативный характер этнической принадлежности, минимизировать опасность эссенциализации, которая часто подвергается критике в науке, и прежде всего избежать имплицитного понимания этносов как предшественников современных наций83.
То, что сказано выше о важнейших для данного исследования регионах и этнических группах, показывает, что центральная задача и специальный интерес данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать имперскую российскую политику в рамках трансрегионального подхода84. Вопрос состоит в том, существовали ли и в какой степени особые концепции и практики российской элиты, которые применялись одинаковым или сходным способом на разных периферийных территориях, и это несмотря на гетерогенность и фрагментарность Российской империи, подвижность и прагматичность российской элиты, а также особенности акторов из числа коренных жителей и обстоятельств на местах.
Широкий географический и этнический охват настоящего исследования вместе с тем не должен заслонять того факта, что взаимодействие нерусских этнических групп на юге и востоке с российской имперской элитой освещается в работе асимметрично. Центральным является вопрос, когда и как внутри российской элиты возникли имперское сознание и имперские и колониальные концепции и практики господства и как они изменялись. Такой взгляд, при котором внимание ограничивается акторами из среды российской элиты, вызван тем, что империи раннего Нового времени создавались в первую очередь элитами85. Отсюда следует, что в данной работе речь идет преимущественно об образе мышления и действиях очень узкого слоя политических, военных и административных государственных чиновников в правительственном центре и на периферийных территориях, различным действиям которых время от времени оказывали поддержку представители царского правительства, не имеющие статуса государственных чиновников86.
Под понятием имперской российской элиты, которая никоим образом не представляла собой монолитного блока и чьи порой противоречащие друг другу позиции и подходы рассматриваются в отдельных главах, следует понимать всех тех, кто стратегически и оперативно осуществлял построение империи и ее сохранение. Это понятие охватывает множество лиц – от сотрудников Коллегии иностранных дел в Санкт-Петербурге до командующих войсками вдоль Сибирской линии укреплений, от купцов и моряков, именем царя производивших захват островов в пользу империи и для этого бравших заложников из коренных жителей в северной части Тихого океана, до губернатора Астрахани и географа и хрониста Оренбургской экспедиции. Понятие имперской элиты, таким образом, в принципе включает в себя и тех ученых или исследователей, которые писали об империи как империи, идентифицировали себя с ней и своим трудом непосредственно обслуживали нужды тех, кто принимал политические решения.
Однако при этом многочисленные этнографы и народоведы, которые в течение XVIII века с исследовательским энтузиазмом принимали участие в бесчисленных экспедициях и ознакомительных поездках петербургской Академии наук прежде всего в Сибирь, на Дальний Восток и Северный Кавказ, играют в данном исследовании скорее вспомогательную роль. Хотя они и способствовали распространению в центре империи знаний об этнических группах периферийных территорий и в этом смысле укрепляли имперскую власть, все же их статистика, топография и отчеты о путешествиях носят совершенно иной характер по сравнению с письменными свидетельствами их современников из непосредственного окружения политических и военных руководителей державы. Сознание собственного цивилизационного превосходства не занимает центрального места в научных трудах этнографов и народоведов. Они характеризуются преимущественно рационализмом и непредвзятой научной этикой, выражающей глубокое уважение по отношению к Творению и к разнообразию человечества87.
Однако было бы неверным делать вывод на основе характера работы российских ученых, что в XVIII веке в российском государстве вообще не существовало сознания цивилизационного превосходства88. Скорее различия между разнообразными группами акторов ясно показывают, что представители разных профессиональных сообществ ощущали себя принадлежащими к разным мирам89. Только некоторые ученые видели себя на службе или орудием имперской политики. Напротив, представители имперской администрации не только анализировали свой опыт контактов с нехристианскими этническими группами на юге и востоке с начала XVIII века с учетом парадигмы цивилизованности, но и вырабатывали на основе этой парадигмы стратегии для изменения этих групп. Взаимодействие между научной средой, с одной стороны, и политико-административно-военными кругами, с другой, в XVIII веке происходило лишь в редких исключительных случаях. Поэтому в российском контексте не может идти речь о широком соучастии этнографов в колониальном господстве, как это происходило среди англичан и французов, о чем упоминает Эдвард Саид в характеристике введенного им термина «ориентализм»90.
Принципиальным для понимания «российской элиты» в данной работе является учет ее полиэтничного состава. Понятие российской элиты включает в себя и остзейских немцев-помещиков, и переводчиков тюркского происхождения, и служилых людей из русскоязычных семей91. По этой причине прилагательное русский используется в нашей работе только тогда, когда речь идет об обозначении русского языка, о коренном населении русско-православной веры, чьим родным языком являлся русский, или о становлении Великого княжества Московского в дополиэтничный период его существования. Во всех остальных случаях, особенно для обозначения государства и его политической, военной и культурной элиты, последовательно используется термин российский, а сама страна называется «державой», «царством» (Reich) или «империей» (Imperium), но не «Россией».
Такой выбор лексики представляется уместным не только потому, что он отражает языковую дифференциацию языка источников XVIII века. Именно в эту эпоху, с приданием законченной формы петровскому государству, прилагательное российский вошло в повседневный язык для обозначения полиэтничного государства, а сама держава отныне именовалась Российской империей92. Однако прежде всего данная система понятий отражает растущее осознание имперской элитой этнического многообразия империи и тем самым является предметом данной работы.
Анализ имперского господства и постколониальные исследования
Поскольку в настоящем исследовании взаимодействие российской элиты и представителей нерусских этнических групп на юге и востоке освещается асимметрично, а акцент делается не на коммуникациях, сотрудничестве и жителях приграничья, а «только лишь» на концепциях и практиках российской стороны, данную работу можно было бы упрекнуть в том, что она «в очередной раз» предлагает исследование из ряда трудов «старой» историографии «белой» политики в отношении коренных этнических групп, где в качестве действующих лиц выступают прежде всего колонизаторы или колониальные власти, в то время как коренным народам присваивается статус объекта93.
В действительности коренные этнические группы важны для настоящей работы настолько, насколько им удавалось влиять на концепции и стратегии имперской российской элиты, изменять их, препятствовать их реализации или вообще порождать их. Однако именно с учетом этих аспектов можно плодотворно использовать результаты постколониальных исследований в данной работе, в которой middle ground, поиск гибридных культур или идентичностей, не является основным предметом исследования94.
Так, например, постколониальные исследования справедливо указывают на то, что стратегии имперских элит не следует приравнивать к их успешной реализации и, соответственно, не следует низводить колонизируемых до пассивно реагирующих в том смысле, как это понимал Э. Саид95. Вместо этого следует учитывать расхождения между ожиданиями имперских акторов или колониальных властей, с одной стороны, и фактическим поведением коренных этнических групп, с другой, то есть необходимо различать притязания на власть и властные отношения96. При этом необходимо всегда иметь в виду и учитывать неопределенность населения фронтира, изменение участников местных и коренных миров, а также их взаимное влияние97. Особого внимания заслуживает тот факт, что концепции и практики российской элиты постоянно обогащались опытом, полученным российскими акторами прежде всего посредством контакта с коренными народами в целом, а также с местными коренными элитами98. Итак, данный труд обязан результатам постколониальных исследований, но для него актуальна не их тематика, а их методический подход и мультиперспективность, позволяющие рассмотреть, где это представляется очевидным, прямо выраженный или косвенный «протокол», касающийся местных жителей, который учитывался в концепциях и практиках правления российской элиты99.
С другой стороны, важно не перегнуть палку, обоснованно отказываясь от строгого разделения метрополии и периферии, и взять в качестве объекта исследования исключительно «совокупности различных имперских ситуаций» и особенно синхронных ситуаций местного уровня100. Семантика мгновенности, связанная с понятием «ситуации», несет в себе опасность упущения многовековых концептуальных и практических традиций российского имперского господства, а также их модификаций. Как показано в настоящей работе на примере различных сфер политики, основы имперских методов российской элиты возникли как раз не из конкретных коммуникаций или синхронно задуманной «совокупности различных имперских ситуаций». Скорее многие из рассматриваемых здесь практик веками передавались от правительства к правительству и опробовались, развивались и адаптировались к обстоятельствам в зависимости от изменения концепций, условий и сопротивления. Одной из таких принципиально новых концепций было принятие парадигмы цивилизованности.
К тому же подход, при котором любое взаимодействие метрополии и периферии рассматривается только как «имперская ситуация», таит в себе опасность упущения концепций и практик господства, перенесенных имперской элитой с одной периферии на другую. Поэтому исследования, которые обращаются к микроуровню коммуникаций отдельных лиц или малых групп, хотя и необходимы, но в то же время должны быть дополнены работами, рассматривающими широкие связи как на межрегиональном, так и на диахронном уровне, без нивелирования при этом имперского многообразия как в центре, так и на периферии101. В этом смысле работа выступает за более тесное, чем ранее, сочетание ситуативного подхода в истории империи с акцентом на административной преемственности и трансфере административных практик102.
1.4. СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Данное исследование базируется на многочисленных предшествующих работах. Главной из них по-прежнему остается фундаментальная работа о многонациональной империи, в которой А. Каппелер в 1992 году сфокусировал внимание на полиэтнической природе русского царства, вследствие чего, одновременно с возникновением государств – преемников Советского Союза, Российская империя в последние десятилетия оказалась предметом активного исследования историографии103. При этом лишь в редких случаях трансрегиональные имперские концепции и практики господства российских правительств и имперской элиты исследовались с точки зрения XVIII века. Опираясь на новаторские исследования Б. Э. Нольде, М. Раева, Фредерика Старра, Юрия Слёзкина и дальнейшую работу А. Каппелера, в последние годы прежде всего М. Ходарковский и У. Сандерленд посвятили себя изучению фундаментальных проблем имперского российского господства и колонизации на примере российской политики в отношении территорий и этнических групп южных степей и Северного Кавказа104. Им данная работа обязана существенными открытиями и стимулами.
В то же время данное исследование выходит за рамки упомянутых работ по двум аспектам. Во-первых, впервые всесторонне прорабатываются последствия принятия парадигмы цивилизованности имперской политикой российского царства в XVIII веке. Во-вторых, межрегиональный подход позволяет сосредоточиться на некоторых имперских концепциях и практиках, которые до сих пор не рассматривались вовсе или лишь кратко упоминались, проследить стадию их возникновения, проанализировать их в межрегиональной взаимосвязи и с учетом центральных тезисов данной работы описать их особую эволюцию в XVIII веке.
Весьма полезными оказались многочисленные монографии, посвященные двустороннему взаимодействию между российским центром и отдельными этническими группами на юге или востоке царства105. Исследования middle ground также сыграли важную роль в данной работе. Речь идет о ситуации, возникшей из столкновения интересов и действий различных степных народов, коренного или переселенного казачьего населения, а также представителей российской администрации, в частности, вдоль реки Яик/Урал и на Северном Кавказе106.
В вопросах, касающихся концепции и развития цивилизаторской теории, политики цивилизирования и миссии (или миссий) цивилизирования, исследование опирается на выдающиеся труды Ю. Остерхаммеля107. Особая роль принадлежит его статье 2005 года, в которой впервые была заложена теоретическая база концепции цивилизирования и цивилизаторской миссии. Данную работу обогатило также недавнее исследование У. Хофмайстера, в котором он, опираясь на идеи Остерхаммеля, предложил тематически связанное исследование русских представлений о миссии цивилизирования в отношении Средней Азии в конце XIX века, что позволяет обнаружить преемственность и разрывы в диахронном сравнении идей цивилизирования108.
Обращение к литературе становится менее плодотворным, если коснуться вопроса о связи между восприятием идей Просвещения и имперской, а также колониальной политикой в царской державе. В то время как историография «русского Просвещения» до сих пор оставляла за рамками рассмотрения имперский или тем более колониальный аспект, связанный с восприятием просвещенческих идей и практик российскими акторами, данная тема уже давно занимает умы историков, изучающих западноевропейские колониальные империи109. Поэтому большим подспорьем в работе стало знакомство с исследованиями о португальской и испанской политике XVIII века в Южной Америке, а также о французском господстве на Мадагаскаре110.
Важные импульсы работа приобрела благодаря основанному в 2000 году русско- и англоязычному журналу Ab Imperio, редакция которого позиционирует себя как пионера в направлении исследований под названием «Новая имперская история»111. Это развивающееся во всем мире направление, а также инициация культурно-исторических исследований российского государства в значительной степени вдохновили данный проект. Одна из задач состоит в том, чтобы взглянуть на феномен империи безоценочно. Неэффективным представляется рассмотрение империи в традиции XIX века и его национальных движений или в традиции марксистской теории империализма как стадии, которую следует преодолеть или которая впоследствии была преодолена государством в своем развитии; в то же время не следует впадать в имперскую ностальгию и видеть в империях государственные образования, которые по природе своей поддерживали мир и сглаживали этнические и религиозные конфликты и исчезновение которых развязало руки сдерживаемому прежде насилию. Вместо этого предлагается решить более трудную задачу – подойти к изучению Российской империи как к феномену домодерна, с языком и коннотациями XXI века, которые по-прежнему формируются под влиянием эпохи национализма и преимущественно антиимпериалистических национальных движений.
Для этого крайне важно поставить восприятия и толкования современников в центр анализа и, таким образом, заняться рассмотрением языка самоописания империи в эпоху перемен в XVIII веке112. В этом отношении в каждой главе этой книги важную роль играет история понятий, разработанная Р. Козеллеком в его многотомном труде «Основные исторические понятия» («Geschichtliche Grundbegriffe»), усовершенствованная в последующие десятилетия в результате плодотворной критики и превращенная в исследование лексических полей и историю семантических полей, а также обогащенная ценными работами историков-русистов, посвященными центральным понятиям XVIII века113.
Угол рассмотрения, принятый в этом исследовании, таков, что в центре внимания находятся как те источники, которыми царские правительства задавали правовые и административные рамки для сосуществования в многонациональной империи, так и те, в которых проявляются рефлексии имперской элиты по поводу ее межрегиональных концепций и практик господства. В этом смысле можно в общих чертах определить четыре группы источников: первая включает документы, касающиеся правовых норм различных правоустанавливающих органов. К ним относятся среди прочего указы царей, правительственные законы, акты и решения Сената, Синода или отдельных коллегий, а также официальные дипломатические соглашения, присяги на верность вождей этнических групп и изволения органов принятия решений коренных народов.
Вторая группа источников включает документы исполнительного аппарата. К ним относятся не только инструкции, приказы и записки Коллегии иностранных дел и соответствующей региональной администрации, но прежде всего переписка между представителями различных иерархических уровней, между местными представителями администрации и элитой коренного населения. Некоторые из этих документов носят информационно-документальный характер (таблицы, сведения о населенных пунктах, описательные отчеты), другие являются стратегическими материалами (проекты, планы, мнения), третьи – отчетами вышестоящему государственному органу.
Третья группа состоит из документов сугубо личного характера, таких как мемуары, воспоминания, дневники, рукописи и путевые заметки. Четвертый тип источников включает русские летописи114.
Первый ресурс для ознакомления с источниками нормативно-правового характера – 48 томов «Полного собрания законов Российской империи», в котором, вопреки его названию, собраны отнюдь не только законодательные тексты, но и бесчисленные материалы второго корпуса источников115. Существенные дополнения были также взяты из «Сборников императорского Русского исторического общества»116.
Кроме того, мы, историки, работающие над имперской историей российского государства в XVIII веке, в большом долгу перед нашими коллегами, трудившимися в период заката Российской империи, а также перед советскими коллегами, особенно работавшими в 1930–1970‐х годах: они собрали воедино бесчисленное множество ценных документов из центральных и местных архивов российской державы и Советского Союза, опубликовали их и снабдили грамотными вводными статьями и комментариями. Эти сборники источников широко отражают восприятие, стратегии и практики как правительственного центра, так и его административных, военных и экономических представителей на перифериях117.
Преимущественно опубликованные источники относятся к документам Российского государственного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного исторического архива и Архива Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Некоторые из опубликованных источников хранятся в архивах соответствующих регионов.
Документы, составленные сторонними наблюдателями, и письменные свидетельства представителей нерусских этнических групп, опубликованы преимущественно как в оригинале, так и в русском переводе118. Однако тексты, выполненные современными документу переводчиками представителей нерусских элит, необходимо рассматривать в качестве первоисточников с определенной осторожностью. Учитывая проблемы, связанные с переводом на русский язык в то время, их можно лишь в ограниченной степени считать достоверным отражением реакций коренных акторов119.
Но взгляды и поведение групп коренного населения (и здесь в первую очередь их элит) также просматриваются и в документах, составленных российскими акторами. Так, в них широко обсуждается сопротивление коренных народов или стратегические соображения российской стороны о способах его преодоления. С оговоркой, что именно «российская призма» всегда определяла тему и содержание, «местный протокол», таким образом, включался в формирование, а также в реализацию имперских российских практик120. Не меньший интерес, чем вопросы о том, каким образом государственные служащие воспринимали коренное население, какими знаниями они при этом обладали и какие выводы они делали из этих знаний, вызывает вопрос, о чем они в каждом конкретном случае умалчивали121.
1.5. СТРУКТУРА РАБОТЫ
Поставленный в начале введения вопрос, существовала ли империя в восприятии государственной элиты в смысле политики дифференциации до 1721 года, стал отправной точкой второй главы. Она посвящена фундаментальной проблеме – в какой степени и при каких условиях нерусские группы населения становились или могли стать подданными царя. Глава затрагивает, таким образом, основополагающий аспект – как вообще выглядела русская концепция подданства до XVIII века. Возможно ли в особенностях конкретных процедур приема и последующего правового статуса обнаружить различия между приемом под власть княжества Московского, а позже Московского государства, с одной стороны, русскоязычных групп, а с другой – нерусского населения? Отражается ли в концепции подданства имперский характер Российской империи или скорее характер унитарного государства? Какие трансформации, оказавшие влияние на концепцию российского подданства в XVIII веке, можно выделить на фоне концепции подданства прошлых веков?
В третьей главе основной тезис работы – эпохальный исторический поворот в имперской политике российского государства через принятие парадигмы цивилизованности – рассматривается как бы в миниатюре, осмысливается на примере центрального элемента, которым подданство русских отличалось от подданства нехристианских этнических групп на юге и востоке: речь идет о российской практике взятия заложников. Поскольку эта имперская практика имела решающее значение для прочного закрепления российской экспансии в отношении всех рассматриваемых этнических групп и в некоторых случаях сохранялась вплоть до середины XIX века, а в историографии данному методу уделялось до сих пор мало внимания, этому вопросу посвящена отдельная глава.
История возникновения заложничества со времен Киевской Руси, во-первых, опровергает прежде всего до сих пор едва ли оспариваемое мнение, будто Великое княжество Московское переняло этот метод у монголов и якобы даже детали этой практики несут на себе монгольский отпечаток. В продолжение этой мысли в работе приводится тезис о том, что имперское заложничество было заимствовано Московским государством из османской традиции через Северный Кавказ в XVI веке и впоследствии обрело специфически русский или российский характер. В этом варианте заложничество применялось в де-факто империи XVI и XVII веков от Северного Кавказа до Камчатки. Только на фоне знаний об особенностях практики московского заложничества становится понятной степень ее трансформации, произошедшей в XVIII веке, а именно – изменения в отношении к заложникам, которые рассматривались уже не как оставленные в залог и подлежащие хранению объекты, а как объекты цивилизаторских планов и колониальной эксплуатации.
Это создает предпосылки для четвертой и самой длинной главы, состоящей из шести подразделов, каждый из которых носит самостоятельный характер, и на примере широкого спектра тем освещающей изменения в имперских концепциях и практиках господства в XVIII веке. В то время как в главах о подданстве и взятии заложников итоги подводятся только в конце, гораздо больший объем четвертой главы делает целесообразным подведение итогов после каждого подраздела.
В первом подразделе (4.1) прослеживаются все три шага формирования российского цивилизаторского дискурса в имперском измерении в XVIII веке: возникновение понятийного поля «цивилизованности» и «цивилизации», самоатрибуция российского населения/российского государства как цивилизованного (независимо от инициированного Петром I параллельного дискурса цивилизирования собственного населения), а также воля к цивилизированию остального нерусского населения на основе предполагаемой собственной цивилизованности и цивилизации.
Цель пяти последующих подразделов состоит в том, чтобы продемонстрировать, как интеллектуальное принятие парадигмы цивилизованности породило политическую практику, которая иногда следовала колониальным образцам. При этом в центре внимания в первую очередь находятся зарождение и изменение определенных дискурсов и практик российской элиты. Вопросы о воздействии, масштабах и устойчивости практик хотя и рассматриваются, но в целом играют второстепенную роль.
Прежде всего (4.2) рассматривается стратегия российской элиты, которая использовала старую традицию строительства оборонительных линий на южном фронтире государства в XVIII веке для проведения новой территориальной политики, в соответствии с принципами которой производилось фундаментальное вмешательство в жизнь уже покоренных, нехристианских этнических групп с целью «организовать» ее в соответствии с российскими интересами и потребностями.
В следующем подразделе (4.3) раскрывается значение принудительной массовой христианизации, которая была начата Петром I и которая лишь на первый взгляд имела религиозные цели: на самом же деле речь шла о переходе от завоевательной политики к «политике цивилизирования». Четвертый подраздел (4.4) посвящен расширению этой кампании путем вмешательства в образ жизни и экономический уклад коренных народов. Тема пятого подраздела (4.5) – постепенное выхолащивание и преобразование местных властных и правовых структур в соответствии с российскими интересами и на основе убеждения в собственном цивилизационном превосходстве. Шестой и последний подраздел (4.6) обрамляет все предшествующие, поскольку в нем рассматриваются базовые концепции и практики русской культуры господства, которые использовались для установления лояльности и отчасти для «цивилизирования» нерусских групп населения на юге и востоке.
В то время как в главе о заложничестве более или менее сбалансированно представлен межрегиональный (и диахронный) подход в исследовании Северного Кавказа, южных степей, Сибири, Дальнего Востока, северной части Тихого океана и Русской Аляски, в четвертой главе регионально обусловленные различия и тематический охват требуют выдвижения на первый план различных периодов и районов в зависимости от рассматриваемых тем. В случае территориальной колонизации в центре внимания оказываются южные и юго-восточные степные народы; однако при рассмотрении трансфера новой региональной политики сюда включается и Северный Кавказ. Кампания по христианизации Петровской эпохи анализируется в первую очередь на материале этнических групп Сибири и Дальнего Востока, а также – в гораздо меньшей мере – Среднего Поволжья. Что касается вмешательства в образ жизни и экономический уклад, здесь на переднем плане оказываются степные народы и Северный Кавказ, в то время как этнические группы северной части Тихого океана и Русской Аляски лишь кратко упоминаются.
После краткого обзора различных российских подходов к структурам господства нерусских этнических групп от Северного Кавказа до якутов и ительменов, подробно анализируются выхолащивание и трансформация властных и правовых структур коренных народов на примере калмыков и казахов. Последний подраздел, раскрывающий такой аспект российской культуры господства, как достижение лояльности через милость и дары, вновь касается всех нерусских этнических групп на юге и востоке империи.
2. КОНЦЕПЦИЯ ПОДДАНСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ИМПЕРИИ
В XVIII веке Российская империя значительно расширилась не только территориально. Помимо завоевания остзейских губерний, броска на Дальний Восток и в Русскую Америку, присвоения южных степей, Крыма и территорий разделенной Польши, именно в эту эпоху сформировались прежде всего ее особые характеристики, институты и властно-политические практики122. Одной из сложнейших, но одновременно и важнейших задач для государства было определение того, при каких условиях соответствующее коренное население и его вожди могли или должны были стать союзниками, опекаемыми или подданными империи в случае аннексии. То, как решался этот вопрос, оказывало важнейшее воздействие на степень успешности имперской экспансии. Кроме того, это в значительной степени определило путь, по которому континентальная империя пошла при формировании населения своего государства. Поэтому в данном параграфе на примере разработки концепции подданства будет описано, как два важных процесса в российской державе, одновременно и тесно переплетаясь, концептуально завершились: процесс образования государства и процесс образования империи.
В то время как концепция российского подданства в смысле «натурализации» посредством индивидуальной добровольной иммиграции уже изучена в литературе, имперский его аспект в значительной степени остается неисследованным123. В своем новаторском исследовании о подданстве в Российской империи либеральный русский историк права В. М. Гессен в начале ХX века пришел к выводу, что до петровского времени единственной возможностью для иностранца вступить в подданство являлось обращение в православие124. Гессен тем самым проигнорировал тот факт, что к 1700 году к российскому царству уже «присоединилось» бесчисленное множество неправославных этнических групп, то есть они приняли подданство с присягой правителю, не меняя своей веры. Наоборот, им даже было дано указание принять присягу в собственной вере (подробнее о присяге согласно собственной вере речь пойдет ниже).
Пренебрежение имперским аспектом подданства тем удивительнее, что в XVII и особенно в XVIII веке в результате имперской экспансии удалось включить в состав царства гораздо большее количество подданных, чем когда иностранцы принимали подданство путем индивидуальной добровольной иммиграции. Таким образом, взгляд на концепцию подданства, который учитывает только «натурализацию» через индивидуальную добровольную иммиграцию, дает неполную картину или приводит к неверным выводам.
Что же понимала русская и российская сторона под подданством в своем царстве? Каковы истоки этого понимания и с чем оно может быть связано? Как оно было оформлено терминологически? Какое значение придавалось понятию подданства в имперском контексте? И какие изменения это понятие претерпело в XVIII веке? Итак, в дальнейшем нас будут интересовать не только правовые вопросы «членства» в царском союзе господства. Вместо формального институционального анализа речь пойдет в первую очередь о политических концепциях и практиках, которые применялись во время и после принятия в российское подданство нерусских и нехристианских этнических групп.
Подход, ограничивающийся юридическими вопросами, потерпел бы неудачу из‐за того, что Московское государство, несмотря на постоянную иммиграцию и продолжавшуюся имперскую экспансию, не регулировало процесс приема людей в свое подданство почти до середины XVIII века или действовало по-разному от случая к случаю. И даже в XVIII веке отсутствовало законодательство, которое бы общеобязательным образом определяло, как должно происходить включение аннексированной этнической группы в подданство и какие права и обязанности с этим связаны. Несогласованность в действиях российских правительств и терминологическая неопределенность делают невозможным юридически однозначное определение подданства для раннего Нового времени. Говоря словами историка В. М. Гессена, который уже цитировался ранее: «В высшей степени трудно ответить на вопрос: кто является подданным и кто иностранцем в XVIII веке»125.
2.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОДДАНСТВА
Стремление понять российскую концепцию подданства в XVIII веке приводит к вопросу о том, какое представление являлось преобладающим до того времени или c какого момента в Московском царстве вообще существовало представление о подданстве. Американский историк Э. Лор рассматривает включение гетманской Украины в 1654 году как парадигму принятия в подданство в процессе имперской экспансии126. При этом он опирается на анализ российского ученого-правоведа Б. Э. Нольде. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что Нольде назвал случай гетманской Украины лишь источником формирования системы «русских областных автономий»127.
Несомненно, Переяславское соглашение как правовой акт о приеме казачьей Гетманщины, названный по месту его заключения, сыграл выдающуюся роль в формировании концепции русского и российского подданства. В этом вопросе еще предстоит разобраться подробнее. Однако соглашение не стало отправной точкой имперской экспансии. Вероятно, уже в то время существовали «образцы для подражания» при принятии в подданство, уходящие корнями гораздо глубже в историю Московского царства и его формирования. Ведь именно в XV и XVI веках обнаруживаются ключевые элементы, влиявшие на концепцию подданства до конца существования империи. Знание о них является ключом к пониманию подданства также и в XVIII веке.
Основание империи обыкновенно связывают с завоеванием в середине XVI века ханств Золотой Орды, а именно Казани и Астрахани. Московское правительство уже господствовало над полиэтническим населением, когда царь Иван IV вместе с этими ханствами впервые аннексировал государственные образования с чуждой, не восточнославянской и прежде всего нехристианской высокоразвитой культурой. Но и в этих случаях русские завоеватели применяли средство подчинения, которое ни в коем случае не было новым, но давно было им знакомо, – присягу на верность. Московские войска весной 1551 года окружили расположенные западнее Волги районы у Казани, отрезали пути снабжения, начали строительство крепости Свияжск и с помощью военных атаковали население. Жители правого берега Волги, именуемого «Горной стороной», решили «добровольно» подчиниться московским представителям из Свияжска. Русская сторона немедленно преобразовала это «желание подчиниться» во включение в подданство московского царя: царские слуги заставили всех людей Горной стороны (горных людей) «князеи и мырз и сотных князей и десятных и Чювашу и Черемису и Мордву и Можяров и Тарханов» московскому царю «по своей вере правду государю дать», что они и их дети будут царю и князьям «неотступным быти», «служити и хотети во всем добра»; что податные люди будут платить «дани и оброки, как их государь пожялует» и что они не будут держать в плену русских людей128.
Правда, многие представители татарского высшего слоя уклонились от присяги, перебравшись на другую сторону реки129. Завоевание всего Казанского ханства затянулось еще на полтора года. Но решающее значение на данном этапе имеет не количество новых подданных или скорость, с которой совершалась аннексия, а вопрос о том, как и какими средствами московская сторона присоединила к себе политически и культурно чуждые этнические группы. Патриция Сид в своей книге о формах европейского завоевания и захвата земель и народов показала, насколько по-разному англичане, французы, испанцы и голландцы стремились закрепить свои завоевания в раннее Новое время130. Средства установления имперского господства над местными жителями (и их землей) основывались на практиках, жестах, процедурах или речах, знакомых им по их собственному, земляческому контексту.
У англичан ритуал имперского присвоения возник из риторики садоводов, практики землевладельцев и аграрных ритуалов плодородия: претензии на право собственности возникали на основании того, что хозяин возделал и огородил поле и построил на нем дом. У французов важную роль играли процессии по модели коронации их собственных королей, у голландцев притязания фиксировались в первую очередь с помощью карт и крайне детальных описаний, у португальцев элитарная традиция исламской и еврейской астрономии и математики предполагала, что территориальные притязания должны проявляться через точное описание наблюдаемых небесных тел.
Для морских империй было характерно осуществлять притязания на господство с помощью преимущественно территориально ориентированных практик. Континентальным империям, таким как Московское царство, напротив, были близки другие ритуалы. Русские не устанавливали никаких знамен на землях ханства, они не отправляли в Москву никакого дерна, они не описывали положение звезд, наблюдаемое в тех местах, не составляли подробных карт земель и не устанавливали своего господства посредством торжественного чтения соответствующих документов перед жителями ханств.
В ходе экспансии до XVIII века включительно царская имперская элита не столько открывала для себя «новую землю», сколько стремилась установить господство на более или менее знакомых территориях над живущими там коренными сообществами и приобрести для царя больше плательщиков дани131. Земля играла в Московском государстве лишь роль поверхности, на которой находилось аннексированное население. Следовательно, речь шла об установлении таких ритуалов для упрочения собственного господства, чтобы это привязало людей к новому правителю. На этом фоне становится понятным, почему московская имперская элита в ходе имперской экспансии с самого начала и в первую очередь осуществляла присоединение с помощью присяги на верность местных жителей. Принесение присяги на верность связывалось с фундаментальной целью придать людям новую политическую идентичность. Поэтому до конца монархического периода российской истории этому ритуалу придавалось важнейшее значение.
Однако такого понимания господства, согласно которому для русского царства важны были не столько «новые» земли, сколько вновь присоединенное население, еще недостаточно, чтобы объяснить значение присяги на верность для русской и российской истории. Скорее, в соответствии с концепцией П. Сид, представляется намного более важным поиск более ранних традиций, чтобы понять, почему в качестве решающего критерия включения жителей некоей территории в состав российского государства рассматривалось только обращение к практике присяги на верность и как данная практика интерпретировалась. Полезно в этой связи обратиться к внутренней практике Руси в эпоху Средневековья. Фактически присяга в виде клятвы верности играла важную роль еще во времена Киевской Руси. После принятия христианства в 988 году князья династии Рюриковичей усвоили практику присяги на верность в сочетании с христианскими символами: прежде всего целование креста, которое являлось самой священной формой присяги и превалировало над другими формами, такими как целование икон, прикосновение к мощам или клятва с поднятой над Библией правой рукой132.
В конце XIV – начале XV века целование креста, совершенное крестоцеловальником, стало центральным элементом при поступлении восточнославянской служилой знати на службу к московским князьям. В ходе борьбы между Литвой и Москвой за объединение русских земель особое значение приобретала верность тех дворян, которые происходили из областей, близких к границе между Литвой и Москвой. Русский ритуал присяги либо закреплял переход из иного господства в русское/российское, либо приводил к присяге служилую знать на спорных территориях. Присяга стала средством привязки новых дворян к собственному двору, установления связи с ними и, таким образом, обеспечения внутренней стабильности133.
С первой победой, одержанной в 1380 году над татарским войском, Великое княжество Московское значительно расширило свое главенствующее положение. Столетие спустя последовало насильственное присоединение Новгорода (1478), а еще через два года произошел формальный выход Москвы из-под власти Золотой Орды. Концепция единства правителя и его дружины, восходившая ко временам Киевской Руси, была заменена в эти времена усиления Великого княжества Московского необходимостью обеспечить постоянно растущую империю сплоченностью иного рода. Хотя концепция верного служения дворян князю сохранилась, она была изменена: великий князь Иван III исключил из присяги на верность всякую идею обоюдности. Кроме того, он принуждал к тому, чтобы каждый, кто когда-либо принес присягу верности московскому правителю, оставался связан ею навсегда. Отныне бояре были лишены возможности ухода к другому князю134.
Кроме того, в начале XV века был упразднен обычай времен Киевской Руси, позволявший приносить присягу на верность устно. Отныне церковь допускала в качестве присяги только крестоцеловальные записи, фиксируя и формализуя тем самым отношения господства между великим князем и дворянами135. Те, кто прежде были дружинниками, «возлюбленными братьями» князя, теперь превратились в подданных, «от природы» обязанных служить. На смену дружбе и взаимности пришла полная и безусловная преданность служилой знати правителю136.
Хотя зафиксированное в грамотах крестоцелование, посредством которого скреплялись клятвой отношения господства и подчинения, поначалу еще нельзя было рассматривать как прямое выражение присяги на подданство, нет сомнений в том, что не позднее XV века целование креста де-факто превратилось в присягу на подданство137. Воззвание великого князя Василия III точно отражает это, хотя и относится уже к началу XVI века. Согласно повелению князя, все, «кто хочет сидеть в Масковском государстве», обязаны были целовать крест. Те, кто отказывался от целования креста, должны были покинуть Москву138.
Петр Сергеевич Стефанович убедительно доказал, что сакрализованная, личная привязанность дворян к великому князю московскому не была проявлением социально-сословной традиции вассалитета, что она не устанавливала договорных отношений, как это было принято в Западной Европе в духе ленных отношений между сеньором и вассалом. Там вассальная присяга верности как выражение социально-сословных отношений между князем или королем и его знатными приближенными с конца VIII – начала IX века была даже правоустанавливающей для вассальной зависимости139. В случае русской истории – в Великом княжестве Московском – присяга, осуществляемая с целованием креста, представляла собой политическое соглашение, которое воспринималось не как договор, а только как принятие человека в число подвластных, предоставленное ему исключительно милостью правителя.
Юрий Михайлович Лотман, основатель Тартуско-московской семиотической школы, предвосхитил выводы П. С. Стефановича и объяснил их на культурологическом уровне. Согласно Ю. М. Лотману, с русской средневековой точки зрения царская власть была образом небесной власти, в котором воплощалась «вечная истина». Ритуалы власти должны были быть подобием ритуалов божественного порядка. «Перед ее [власти правителя] лицом отдельный человек выступает не как договаривающаяся сторона, а как капля, вливающаяся в море. Отдавая себя [власти], он ничего не требует взамен, кроме права отдавать себя»140.
Эта базовая концепция милости правителя при приеме новых подданных была продемонстрирована уже при окончательном подчинении Новгорода, состоявшемся в 1478 году. Царь Иван III настаивал на идее, что он не такой правитель, который заключает договоры со своими подданными, а такой, который лишь оказывает им милость. В то время как представители Новгорода хотели обязать царя выполнить определенные условия договора (крест бы целовал), Иван III категорически отказался брать на себя какие-либо обязательства со своей стороны, ссылаясь на покорение как на акт милости141.
Это представление о характере царской власти как источнике милости, но никак не уступок, в многочисленных вариациях встречается на протяжении веков142. Вплоть до Нового времени оно являлось одним из центральных компонентов русского и постепенно развивающегося российского имперского мышления. Соответственно, термины «милосердие» и прежде всего «милость», пожалуй, чаще всего встречаются в источниках – документах государственного происхождения.
Примером неизменности концепции даже в XVIII веке является наставление Александра Ивановича Румянцева, губернатора Астрахани и Казани, Василию Никитичу Татищеву, датированное 1736 годом, в котором он объясняет В. Н. Татищеву, как следует поступить с башкирами, восставшими против условий их царского подданства:
Е. И. В. не повелит з бунтовщиками договор чинить, токмо им надлежит в том милосердия просить. <…> ни в никакой договор с ними вступать не извольте, а пристойным образом можете им сие внушить, что сие будет предсудительно Е. И. В. самодержавной власти и высочайшей императорской чести, чтоб с своими поддаными <…> договоры чинить143.
Концепция милости также является более глубокой сущностью мыслеобраза, который американский историк Брюс Грант разработал и определил как «дар империи» (gift of empire) в отношении позиции российского государства на Северном Кавказе в XIX веке, не указывая на глубоко укоренившуюся традицию, лежащую в ее основании144. Для анализа имперского мышления в XVIII веке в рамках этой работы представление о правителе, оказывающем милость, играет весьма важную роль, причем отнюдь не только в главе о подданстве145.
Во всяком случае, еще до основания многонациональной империи, в ходе укрепления высокого положения Великого княжества Московского в борьбе за то, кому быть преемником Золотой Орды, основные элементы концепции подданства были заложены во внутрироссийском контексте. Эти элементы по большей части или, возможно, даже полностью реализовались, когда в XV веке Иван III приказал организовать походы в так называемую Югорскую землю в Западной Сибири и присоединить к своему царству такие нерусские этнические группы, как остяки и вогулы, или их вождей146. Определенно эти же элементы применялись, когда в XVI веке, как уже упоминалось, впервые встал вопрос о том, чтобы аннексировать представителей стоящего высоко в культурном отношении Казанского ханства с мусульманской структурой правления. Именно одна и та же концепция подданства с принесением присяги на верность и представлением о милости в качестве ее базовых элементов была – и это образует особенность российской державы при сопоставлении империй – осуществлена и при присоединении носителей высокой культуры Казанского ханства, и при «собирании земель Киевской Руси» Великим княжеством Московским в предшествующие десятилетия147. Здесь, уже в генезисе Московского государства, лежит ключ к пониманию неразрывного переплетения последующего формирования преимущественно русского унитарного государства и Российской империи.
В последующие столетия основная концепция принципиально оставалась неизменной, а была лишь дифференцирована и в большей степени формализована148. Если вначале речь часто шла о поддающихся проверке положениях о том, чего нельзя было делать приносящему присягу, то постепенно возобладали позитивные положения с подробными формулировками для описания внутренних отношений и обязательств принимающего присягу. Во второй половине XVIII века присяги в имперском контексте формулировались все более специфично в соответствии с тем, кто именно их принимал. Ниже кратко изложены пять характеристик, с помощью которых можно описать концепцию подданства в том виде, в котором она развилась и формализовалась к началу XVIII века.
Первой и самой важной характеристикой стала вышеупомянутая присяга на верность. Помимо связанной с ней концепции милости, по сравнению с монархиями в «Западной Европе» проявляется еще одна особенность: в то время как в Центральной и Западной Европе было принято приносить присягу на верность непосредственным господам, царское правительство не позднее XVIII века стремилось добиться монополии на присягу. Присяги, которые до сих пор могли приноситься, например по требованию помещиков, епископов или иного низшего светского или духовного начальства, отныне были строго запрещены царями. Присягу на верность следовало рассматривать как центральный элемент автократических притязаний на господство149. Эта политика способствовала тому, что принятие присяги ассоциировалось у населения исключительно с претензией на власть царя или формирующегося государства.
Второй существенной отличительной чертой российского подданства начала XVIII века было существующее с давних времен представление о высокой степени личной связи между подданным и правителем150. Эта персонифицированная концепция подданства породила традицию, которая на первый взгляд кажется противоречивой: с самого начала присяга на подданство в случае имперской экспансии содержала положение о вечности. Суть этого положения заключалась, с одной стороны, в том, что принесенная присяга считалась действительно «вечной»; с другой стороны, та верность, в которой клялись правителю, распространялась на его детей и внуков. С этой целью дети и внуки, если они уже существовали, также особо перечислялись в тексте присяги151. И все же, несмотря на положение о вечности, присягу приходилось приносить заново при каждой смене правителя, причем как при смене царствующего лица с российской стороны, так и при смене правителя со стороны соответствующей покоренной этнической группы.
При более внимательном рассмотрении этот подход перестает казаться противоречивым. Он имеет смысл тогда, когда включение в подданство понимается как акт милости. Такая милость могла быть дарована только лицом, считающимся божьим избранником, то есть лично царем. Таким образом, принятие в подданство неразрывно связывалось с фигурой самого правителя. Следовательно, присяга как актуализация этих личных связующих уз должна была возобновляться после ухода правителя и воцарения преемника152.
Однако несмотря на необходимость повторного принесения присяги, после того как люди однажды были приняты в подданство, каждому преемнику монарха принадлежало принципиальное право осуществлять господство именно над этими подданными. Здесь становится очевидной двойственность концепции, подразумевавшей и персональную, и институционально закрепленную (и постепенно ставшую государственной) связь. Эта двойственность возникла в XV веке и просуществовала до начала XIX века. Позже этот вопрос еще будет рассмотрен. А пока мы, резюмируя сказанное, можем, во всяком случае, констатировать, что с российской точки зрения, несмотря на необходимость повтора присяги, действовал принцип «раз подданный – навсегда подданный»153.
В-третьих, акт подчинения как акт милости считался состоявшимся только тогда, когда он подтверждался так называемой жалованной грамотой, выданной российским правителем. Этот документ имел большое значение для российской стороны. Он не только фиксировал все условия и обязательства, которые влекло за собой принятие в подданство. Прежде всего жалованная грамота была призвана засвидетельствовать для потомков уже упомянутое «вечное» царское право на господство.
Образцом для жалованной грамоты послужила практика, существовавшая ранее при монголах. У них тоже после принесения присяги выдавалось свидетельство об условиях подчинения и о предоставленной в пользование земле, так называемый ярлык, или ярлык на княжение. После каждой смены правителя – будь то с монгольской стороны или со стороны русских князей – ярлык выдавался и получался снова, для чего князья должны были «ездить за ярлыками» в столицу Монгольской империи, к хану в Сарай154. И в 1551 году, когда к Московскому государству была присоединена часть Казанского ханства, упоминается о выдаче жалованной грамоты с золотой печатью. В ней, в частности, зафиксировано, что выплату дани (ясака) разрешалось приостановить в течение первых трех лет155.
В-четвертых, при более внимательном изучении условий принесения присяги, характерных для XVIII века, обнаруживаются и другие принципы концепции подданства, применявшиеся еще со Средневековья. Уже в XIV и позже в XVIII веке присягу необходимо было приносить «по своей вере»156. В основном это правило применялось и в те времена, когда в ходе завоевания Казанского и Астраханского ханств в XVI веке и прежде всего в первой половине XVIII века государственная сторона поддерживала или сама инициировала крупномасштабные походы с целью обращения в свою веру157. При принятии в подданство миссионерские намерения отходили на задний план. Интерес российской стороны был сосредоточен в первую очередь на максимальной искренности присяги158. Для этого присяга должна была приноситься путем обращения к собственным божествам и по возможности с привлечением предмета, служившего гарантом святости присяги. Это наглядно иллюстрирует попытку русской и российской стороны найти аналогии привычной ей традиции целования креста и священный предмет соответствующей веры, сравнимый с крестом или Библией.
Посланники царей прилагали большие усилия, чтобы отыскать подходящие реликвии для всех приносящих присягу. В случае с мусульманами это оказалось сравнительно просто: по аналогии с христианским представлением о Библии как о священном тексте мусульманам предлагалось принести присягу с возложением руки на Коран159. Буддисты ламаистского толка целовали изображение Будды или прикладывали его ко лбу160. Сложнее было с «анимистами» и шаманистами, особенно если до подчинения русским они никогда не покорялись чужой власти и даже не знали, что такое присяга. Здесь клятву приносили на свежеснятой медвежьей шкуре или рассеченной собаке, глотали золото или кусали железо161. На медвежью шкуру, перед которой должны были присягать ханты, заранее клали топор, нож и другое оружие; во время самой церемонии человеку, приносящему присягу, следовало протянуть кусок хлеба на остром ноже. Предполагалось, что клятвопреступник может подавиться и задохнуться во время еды, стать добычей медведя или умереть от лезвия ножа. Якуты проходили между разрубленными частями собаки, кладя при этом в рот землю, и клялись тем самым, что при нарушении присяги они примут судьбу, подобную судьбе собаки. Енисейские киргизы, которые не были мусульманами, либо брали хлеб с ножа, либо пили золото162.
Кроме того, для подтверждения правдивости присяги требовалось привлечь священнослужителя из другой религии, будь то лама у буддистов ламаистского толка или ахун у мусульман163. Предполагалось, что они поручатся за правильность призывания соответствующего божества и впоследствии засвидетельствуют перед своей религиозной общиной, что присяга была принесена. Поскольку у «примитивных религий» отсутствовали подобные авторитеты, возможности дополнительной гарантии не было. Тем тщательнее необходимо было изучать обычаи каждой аннексированной этнической группы. Когда московские посланники упрекали киргизов в том, что они не соблюдают присягу на верность, их предводители (князцы) в 1625 году откровенно отвечали боярскому сыну Петру Сабанскому: «Князцам и их улусным людям та шерть [которой томские воеводы заставили их присягнуть] стала нелюба, что приводили их по остяцки, а не по их вере»164. Ведь присяга киргизов, данная по обычаю остяков (современное название «ханты»), совершенно очевидно освобождала киргизов от обязанности ее соблюдать. В этом случае проведенные московскими служилыми людьми поиски «правильного» обычая не увенчались успехом.
В качестве пятой существенной характеристики понятия подданства следует упомянуть изложенные в присяге обязанности подданых. По сути, выбор слов и содержание текстов присяг XVIII века свидетельствуют о том, в какой тесной связи они находились с присягами предыдущих столетий. Основные элементы присяги на верность всегда оставались одинаковыми для всех подданных: не предпринимать ничего «злого» против правителя, немедленно сообщать о «злых» намерениях третьих лиц, не иметь ничего общего ни с каким противником, а также стоять не на жизнь, а на смерть за правителя и в случае необходимости идти за него на войну.
Но тем не менее существовали различия между присягой на верность, которую русское православное население должно было приносить в случае смены правителя, и той, которой клялись представители нехристианских этнических групп при их присоединении или при вступлении на престол нового царя. Уже с XVI века покоренные народы нехристианской веры должны были взять на себя два обязательства, подтверждающие надежность нового политического статуса. Они были зафиксированы и в жалованной грамоте. Одна из повинностей состояла в упомянутой плате подати царю, называемой ясак (ранее дань)165. Другая повинность состояла в передаче людей, называемых аманатами (заложниками), в качестве живого залога, которые удерживались российской стороной в качестве гарантии повиновения и время от времени обменивались на новых заложников166. Этот метод взятия и удержания заложников практиковался исключительно при инкорпорации нехристианских этнических групп на юге и востоке империи и не имел никаких традиций во внутреннем русском контексте или в период образования Великого княжества Московского.
Другой аспект, в котором проявлялось различие между православным и нехристианским населением, касался «условного самопроклятия». Речь шла о введенном Иваном IV правиле, согласно которому в случае нарушения присяги клявшийся получал наказание в виде проклятия167. В то время как с приходом царей династии Романовых с 1613 года в отношении православного населения от этого пункта отказались, мусульмане, ламаисты калмыки и представители примитивных религий должны были приносить присягу на верность, включающую формулировку о самопроклятии168. По аналогии с клятвой по собственной вере, также и проклятие ввиду предполагаемого повышения эффективности должно было происходить по собственной вере169.
В этих пяти аспектах (милость вместо договора, личная связь вопреки статье о вечности, жалованная грамота по монгольской традиции, клятва по собственной вере, содержание присяги и обязательства подданства) заключается ядро российской концепции подданства в имперском контексте. Поскольку с этим ядром внутрирусская присяга на верность только лишь эволюционировала и, за исключением особого обращения с самопроклятием, не представляющим важности в практическом смысле, была дополнена только одним элементом, имевшим силу и значение исключительно в имперском контексте (институционализированное взятие заложников), не имеет смысла говорить о какой-либо «первой» инкорпорации нерусских этнических групп как образце для «принятий в подданство посредством имперской экспансии». Скорее концепция русского и российского подданства берет начало в политической культуре Московского княжества. Последняя формировалась под сильным влиянием как культуры Киевской Руси, так и многолетнего господства монголов170.
Вместе с тем важное значение имело присоединение гетманской Украины, на которое, как упоминалось, ссылается Э. Лор в своей книге об «империи и гражданстве» (Empire and Citizenship): впервые именно здесь русская традиция принятия в подданство по принципу милости натолкнулась на западноевропейские правовые традиции, преобладавшие в Речи Посполитой: там соглашения о подчинении носили договорной характер и основывались на взаимных обязательствах.
Поэтому было логично, что казаки Гетманщины – подобно тому, как примерно за двести лет до них жители Новгорода – перед своей присягой на подданство потребовали от Василия Васильевича Бутурлина, посланника царя, чтобы он, в свою очередь, дал от имени царя клятву, согласно которой их права и свободы сохранялись бы после вступления в подданство царя. Ответ царского посланника Бутурлина не мог быть более пренебрежительным:
А того, что за великого государя веру учинити, николи не бывало и впредь не будет; и ему, гетману, и говорить было о том непристойно, потому что всякой [русский] подданной повинен веру дати своему государю171.
И хотя в конце концов казаки смирились с тем, что им было только обещано, что царь сохранит их права и свободы, а правительственные чиновники составили для этого соответствующий документ, это привело к основной проблеме, которая на протяжении последующих веков обременяла русско-украинские отношения: в то время как, с точки зрения казаков, Переяславское соглашение, и в том числе сформулированные позже «статьи» об их «правах и свободах», носило договорной характер, царь, в соответствии с многовековой традицией московской концепции подданства, предоставил эти свободы только из милости. С этой точки зрения сохранение свобод казаков могло стать не вопросом правовых претензий, основанных на взаимности договора о подчинении, а лишь вопросом длительности действия172.
Но значимость Переяславского соглашения не только в том, что столкнулись различные правовые традиции и по этому поводу представители московского правительства впервые четко сформулировали свою позицию. То, как царская сторона поддержала просьбу казаков и как она почти семьдесят лет при каждой смене правителя подтверждала «статьи» в отношении «Малороссии» – так вскоре была названа Гетманщина в соответствии с церковно-политическим обозначением расположенного там церковного округа, – на первый взгляд может показаться удивительным. Тем более что «статьи» предполагали региональную автономию в таком объеме, в каком ее до сих пор не предоставляли ни одному присоединенному народу173. Кроме того, подчинение было объявлено актом милости московского правителя, так что с юридической точки зрения у российских властей не было необходимости постоянно подтверждать эти традиционные «права и свободы» казаков.
На примере Гетманщины скорее можно наблюдать, к какой гибкости была готова российская имперская элита при всей ее принципиальной приверженности основной концепции милости. Эта гибкость проявлялась тогда, когда долгосрочная интеграция вновь подчинившейся этнической группы все еще казалась не гарантированной или если царская сторона, по ее мнению, сталкивалась с сопротивлением. В этом смысле Переяславль вполне можно назвать образцом – как образцом гибкости, к которой постоянно приходилось прибегать при инкорпорациях, так и образцом конкретного оформления региональной автономии в империи в целом. Действительно, модель инкорпорации гетманской Украины, а также постепенное ослабление казачьего самоуправления еще до перехода Ивана Мазепы на сторону Карла XII стали шаблоном для будущих имперских стратегий российской державы в XVIII веке174.
Сопоставимые стратегии применялись и среди социально высокодифференцированных калмыков и казахов Младшего жуза. Сочетая гибкость и уступки, с одной стороны, и постепенное разложение собственных традиционных структур этих народов, с другой, российской имперской элите удалось прочно закрепить калмыков и казахов в имперских структурах175. В этом смысле соглашение 1654 года (и проводимая в последующие десятилетия политика) свидетельствуют об успехе московского курса на превращение внешнеполитического договора, к которому первоначально стремилась присоединяемая сторона (в данном случае казачество), во внутригосударственное соглашение о подчинении176.
Однако из средне- и долгосрочного успеха российского курса никак нельзя сделать вывод, что казаки или другие этнические группы южных степей приняли царскую интерпретацию. Напротив, вопреки всем российским интерпретациям, казаки даже десятилетия спустя рассматривали свою «подвластность» царю как договор, заключенный в западноевропейской традиции, который наделял обе стороны правами и обязанностями и который, следовательно, терял силу в случае нарушения его условий. Несколько раз казачья элита предъявляла доказательства нарушения договора как основание для своего намерения выйти из-под власти царя, как это в последний раз произошло под предводительством гетмана Ивана Мазепы.
В не меньшей степени московское понимание «вечного подданства» отличалось от интерпретации ногайцев, башкир, калмыков, казахов и кабардинцев. Степные народы юга и горные народы Северного Кавказа веками придерживались традиции политических союзов, которые часто менялись и с самого начала заключались лишь на короткий срок. С распадом Золотой Орды, в рамках которой отношения между различными частями империи регулировались с помощью уже упомянутых ярлыков, с конца XV века союзы основывались на так называемой «шерти». Этот термин происходит от арабско-тюркского šart’ и первоначально употреблялся только в значении «соглашение», «условие»177.
При первом упоминании понятия в русском контексте, в документе 1474 года шертью называется клятва, которой могущественный хан Крымского ханства Менгли I Герай пообещал («крепкое свое слово молвя») вошедшему в силу великому князю Московскому Ивану III Васильевичу придерживаться согласованных в ярлыке договоренностей о ненападении и военном союзе, в то время как великий князь Московский, в свою очередь, в присутствии представителя хана целовал крест в знак подтверждения и соблюдения условий «братского договора»178. Следовательно, в то время и с русской точки зрения шерть еще воспринималась как внешнеполитический договор, который заключали между собой две стороны и который предусматривал для каждой стороны четко сформулированные договорные обязательства. Ни о каком «вхождении» крымского хана в московское подданство даже с русской точки зрения в то время речи не шло179.
Но впоследствии московские правители неоднократно прибегали к понятию шерть и стали обозначать им все присяги, которые приносили представители мусульманских и «языческих» этнических групп в Сибири, южных степях и на Северном Кавказе. За расширением употребления понятия шерть в XVI веке последовали и перемены в его интерпретации: понимание шерти как клятвы соблюдения мирных договоров или временных союзов с закрепленными взаимными обязательствами преобразовалось, в соответствии с московской интерпретацией и по образцу собственной средневековой традиции, в соглашение, в котором фиксировалось безусловное подчинение милости русского правителя. С московской точки зрения шерть превратилась в присягу на верность со всеми описанными выше характеристиками, включая статью о вечности, когда представители нехристианских этнических групп искали защиты у московского правителя. В этом смысле было вполне логичным, что царская сторона стала приписывать «клятвенной грамоте», издаваемой в связи с шертью (шертная грамота), такое же значение, которое ранее уже было связано с жалованной грамотой в контексте средневековой присяги на верность, а именно – закрепление безусловного и прочного принятия в подданство русского и позднее российского правителя180.
Поскольку изменение семантики понятия шерть происходило медленно и завуалированно, а российская сторона в начале взаимодействия с этнической группой остерегалась слишком четких формулировок своей интерпретации, произошла предсказуемая и продолжительная череда недоразумений. Среди нехристианских этнических групп юга и востока вплоть до XVIII века сохранялось первоначальное понимание шерти как двустороннего договора. В этой связи они видели себя во временном статусе царского протектората181. Так, на Северном Кавказе в 1557 году то, что, по версии московской стороны, представляло собой «вступление» кабардинцев в подданство русского царя («учинение в холопство»), с точки зрения самих жителей Кабарды означало всего лишь временную внешнеполитическую ориентацию на Московское государство, своего рода военно-политический союз. К большому раздражению российской стороны, после этого кабардинцы де-факто по-прежнему продолжали лавировать между персидским шахом, османским султаном и московским царем182. Даже присоединенные лишь в XVIII веке казахские ханы Младшего и Среднего жуза не соблюдали своих подданнических обязательств, не освобождали пленных и не позволяли российским караванам мирно передвигаться по своим пастбищам, как это было согласовано183.
Но если за присягой на подданство царю не следовало повиновение царскому правительству, если каждый по-своему трактовал свою присягу, а также условия подчинения или подвластности, возникает несколько вопросов: какое значение имел статус номинального подданства для российской стороны вообще, если он не был или не мог быть реализован? Каким российская имперская элита видела статус инкорпорированных ею, но «непокорных» нехристианских этнических групп за пределами концепции милости? В какой мере могли, с ее точки зрения, существовать разные степени подданства? И какие критерии, с точки зрения историка, должны быть соблюдены, чтобы вообще можно было говорить о реальном подданстве инкорпорированных этнических групп в российском государстве?
2.2. КРИТЕРИИ РОССИЙСКОГО ПОДДАНСТВА
Российский историк В. В. Трепавлов и его последователь П. С. Шаблей не так давно размышляли о том, как следует анализировать распространенное в XVIII веке понятие подданство с учетом различий его восприятия в центре и на периферии, а также различной степени его реализации. На первом этапе Трепавлов называет необходимым условием статуса подданства, во-первых, заключение соответствующего соглашения, а во-вторых, использование термина, обозначающего этот статус184. Для установления различия между номинальным и реальным подданством Трепавлов предлагает четыре критерия: во-первых, включение территории или народа в высшую государственную символику – прежде всего в официальный царский титул или в большой государственный герб; во-вторых, обложение налогом каждой «включенной» этнической группы; в-третьих, распространение царского законодательства и юрисдикции национальных учреждений на территорию формально инкорпорированной этнической группы; и в-четвертых, принадлежность территории к одной из административных единиц структуры правления или государства185.
Эти критерии важны по ряду причин. С их помощью впервые предпринимается попытка разложить сложный процесс имперских инкорпораций в российском государстве на компоненты. Критерии позволяют обозначить неодновременность формального принятия в подданство и фактического включения в административную систему Российской империи и аналитически определить степень политического проникновения. Наконец, они дают возможность измерения различных восприятий с российской стороны и со стороны инкорпорированных этнических групп на основе единых стандартов.
И все же упомянутые критерии не могут адекватно отразить сложность и неоднородность российской концепции подданства, сложившейся к XVIII веку. Попытка Трепавлова административно представить переход от номинального подданства к реальному оперирует идеальными типами и основывается на современном представлении о сформированном государстве. Однако он пренебрегает такими важными аспектами, как намерения современников и их интерпретации. Он недостаточно учитывает, в чем состоял соответствующий интерес российского правительства по отношению к коренным жителям различных регионов и в какой степени этот интерес придавал значение определенным аспектам подданства и отодвигал на задний план остальные аспекты, что не обязательно влекло за собой другой уровень интеграции подданных – а порой российское государство и не ставило перед собой подобной цели.
Продемонстрируем это на примере. В Сибири и на Дальнем Востоке постоянно повторяющееся предписание «ласково» приводить коренное население в подданство означало, что коренным народам предлагалась альтернатива: либо добровольно вступить в подданство и тогда платить ясак самыми лучшими собольими шкурками, либо быть убитыми. В южных степях повеление «ласково» приводить в подданство означало, что калмыцких или казахских ханов осыпали подарками, прежде чем осторожно, путем многочисленных искусных уговоров и переговоров, предложить им российское подданство. Если на востоке действовал девиз «отдай или умри», то на юге собрать ясак можно было только в том случае, если местные жители предоставляли его добровольно. В случае их отказа не следовало от них ничего требовать, хотя изначально уплата ясака была даже зафиксирована в жалованной грамоте как условие подданства186.
