Призрак. Мировая классика Ghost Stories бесплатное чтение
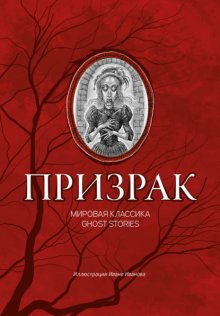
© Оформление: ООО «Феникс», 2021
© Иллюстрации: И. Иванов, 2021
© В оформлении обложки использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com
Владимир Федорович Одоевский
Привидение
(Из путевых заметок)
…Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириней Модестович говорил без умолка; всё – мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка – всё подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, – и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания – а Иринею Модестовичу только того и надо.
– Что это за замок? – спросил отставной капитан, выглядывая из окошка. – Вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, – прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу.
– Я про него знаю, – отвечал Ириней Модестович, – точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно – была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.
В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине… Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три, четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной… но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, – было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***ских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких пожертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно, – понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.
– Позвольте вас остановить, – сказал начальник отделения. – Как это – будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? Нет, помилуйте, мы сами бываем в наилучших компаниях… я с вами поспорю. Как это можно! Как это можно!..
– Говорят, – отвечал Ириней Модестович, – что где обращение хозяйки проще, там гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения…
– И я того же мнения, – прибавил отставной капитан, – терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол – и пошла потеха…
– Нет, воля ваша, – возразил начальник отделения, – не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! Для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое уменье жить с людьми, уменье каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный…
Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.
– Однако ж этак, – сказал я, – мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириней Модестович?..
Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля, а капитан – что Ириней Модестович одного с ним мнения.
Ириней Модестович продолжал:
– Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую – и партии не могли состояться.
Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливмя, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.
Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.
– Так, я и ждал этого! – вскрикнул начальник отделения. – Без привидений у него не обойдется…
– Нет ничего мудреного! – возразил Ириней Модестович. – Эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.
Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал:
– Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.
Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из “Epitre a Uranie”[1] или из “Discours en vers”[2] Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться. Любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».
Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:
– Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение – и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.
Лет тридцать тому назад, – я тогда только что еще вступил в службу, – наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками – словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.
– Кому принадлежит этот кондитерский пирог? – спросил я однажды у моей хозяйки.
– Моей приятельнице, графине***, – отвечала она. – Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею… Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, – продолжала хозяйка, – много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано. Так протекло шесть месяцев в беспрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время – она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было, – сказала она, – но я брошусь к ногам матушки». Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые, – наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.
Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.
Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство – эгоизм торжествовал. «Прочь, – вскричала она. – Я не знаю тебя; проклинаю тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностию произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня… но пощадите моего ребенка…» – «Проклинаю тебя, – повторила раздраженная графиня, – и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.
Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто…
С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целию жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но доныне старая графиня почитает себя в долгу пред своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там ни найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады – рай, одним словом! Балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением…
Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкой в курной избе?
– А не худое дело! – заметил капитан, поглаживая усы.
– На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашею хозяйкою, и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью, жизнию в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини – славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.
Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах) зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра, и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.
«О, – сказала графиня, – что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»
Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда при бледном свете ночной лампады он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» – но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел…
«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» – вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню… Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере, если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, Бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите.
И рассказчик засмеялся.
В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему.
– Вы с большою точностию, – сказал он, – рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке.
Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:
– Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа.
Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.
Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели – и вообразите себе, – прибавил Ириней Модестович трагическим голосом, – ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!
– Странно! – заметил капитан, – очень странно!
Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.
– Тут нет ничего удивительного, – сказал он важным голосом, – многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя; год прошел, другой, – день и ночь роется в архиве: сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался, – нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках нумер.
«Что с вами? – закричал я ему, – сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьич, никак не могу: я решенное дело!»
И начальник отделения захохотал; у Иринея Модестовича навернулись слезы.
– Ваша история, – проговорил он, – печальнее моей.
Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Иринея Модестовича:
– А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?
– Нет, – отвечал Ириней Модестович.
– Странно! – проговорил капитан. – Очень странно!
Между тем дилижанс остановился; мы вышли.
– Неужели в самом деле рассказчик-то умер? – спросил я.
– Я никогда этого не говорил, – отвечал быстро Ириней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению…
Оскар Уайльд
Кентервильское привидение
Материально-идеалистическая история
Мистер Хирам Б. Отис, американский посол, покупал Кентервильский замок. Все уверяли его, что он делает большую глупость, так как не было никакого сомнения, что в замке водятся духи.
Даже сам лорд Кентервиль, человек честный до щепетильности, счел своим долгом предупредить об этом мистера Отиса, когда они стали сговариваться об условиях продажи.
– Мы предпочитали не жить в этом замке, – сказал лорд Кентервиль, – с тех пор, как моя двоюродная бабка, вдовствующая герцогиня Болтон, была как-то раз напугана до нервного припадка двумя руками скелета, опустившимися к ней на плечи, когда она переодевалась к обеду. Она так и не излечилась впоследствии. И я считаю себя обязанным уведомить вас, мистер Отис, что привидение это являлось многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский пастор, преподобный Огастес Дампир, кандидат королевского колледжа в Кембридже. После злополучного приключения с герцогиней никто из младшей прислуги не захотел оставаться у нас, а леди Кентервиль часто не удавалось уснуть по ночам из-за таинственных шорохов, доносившихся из коридора и библиотеки.
– Милорд, – ответил посол, – я куплю у вас и мебель, и привидение, согласно вашей расценке. Я родом из передовой страны; там у нас имеется все, что можно купить за деньги, а при нашей шустрой молодежи, которая ставит ваш Старый Свет вверх ногами и увозит от вас ваших лучших актрис и примадонн, я уверен, что, если бы в Европе действительно существовало хоть одно привидение, оно давным-давно было бы у нас в одном из наших публичных музеев, или его возили бы по городам на гастроли, в качестве диковинки.
– Боюсь, что это привидение существует, – сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, – хотя оно, быть может, и отклонило все заманчивые предложения ваших предприимчивых импресарио. Оно хорошо всем известно вот уже триста лет, точнее сказать, с 1574 года, и оно всегда появляется незадолго до смерти кого-нибудь из нашей семьи.
– Ну, ведь и домашний врач тоже появляется незадолго до смерти, лорд Кентервиль. Но, сэр, таких вещей, как привидения, не существует, и смею думать, что законы природы не могут быть изменяемы даже для английской аристократии.
– Да, вы очень просто смотрите на вещи в Америке, – отозвался лорд Кентервиль, не совсем понявший последнее замечание мистера Отиса, – и если вы ничего не имеете против привидения, то все улажено. Но только не забудьте – я вас предупреждал.
Через несколько недель была совершена купчая, и к концу сезона посол и его семья переехали в Кентервильский замок. Миссис Отис, еще будучи мисс Лукрецией Р. Тэппен, с 53-й Западной улицы, была известной нью-йоркской красавицей, теперь же это просто была красивая дама средних лет, с чудесными глазами и великолепным профилем. Многие американки, покидая свою родину, принимают хронически болезненный вид, думая, что это признак высшей европейской утонченности, но миссис Отис не совершила этой ошибки. У нее было великолепное телосложение, и она обладала просто сказочным избытком жизненных сил. Даже во многих отношениях она была прямо англичанкой и являлась прекрасным подтверждением того, что у нас теперь почти все с Америкой общее, кроме, конечно, языка. Старший сын ее, которого родители, под влиянием минутной вспышки патриотизма, окрестили Вашингтоном, о чем он никогда не переставал сожалеть, был довольно красивый юный блондин, проявивший все данные будущего американского дипломата, так как в течение трех сезонов подряд дирижировал немецкой кадрилью в ньюпортском казино и даже в Лондоне прослыл прекрасным танцором. Его единственными слабостями были гардении и гербовник. Во всем остальном это был человек чрезвычайно здравомыслящий. Мисс Виргиния Е. Отис была девочка пятнадцати лет, стройная и грациозная, как лань, с большими, ясными, голубыми глазами. Она была прекрасной наездницей и как-то раз заставила старого лорда Вилтона проскакать с нею дважды вокруг Гайд-парка и на полтора корпуса обогнала его на своем пони у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг молодого герцога Чеширского, что он тут же сделал ей предложение и в тот же вечер, весь в слезах, был отправлен своими опекунами обратно в Итонскую школу. После Виргинии шли близнецы, которых обыкновенно дразнили «Звездами и Полосами», так как их часто пороли. Они были прелестные мальчики и, за исключением почтенного посла, единственные республиканцы во всем доме.
Так как Кентервильский замок отстоит на семь миль от Аскота, ближайшей железнодорожной станции, то мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали навстречу экипаж, и все отправились в путь в отличном расположении духа.
Был прекрасный июльский вечер, и воздух был пропитан теплым ароматом соснового леса. Изредка слышалось нежное воркование лесной горлицы, наслаждающейся собственным голосом, или показывалась в гуще шелестящих папоротников пестрая грудь фазана. Крошечные белки посматривали на них с буков, а кролики стремительно улепетывали через низкую поросль и по мшистым кочкам, задрав кверху белые хвостики. Когда они въехали в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, небо вдруг покрылось тучами, какая-то странная тишина как бы сковала весь воздух, молча пролетела огромная стая галок, и они еще не успели подъехать к дому, как стал накрапывать дождь большими редкими каплями.
На ступенях крыльца их поджидала старушка, в аккуратном черном шелковом платье, белом чепчике и переднике. Это была миссис Эмни, экономка, которую миссис Отис, по убедительной просьбе леди Кентервиль, оставила у себя на службе в прежней должности. Она перед каждым членом семьи по-очереди низко присела и торжественно, по-старомодному, промолвила:
– Добро пожаловать в Кентервильский замок!
Они вошли вслед за нею в дом и, пройдя великолепный холл в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате. Ее стены были обшиты черным дубом, а в противоположном конце находилось большое окно из разноцветных стекол. Здесь для них был сервирован чай. Сняв пальто, они уселись за стол и стали разглядывать комнату, а миссис Эмни прислуживала им.
Вдруг миссис Отис заметила темное красное пятно на полу, у самого камина, и, не зная его происхождения, указала на него миссис Эмни:
– Кажется, здесь что-то пролито.
– Да, сударыня, – ответила старая экономка шепотом, – на этом месте была пролита человеческая кровь.
– Какой ужас! – воскликнула миссис Отис. – Кровавые пятна в гостиной, на мой взгляд, совершенно неуместны. Это надо немедленно смыть.
Старуха улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:
– Это кровь леди Элеоноры Кентервиль, которая была убита на этом самом месте в 1575 году своим собственным мужем, лордом Симоном де Кентервилем. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом неожиданно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Его тело так и не было найдено, но грешный дух его до сих пор еще бродит по замку. Пятно это приводило в восхищение туристов, и уничтожить его невозможно.
– Это все глупости! – воскликнул Вашингтон Отис. – «Всемирный Выводитель Пятен Пинкертона и Образцовый Очиститель» уничтожит его в одно мгновение.
И не успела помешать ему испуганная экономка, как он опустился на колени и стал быстро тереть пол маленькой палочкой какого-то вещества, похожего на черный фиксатуар. Через несколько минут от кровавого пятна не осталось ни следа.
– Я знал, что «Пинкертон» тут поможет! – воскликнул он, торжествуя, и оглянулся на жену и детей, которые с одобрением смотрели на него; но он не договорил, так как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, и оглушительный удар грома поднял всех на ноги, а миссис Эмни упала в обморок.
– Какой чудовищный климат, – заметил спокойно американский посол, закуривая длинную манильскую сигару. – Очевидно, в этой древней стране населения настолько много, что на всех не хватает приличной погоды. Я всегда держался того мнения, что эмиграция – единственное спасение для Англии.
– Дорогой Хирам, – сказала миссис Отис, – что нам делать с женщиной, которая падает в обморок?
– Вычти из ее жалованья, как за битье посуды, – ответил посол, – после этого она не станет больше падать.
И действительно, через несколько минут миссис Эмни пришла в себя. Но, несомненно, она была очень взволнована и торжественно предупредила миссис Отис, что ее дому неминуемо угрожает беда.
– Сэр, – сказала она, – я видела собственными глазами такие вещи, от которых у всякого доброго христианина волосы встали бы дыбом, и много ночей не смыкала я глаз от ужасов, творящихся здесь.
Но мистер Отис и его жена настойчиво убеждали почтенную женщину, что они не боятся привидений, и, призвав благословение Божие на своих новых хозяев и намекнув на прибавку жалованья, старая экономка удалилась нетвердыми шагами в свою комнату.
Буря дико бушевала всю ночь, но ничего особенного не случилось. Однако на следующее утро, когда семья сошла к завтраку, она снова нашла ужасное кровавое пятно на полу.
– Не думаю, чтобы тут виноват был мой «Образцовый Очиститель», – сказал Вашингтон, – так как я его испробовал на очень многих вещах. Должно быть, это дело привидения.
И он снова стер пятно, и снова к следующему утру оно появилось. И на третье утро оно было там, несмотря на то, что накануне вечером мистер Отис сам запер библиотеку и унес с собою ключ наверх. Вся семья сильно заинтересовалась этим; мистер Отис стал подумывать, не был ли он слишком догматичен, когда отрицал существование привидений; миссис Отис высказала решение вступить в члены Общества исследований спиритических явлений, а Вашингтон приготовил длинное письмо к господам Майерсу и Подмору на тему о «Прочности кровавых пятен, связанных с преступлением». Но в ту же ночь были рассеяны навсегда всякие сомнения относительно существования призраков.
День был жаркий и солнечный, и, когда наступила вечерняя прохлада, вся семья поехала кататься. Они вернулись домой только к девяти часам и сели за легкий ужин. Разговор вовсе не касался духов, так что не было даже тех элементарных условий повышенной восприимчивости, которая так часто предшествует всяким спиритическим явлениям. Темы, которые обсуждались, как мне потом удалось узнать от мистера Отиса, были обычные темы просвещенных американцев высшего класса, например: бесконечное превосходство мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; трудность получения даже в лучших английских домах зеленой кукурузы, гречневых пирожков и маисовой каши; значение Бостона для развития мировой души; преимущества билетной системы для провоза багажа по железной дороге; приятная мягкость нью-йоркского акцента в сравнении с тягучестью лондонского произношения. Никто не упомянул ни о чем сверхъестественном, и о сэре Симоне де Кентервиле вовсе не было речи. В одиннадцать часов семья удалилась на покой, и полчаса спустя во всем доме были погашены огни. Через короткое время мистер Отис проснулся от страшного шума в коридоре, куда выходила его комната. Ему послышался как будто звон металла, приближающийся с каждой минутой. Он тотчас же встал, зажег спичку и посмотрел на часы. Было ровно час. Мистер Отис был совершенно спокоен и пощупал свой пульс, который бился ровно, как всегда. Страшный шум продолжался, и одновременно мистер Отис ясно стал различать звук шагов. Он надел туфли, достал из несессера маленький узкий флакон и открыл дверь. Прямо перед собой, при слабом свете луны, он увидел какого-то старика ужасной внешности. Глаза его были подобны красным горящим угольям; длинные седые волосы ниспадали на его плечи спутанными прядями; его платье старинного покроя было все в лохмотьях и грязно, а с кистей его рук и со щиколоток ног свисали тяжелые ручные кандалы и ржавые цепи.
– Сэр, – сказал мистер Отис, – я решительно должен настоять на том, чтобы вы смазали себе цепи; для этой цели я принес вам маленький флакон смазки «Восходящее Солнце» фирмы Таммани. Уверяют, что она дает желаемые результаты после первого же смазывания, и на обертке вы можете найти несколько блестящих отзывов, с подписями наиболее видных пасторов моей родины. Я оставлю вам бутылочку здесь около подсвечников и буду рад снабжать вас этим средством по мере надобности.
С этими словами посол Соединенных Штатов поставил пузырек на мраморный столик и, закрыв дверь, удалился.
Минуту кентервильское привидение стояло совершенно неподвижно, охваченное вполне естественным гневом; затем, озлобленно хватив бутылкой со всего размаху о паркет, оно понеслось по коридору, издавая глухие стоны, испуская зловещее зеленое сияние. Но едва оно достигло верхней площадки большой дубовой лестницы, как раскрылась какая-то дверь, показались две маленькие фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. Не теряя времени, привидение быстро воспользовалось четвертым измерением, нырнув в деревянную обшивку стены, и в доме все стихло.
Добравшись до маленькой потайной каморки в левом крыле замка, дух, чтобы передохнуть, прислонился к лунному лучу и начал разбираться в своем положении. Никогда за всю его славную, незапятнанную трехсотлетнюю карьеру никто его так жестоко не оскорблял. Он вспомнил о вдовствующей герцогине, которую он напугал до припадка, когда она стояла перед зеркалом вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он просто улыбнулся им из-за портьеры какой-то нежилой спальни; о приходском пасторе, у которого он потушил свечу, когда тот как-то вечером выходил из библиотеки, и который с тех пор находился на излечении у сэра Уильяма Галла, страдая нервным расстройством; о старой мадам де Тремуйляк, которая, проснувшись однажды рано утром и увидав скелет, сидящий в кресле у камина и читающий ее дневник, слегла на целых шесть недель от воспаления мозга, примирилась с церковью и раз и навсегда порвала всякие сношения с известным скептиком monsieur де Вольтером. Он вспомнил ужасную ночь, когда нашли жестокого лорда Кентервиля у себя в спальне, и тот задыхался, так как в горле у него застряла карта с бубновым валетом. Старик сознался перед смертью, что, играя у Крокфорда с Чарлзом-Джеймсом Фоксом, обыграл его на 50 000 фунтов стерлингов с помощью этой же карты, и вот теперь эту карту ему сунуло в глотку кентервильское привидение. Он вспомнил все свои великие подвиги, начиная с дворецкого, который застрелился в буфетной, увидев зеленую руку, стучащую к нему в окно, и кончая прекрасной леди Стетфилд, которая принуждена была носить вокруг шеи черную бархатку, дабы скрыть следы пяти пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в сазанном пруду, в конце Королевской аллеи. С восторженным самодовольством настоящего художника стал он перебирать в памяти свои наиболее знаменитые выступления и горько улыбался, вспоминая свое последнее появление в качестве Красного Рубена, или Задушенного Младенца, свой дебют в роли Сухощавого Джибона, или Кровопийцы с Бекслейской Топи, и фурор, который он произвел как-то ясным июньским вечером, играя в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.
И после всего этого являются какие-то несчастные современные американцы, предлагают ему «Смазку Восходящего Солнца» и швыряют в него подушками! Это было просто невыносимо. Кроме того, до сих пор в истории не бывало примера, чтобы так обращались с привидениями. Он решил отомстить и до рассвета оставался в глубоком раздумье.
На следующее утро, когда семья Отисов встретилась за завтраком, стали подробно и много говорить о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного обижен тем, что подарок его не был принят.
– Я не желаю наносить этому духу оскорбление, – сказал он, – и должен заметить, что, принимая во внимание долголетнее его пребывание в этом доме, не совсем вежливо швырять в него подушками. (Это вполне справедливое замечание было встречено, к сожалению, взрывами смеха со стороны близнецов.) Но с другой стороны, – продолжал посол, – если дух действительно отказывается пользоваться «Смазкой Восходящего Солнца», мы принуждены будем отобрать у него цепи. Совершенно невозможно спать, когда около спальни такой шум.
Однако остаток недели прошел тихо, и ничто не обеспокоило их; единственное, что возбуждало внимание – это постоянное возобновление кровавого пятна на полу библиотеки. Это было действительно странно, так как дверь всегда запирал на ночь сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими задвижками. Вызывала много толков и хамелеоноподобная окраска этого пятна. Иногда оно по утрам было густого (почти индийского) красного цвета, иногда киноварного, потом пурпурного, а однажды, когда семья сошла вниз к общесемейной молитве, – согласно упрощенному ритуалу свободной американской реформированной епископальной церкви, – пятно было яркого изумрудно-зеленого цвета. Эти калейдоскопические перемены, естественно, очень забавляли всех членов семейства, и каждый вечер составлялись пари в ожидании следующего утра. Единственное лицо, которое не разделяло общего легкомысленного настроения, была маленькая Виргиния; она, по какой-то необъяснимой причине, всегда бывала крайне опечалена при виде кровавого пятна и чуть-чуть не расплакалась в то утро, когда оно было ярко-зеленое.
Второе появление духа состоялось в воскресенье ночью. Вскоре после того, как семья легла спать, все были внезапно испуганы невероятным треском в холле. Бросившись вниз, увидели большие рыцарские доспехи, сорвавшиеся с пьедестала и упавшие на пол, а на кресле с высокой спинкой сидело кентервильское привидение и терло коленки с выражением острой боли. Близнецы, захватившие с собой резиновые рогатки, с меткостью, которая достигается только долгим и упорным упражнением на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него два заряда, а посол Соединенных Штатов направил на него револьвер и, согласно калифорнийскому этикету, пригласил его поднять руки вверх! Дух вскочил с диким криком бешенства и пронесся как туман через них, потушив при этом у Вашингтона свечу и оставив всех в абсолютной темноте. Добравшись до верхней площадки лестницы, он пришел в себя и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом. Не раз этот хохот оказывал ему услуги. Говорят, что от него в одну ночь поседел парик у лорда Райкера, и, бесспорно, этот хохот был причиной того, что три французские гувернантки леди Кентервиль отказались от места, не дослужив и месяца. И он захохотал своим самым ужасным хохотом, так что зазвенел старый сводчатый потолок; но едва замолкло страшное эхо, как раскрылась дверь и вышла миссис Отис в бледно-голубом капоре.
– Мне кажется, вы не совсем здоровы, – сказала она, – и поэтому я вам принесла бутылку микстуры доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, то это средство вам очень поможет.
Дух бросил на нее яростный взгляд и начал тотчас делать приготовления, чтобы обернуться в черную собаку, – талант, который ему заслужил справедливую славу и которому домашний врач всегда приписывал неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, мистера Томаса Хортона. Но звуки приближающихся шагов заставили его отказаться от этого намерения, и он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать и исчез с глубоким кладбищенским вздохом как раз в ту минуту, когда его почти настигли близнецы.
Добравшись до своей комнаты, он окончательно расстроился и сделался жертвой самого сильного волнения. Вульгарность близнецов и грубый материализм миссис Отис были крайне ему неприятны, но что его больше всего огорчило – это то, что ему так и не удалось облечься в эти доспехи. Он надеялся, что даже современные американцы будут смущены зрелищем «Привидения в доспехах», если не по какой-либо разумной причине, то по меньшей мере из уважения к их национальному поэту Лонгфелло, над томами изящной и привлекательной поэзии которого он провел не один долгий час, когда Кентервили переезжали в город. Кроме того, это было его собственное облачение. Он носил его с большим успехом на турнире в Кенильворте и удостоился выслушать по поводу его много лестного от самой королевы-девственницы. Но когда он теперь надел доспехи, он окончательно свалился под тяжестью огромного нагрудника и стального шлема и в изнеможении упал на каменный пол, сильно ушибив оба колена и разодрав кожу на пальцах правой руки.
В течение нескольких дней он серьезно хворал и почти не выходил из своей комнаты, кроме как ночью, для поддержания в надлежащем виде кровавого пятна. Но благодаря тщательному уходу за собой он поправился и решился в третий раз попытаться испугать посла Соединенных Штатов и его семью. Для этого он выбрал пятницу 17 августа и провел почти весь день, перебирая свой гардероб, остановив наконец свой выбор на большой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и на заржавленном кинжале. К вечеру разразился сильный ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери в старом доме вздрагивали и дребезжали. Впрочем, такую именно погоду он очень любил. План был намечен такой: первым делом он проберется тихонько в комнату Вашингтона Отиса, станет у него в ногах и наговорит ему всякого вздору, а потом пронзит себе горло кинжалом под звуки тихой музыки. Особую неприязнь он чувствовал к Вашингтону, так как прекрасно знал, что это именно он имел привычку стирать знаменитое Кентервильское пятно с помощью Образцового Пинкертоновского Очистителя. Доведя легкомысленного и дерзкого юношу до состояния несказанного ужаса, он должен был пройти в спальню посла Соединенных Штатов и его супруги и там положить покрытую холодным потом руку на голову миссис Отис, нашептывая в то же время ее дрожащему мужу на ухо ужасные тайны склепа. Что касается маленькой Виргинии, то он и сам еще не решил, что именно он предпримет. Она никогда его не оскорбляла, а была так мила и нежна. Нескольких глухих стонов из шкапа будет более чем достаточно, а если это не разбудит ее, он может подергать дрожащими пальцами ее одеяло. Близнецам же он решил преподать урок. Первое, что надо сделать, это, конечно, сесть им на грудь, чтобы вызвать отвратительные ощущения кошмара. Потом, ввиду того что кровати близнецов стоят близко друг к другу, он встанет между ними в образе зеленого заледенелого трупа, пока они не застынут от ужаса, и тогда он сбросит свой саван и, обнажив свои кости, будет шагать по комнате, вращая одним глазом, в роли Немого Даниила, или Скелета Самоубийцы, которая не раз производила большой эффект и которую он по силе считал равной своему исполнению Сумасшедшего Мартина, или Сокрытой Тайны.
В половине одиннадцатого он слышал, как вся семья отправилась спать. Долго ему мешали дикие взрывы хохота близнецов, которые с легкомысленной беспечностью школьников, очевидно, резвились перед тем, как улечься на покой; в четверть двенадцатого все стихло, и, как только пробило полночь, он пустился в путь. Совы бились о стекла окон, ворон каркал со старого тисового дерева, и ветер блуждал, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но семья Отисов спокойно спала и не подозревала о предстоящем несчастье, и громче дождя и бури раздавался храп посла Соединенных Штатов. Дух осторожно выступил из обшивки, со злой улыбкой вокруг жестокого, сморщенного рта; луна спрятала свое лицо за тучей, когда он пробирался мимо круглого окна, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он, словно зловещая тень; казалось, что и сама тьма встречала его с отвращением.
Однажды ему показалось, что кто-то окликнул его, и он остановился; но это был только лай собаки, доносившийся с Красной фермы. И он продолжал свой путь, бормоча страшные ругательства XVI века и не переставая размахивать в ночном воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до угла коридора, ведущего в комнату злосчастного Вашингтона. На мгновение он там остановился; ветер развевал его длинные седые локоны и свертывал с неизреченным ужасом в чудовищные фантастические складки саван мертвеца. Потом часы пробили четверть, и он почувствовал, что время наступило. Он самодовольно замурлыкал и повернул за угол; но едва только он это сделал, как с воплем ужаса шарахнулся назад и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял ужасный призрак, неподвижный, словно изваяние, и чудовищный, как бред сумасшедшего. Голова у него была лысая, гладкая; лицо было круглое, жирное, белое; и как будто отвратительный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз у него струились лучи красного света, рот был широким огненным колодцем, а безобразная одежда, похожая на его собственную, окутывала своими молчаливыми снегами титаническую фигуру. На груди у призрака висела доска с надписью, начертанной страшными буквами старинным шрифтом: верно, повесть о диких злодеяниях, ужасный перечень преступлений; в правой руке он высоко держал палицу из блестящей стали.
Никогда до этого времени не видав привидений, Кентервильский дух, естественно, ужаснулся и, снова бросив беглый взгляд на страшный призрак, побежал назад к себе в комнату, запутавшись несколько раз в складках савана и уронив заржавленный кинжал в сапоги посла, где на следующее утро он был найден дворецким. Добравшись до своей комнаты и очутившись наконец в безопасности, он бросился на узкую походную кровать и спрятал лицо под одеялом. Спустя некоторое время, однако, проснулась в нем старая кентервильская отвага, и он решил пойти и заговорить с другим привидением, как только придет рассвет. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где впервые увидал жуткий призрак, чувствуя, что, в конце концов, два привидения лучше одного и что с помощью своего нового друга он будет в силах справиться с близнецами. Но когда дошел до этого места, его взорам представилась страшная картина. Что-то, очевидно, приключилось с призраком, так так свет окончательно потух в его пустых глазных впадинах, блестящая палица выпала из рук, и весь он прислонился к стене в крайне неудобной и неестественной позе. Дух Кентервиля подбежал к нему, поднял его, как вдруг – о, ужас! – голова соскочила и покатилась по полу, туловище окончательно согнулось, и он увидал, что обнимает белую канифасовую занавеску, а у ног его лежат метла, кухонный топор и выдолбленная тыква. Не понимая причины этого странного превращения, он лихорадочными руками поднял плакат и при сером свете утра прочел следующие страшные слова:
ДУХ ОТИС
Единственный настоящий и оригинальный призрак!
Остерегайтесь подделок!!
Все остальные – ненастоящие!
Ему сразу все стало ясно. Его обманули, перехитрили, оставили с носом! Глаза его засверкали старым кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, подняв высоко над головой сморщенные руки, поклялся, согласно образной фразеологии старинной школы, что, когда Шантеклер дважды протрубит в свой рог, совершатся кровавые преступления, и убийство тихими шагами пройдет по этому дому.
Едва он произнес эту ужасную клятву, как с красной черепичной крыши далекого домика раздалось пение петуха. Дух захохотал долгим, глухим и печальным хохотом и стал ждать. Час за часом ждал он, но по какой-то необъяснимой причине петух вторично уже не запел. Наконец около половины восьмого приход горничных заставил его отказаться от страшного бдения, и он вернулся в свою комнату, не переставая думать о своей тщетной надежде и неисполненном желании. Там, у себя, он стал перебирать несколько древних книг, которые очень любил, и вычитал, что каждый раз, когда бывала произнесена его клятва, всегда вторично пропевал петух.
– Да будет проклята эта гадкая птица, – пробормотал он, – дождусь ли дня, когда верным копьем проткну ей глотку и заставлю ее петь мне до смерти.
Потом он лег в удобный свинцовый гроб и оставался там до самого вечера.
На следующий день дух чувствовал себя очень слабым и утомленным. Ужасное нервное возбуждение последних четырех недель начинало сказываться. Его нервы были совершенно разбиты, и он вздрагивал при малейшем шорохе. В течение целых пяти дней он не выходил из своей комнаты и наконец решил бросить заботы о кровавом пятне на полу библиотеки. Если оно не нужно было семье Отисов, то ясно, что они были недостойны его. Это, очевидно, были люди, живущие в низшей материальной плоскости и совершенно не умеющие ценить символическое значение спиритических феноменов. Вопрос о сверхземных явлениях и о развитии астральных тел, конечно, был иного рода и, в сущности, не находился под его контролем. Но священной его обязанностью было являться раз в неделю в коридоре, издавать бессвязный вздох с большого круглого окна в первую и третью среду каждого месяца, и он не видел возможности отказаться от этих своих обязанностей. И хотя его жизнь была очень безнравственной, но, с другой стороны, он был крайне добросовестен во всех вопросах, связанных с потусторонним миром. Поэтому в ближайшие три субботы он, по обыкновению, прогуливался по коридору между полночью и тремя часами утра, принимая всевозможные меры, чтобы его не слышали и не видели. Он снимал сапоги, ступал как можно легче по изъеденным червями доскам пола, надевал широкий черный бархатный плащ и не забывал тщательно смазывать свои цепи «Смазкой Восходящего Солнца». Я должен признаться, что ему стоило многих усилий заставить себя прибегнуть к этой последней предохранительной мере. Все-таки однажды вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и выкрал оттуда бутылку. Сперва он чувствовал себя немного униженным, но потом вынужден был благоразумно сознаться, что изобретение это имело свои достоинства и до некоторой степени могло принести ему пользу. Но, несмотря на все предосторожности, его не оставляли в покое. Постоянно кто-то протягивал веревки поперек коридора, о которые он спотыкался в темноте; однажды же, когда он оделся для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских Лесов, он тяжко ушибся, поскользнувшись на масляном катке, который был устроен близнецами, начиная со входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Эта последняя обида так разозлила его, что он решился сделать последнюю попытку для восстановления своего достоинства и общественного положения и явиться дерзким юным школьникам в следующую ночь в своей знаменитой роли Отважного Руперта, или Герцога без головы.
Он не появлялся в этой роли более семидесяти лет, с тех самых пор, когда он так напугал хорошенькую леди Барбару Модиш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она тогда заявила, что ни за что в мире не согласится выйти замуж за человека, семья которого дозволяет такому ужасному призраку разгуливать в сумерках по террасе. Бедный Джек был вскоре убит на дуэли лордом Кентервильским на Вандсвортском лугу, а леди Барбара умерла от разбитого сердца в Тенбридж-Уэльсе меньше чем через год, так что в общем выступление духа имело большой успех. Но это был чрезвычайно трудный «грим», – если я могу воспользоваться таким театральным термином, говоря об одной из величайших тайн мира сверхъестественного, или, выражаясь научнее, мира «околоестественного», – и он потерял целых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые составляли часть костюма, были немного велики, и ему не удалось отыскать один из двух пистолетов, но, в общем, он был совершенно доволен и ровно в четверть второго выскользнул из обшивки и прокрался вниз по коридору. Добравшись до комнаты, которую занимали близнецы (кстати сказать, эта комната называлась Голубой спальней из-за цвета обоев и штор), он заметил, что дверь была немного открыта. Желая как можно эффектнее войти, он широко распахнул ее… и прямо на него свалился тяжелый кувшин с водой, промочив его насквозь и едва не задев левое плечо. В ту же минуту он услыхал сдержанные взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.
Нервное потрясение было так велико, что он убежал в свою комнату как можно скорее и на следующий день слег от сильной простуды. Хорошо еще, что он не захватил с собою своей головы, иначе последствия могли бы быть очень серьезными.
Он теперь бросил всякую надежду напугать когда-нибудь эту невоспитанную американскую семью и большею частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, с толстым красным шарфом вокруг шеи, из боязни сквозняков, и с маленьким арбалетом в руках на случай нападения близнецов. Окончательный удар был нанесен ему 19 сентября. Он спустился в большую переднюю, чувствуя, что там по крайней мере будет в совершенной безопасности, и стал развлекать себя язвительными насмешками над большими увеличенными фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, сменившими фамильные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где запятнанный могильной плесенью, нижняя челюсть была подвязана куском желтого полотна, а в руке он держал фонарик и заступ могильщика. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Пожирателя Трупов с Чертсейского Гумна, одно из его лучших воплощений. Оно так памятно всем Кентервилям, ибо именно оно послужило поводом для их ссор с соседом лордом Реффордом. Было уже около четверти третьего, и, насколько ему удалось заметить, никто не шевелился. Но когда он медленно пробирался к библиотеке, чтобы проверить, остались ли какие-нибудь следы от кровавого пятна, внезапно набросились на него из-за темного угла две фигуры, дико размахивавшие руками над головой, и крикнули ему на ухо: «Б-у-у!»
Охваченный вполне естественным, при таких условиях, паническим страхом, он бросился к лестнице, но там его ждал Вашингтон с большим садовым насосом; окруженный таким образом со всех сторон врагами и почти принужденный сдаться, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не топилась, и пробрался по трубам в свою комнату в ужасном виде, грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.
После этого его ночные похождения были прекращены. Близнецы поджидали его в засаде несколько раз и каждый вечер посыпали пол коридоров ореховой скорлупой, к величайшему неудовольствию родителей и прислуги, но все было напрасно. Стало совершенно очевидно, что дух счел себя настолько обиженным, что не хотел больше появляться. Поэтому мистер Отис снова принялся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала состязание на печение пирогов, поразившее все графство; мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкером и другими национальными американскими играми; Виргиния же каталась по аллеям на своем пони в сопровождении молодого герцога Чеширского, проводившего последнюю неделю своих каникул в Кентервильском замке. Все окончательно решили, что привидение куда-нибудь переселилось, и мистер Отис известил об этом письмом лорда Кентервиля, который в ответ выразил свою большую радость по этому поводу и поздравил почтенную супругу посла.
Но Отисы ошиблись, так как привидение все еще оставалось в доме, и хотя теперь оно стало почти инвалидом, все же не думало оставлять всех в покое, тем более когда узнало, что среди гостей был молодой герцог Чеширский, двоюродный дед которого, лорд Фрэнсис Стилтон, однажды поспорил на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с Кентервильским духом; на следующее утро его нашли на полу игорной комнаты в беспомощном состоянии, разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонного возраста, никогда больше не мог сказать ни слова, кроме «шесть и шесть». Эта история в свое время получила большое распространение, но из уважения, конечно, к чувствам обеих благородных семей были приняты все меры к тому, чтобы замять ее; подробное описание всех обстоятельств, связанных с этой историей, можно найти в третьем томе книги лорда Таттля «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Поэтому вполне естественно было желание духа доказать, что он не потерял своего влияния над Стилтонами, с которыми к тому же у него было отдаленное родство; его собственная кузина была замужем en secondes noces[3] за сэром де Бёлкли, от которого, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские. Ввиду этого он начал приготовления, чтобы предстать перед юным поклонником Виргинии в своем знаменитом воплощении Монаха-Вампира, или Бескровного Бенедиктинца, – нечто столь страшное, что, когда его однажды, в роковой вечер под Новый год, в 1764 г., увидела старая леди Стартап, она разразилась пронзительными криками и через три дня скончалась от апоплексического удара, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все свое состояние своему лондонскому аптекарю.
Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал духу покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно провел ночь под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне и видел во сне Виргинию.
Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, где она, перескакивая через плетень, так разорвала свою амазонку, что по возвращении домой решила подняться в свою комнату по черной лестнице, чтобы никто не видел. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуть-чуть приоткрыта, ей померещилось, что она кого-то увидала в комнате, и, думая, что это камеристка ее матери, иногда приходившая сюда со своим шитьем, она решила попросить ее заштопать платье. К ее неописуемому удивлению, оказалось, однако, что это был сам Кентервильский дух! Он сидел у окна и смотрел, как по воздуху носилось тусклое золото желтеющих деревьев и красные листья мчались в бешеной пляске по длинной аллее. Он оперся головою на руки, и весь облик его говорил о крайнем отчаянии. Таким одиноким, истрепанным казался он, что маленькая Виргиния, первая мысль которой была – убежать и запереться у себя в комнате, преисполнилась жалостью и решила попробовать утешить его. Так легки и неслышны были ее шаги, так глубока была его грусть, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.
– Мне вас очень жаль, – сказала она, – но братья мои завтра возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете вести себя прилично, никто вас больше обижать не станет.
– Глупо просить меня, чтобы я вел себя прилично, – ответил он, оглядывая в удивлении маленькую хорошенькую девочку, которая решилась с ним заговорить, – просто нелепо. Я должен греметь своими цепями, стонать в замочные скважины, разгуливать по ночам. О чем же вы говорите? В этом единственный смысл моего существования.
– Это вовсе не смысл существования, и вы знаете, что вы были очень злой человек. Миссис Эмни рассказывала нам в первый же день нашего приезда, что вы убили свою жену.
– Ну что ж, я и не отрицаю этого, – ответил дух сварливо, – но это чисто семейное дело, и оно никого не касается.
– Очень нехорошо убивать кого бы то ни было, – сказала Виргиния, которая иногда проявляла милую пуританскую строгость, унаследованную от какого-нибудь старого предка из английских переселенцев.
– О, я ненавижу дешевую строгость отвлеченной морали! Жена моя была очень некрасива, никогда не могла прилично накрахмалить мои брыжи и ничего не понимала в стряпне. Вот вам пример: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного годовалого самца, и как, вы думаете, она приказала подать его к столу? Впрочем, это неважно теперь, так как теперь все это кончилось, только, по-моему, было не очень мило со стороны ее братьев, что они заморили меня голодной смертью, хотя бы я и был убийца своей жены.
– Заморили вас голодом? О, господин дух, то есть я хотела сказать, сэр Симон, вы голодны? У меня в сумке есть бутерброд. Хотите?
– Нет, благодарю вас. Я теперь никогда ничего не ем; но все же вы очень любезны, и вообще вы гораздо милее всех остальных в вашей отвратительной, невоспитанной, пошлой, бесчестной семье.
– Молчите! – крикнула Виргиния, топнув ногой. – Вы сами невоспитанный, и отвратительный, и пошлый, а что касается бесчестности, то вы сами знаете, что взяли у меня из ящика краски для того, чтобы поддерживать это глупое кровавое пятно в библиотеке. Вначале вы взяли все красные краски, включая и киноварь, так что я больше не могла рисовать солнечные закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром, и наконец у меня ничего не осталось, кроме индиго и белил, и я вынуждена была ограничиваться одними сценами при лунном освещении, что всегда выходило очень тоскливо и не так-то легко нарисовать. Я ни разу не выдала вас, хотя мне было очень неприятно, и вообще вся эта история крайне нелепа; кто когда-либо слыхал о крови изумрудно-зеленого цвета?
– Но скажите, – сказал дух довольно покорно, – что же мне было делать? Очень трудно в наши дни доставать настоящую кровь, и так как ваш брат пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я не видел причины, почему бы мне не воспользоваться вашими красками. Что касается цвета, то это вопрос вкуса; у Кентервилей, например, кровь голубая, самая голубая во всей Англии; но я знаю, что вы, американцы, такого рода вещей не любите.
– Вы совершенный невежда, и лучшее, что вы можете сделать, это эмигрировать в Америку и пополнить немного свое образование. Отец мой рад будет выхлопотать вам бесплатный проезд, и хотя существует очень высокая пошлина на всякого рода духи, вас будут мало беспокоить в таможне, так как все чиновники – демократы. А раз вы попадете в Нью-Йорк, то вам обеспечен колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов, чтобы иметь деда, и несравненно дороже, чтобы иметь семейное привидение.
– Вряд ли мне понравится ваша Америка.
– Наверное, потому, что там нет никаких развалин и ничего архаического? – сказала Виргиния иронически.
– Никаких развалин – а ваш флот? Ничего архаического – а ваши обычаи?
– Прощайте; я пойду и попрошу папу, чтобы он выхлопотал близнецам еще на одну неделю каникулы.
– Не уходите, пожалуйста, мисс Виргиния! – воскликнул он. – Я так одинок и так несчастлив и, право, не знаю, что делать. Мне хочется уснуть, а я не могу.
– Ну, это уж совсем нелепо!.. Вам только надо лечь в постель и потушить свечу. Иногда бывает очень трудно не уснуть, особенно в церкви, но никогда не бывает трудно уснуть. Даже грудные младенцы умеют это делать, а они ведь не так уж умны.
– Я не спал триста лет, – сказал он печально, и красивые голубые глаза Виргинии широко раскрылись в удивлении, – триста лет я не спал, и я так утомлен.
