Восемь бусин на тонкой ниточке бесплатное чтение
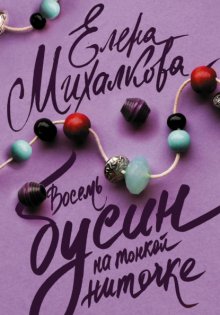
Глава 1
Гости собирались.
Машины одна за другой выезжали из леса, подскакивая и перекатываясь на ухабах проселочной дороги. Чаща неохотно выпускала их: то провезет по крылу корявым сучком, то подбросит на дорогу у самой опушки тяжелую отломившуюся ветку. А переберешься через ветку – разразится вслед издевательским смехом откуда-то с верхушек деревьев: мол, зря проехал, пожалеешь, лучше бы вернулся назад! Уо-хо-хо-хо!
Маша видела, как «лексус» впереди легко перевалил через поваленное деревце. Что ему то деревце! И не заметил, наверное. А она на своей машинке-малютке из тех, что в народе именуют пузотерками, цепляет брюхом на этой глухой лесной дороге каждую шишку.
Маша выбралась из «мазды» и, пыхтя, принялась оттаскивать корягу в сторону, провожая взглядом машину. «Интересно, кто это из родственников?» Он, конечно, видел, что она остановилась, но и не подумал помочь. Успенская вслух обругала водителя «лексуса» нехорошим словом, и лес снова отозвался глумливым уханьем.
Кто же здесь хохочет так страшно? Маша огляделась. Может быть, филин? Но филины, кажется, ухают только по ночам, а сейчас ясный день. Солнце купается в сочной июньской листве берез, поглаживает лохматые ветки елей, скользит, как белка, вверх-вниз по сосновым стволам… Кстати, о стволах… Что это мелькает за сосной?
Маша прищурилась, вглядываясь в глубину леса. Но кто бы ни прятался за деревом, больше он не показывался. А идти в чащу, чтобы удовлетворить свое любопытство, Маша не собиралась.
Она вернулась к машине, достала из багажника перчатки и направилась к упавшему деревцу, ощущая спиной чей-то взгляд из густых ветвей.
«Смотрите, смотрите. Думаете, я сбегу из-за какой-то преграды на дороге? Струшу? Нет. Во всяком случае, не сейчас».
Маша рывком подняла ствол, охнув от его тяжести, и оттащила в сторону. Бросила на траву, и под ногами гулко отозвалась земля. А через секунду на голову Маше откуда-то сверху свалился кусок сухой коры.
Она ожидала, что лес опять расхохочется над ней, но вокруг стояла настороженная тишина.
– Вот так, – удовлетворенно сказала Маша Успенская неизвестно кому. И стряхнула с макушки сосновую шелуху.
«Лексус» она нагнала на выезде из леса. Наголо бритый водитель, ругаясь, волочил ствол раза в четыре толще того, через который не смогла перебраться Маша.
Глядя, как он мучается, Успенская испытала приступ доброжелательности к этому лесу. В другое время она обязательно вышла бы, чтобы помочь, но только не после того, как ее оставили одну посреди дороги разбираться с упавшей сосенкой.
Освободив проезд, бритый сел в свой джип и рванул с места, не бросив на Машу и взгляда, словно ее не было. А Успенская, глядя вслед, уже второй раз подумала, что поездка может оказаться куда менее приятной, чем ей представлялось.
Марфа Степановна стояла на крыльце, словно капитан на мостике, приставив руку козырьком к глазам, и смотрела туда, где зеленое море луга билось о скалы синего леса. Ветер свирепствовал над травами, гнул их, трепал что было силы, но возле леса стихал, запутавшись в сетях еловых ветвей.
Розовые всплески цветов на самом краю поля напомнили Марфе Степановне, что она не засушила ни иван-чая, ни мяты. Олейникова порылась в карманах пестрого фартука и достала маленький блокнотик размером с половину ладони. Из-за уха вытащила замусоленный огрызок карандаша. И микроскопическими, очень четкими буковками вывела: мята, иван-чай, лист. смор. Марфа Степановна очень уважала листья смородины в заварке.
Она перевернула страничку, прищурилась, изучая те дела, до которых руки пока не дошли. Что здесь у нее?
Крыш. сар. Ага, крышу сарая работники не перекрыли. Ничего, успеется, там только один угол.
Шершни. Завелись в старой бане, что стоит у самого леса, и гудят там, не смолкая. Войти страшно. Можно, конечно, дождаться холодов и уж тогда извести эту напасть, но, неровен час, кто сунется в баню – покусают.
Вет-нар. На прошлой неделе был ветеринар, осмотрел Зорьку. Можно галочку ставить.
Убийство. А вот здесь галочку ставить рано. Ничего-то еще не сделано…
Старуха насупилась и взглянула на подъезжающие к дому машины. Первым идет огромный, как пароход, черный джип, переваливается на ухабах.
Не иначе, Борис. За ним, подскакивая, бодро чешет по полю красненькая машина, яркая, как мак. А вдалеке за ней осторожно выбирается из леса что-то серое, с крыльца и не разобрать, что…
Марфа Степановна сунула карандашик за ухо, закрыла блокнот. Пошуршала в фартуке, отыскала потайной кармашек, в который и спрятала записную книжку. Не дай бог, попадет в чужие руки.
Первый гость уже подъехал к воротам, и собачонка Тявка выкатилась звонким мячиком под колеса, оправдывая свою кличку.
– Пошла вон! – заорали из машины.
Марфа Степановна ухмыльнулась: точно, Борис.
Что ж, пора встречать гостей.
Она неторопливо спустилась с крыльца и пошла навстречу племяннику.
– Здравствуй, Боренька! Тявка, цыц!
От звучного окрика хозяйки собачонка немедленно убралась в сторону и легла, стуча хвостом по земле. Борис вышел из машины, да так и остался стоять на месте, обводя взглядом дом и хозяйство.
«Смотри, голубчик, смотри», – усмехнулась Марфа Степановна.
– Что, давно не был в наших краях? – вслух спросила она. – У меня здесь все малость поменялось за это время.
Борис, хоть и был ошеломлен увиденным, все же отметил эту «малость». Марфа прежде никогда так не говорила.
– Малость, да, – машинально ответил он и спохватился: сначала надо с тетушкой поздороваться, как подобает, а все остальное – потом.
Борис широко улыбнулся и раскрыл объятия:
– Ну, здравствуйте, Марфа Степановна! Рад вас видеть. Соскучился – до ужаса!
Олейникова стояла в нескольких шагах от него, но не спешила падать в объятия племянника. Пришлось Борису самому идти к ней через двор с разведенными руками. Неловко вышло. И паршивая собачонка залилась насмешливым лаем и гавкала до тех пор, пока старуха не зыркнула на нее исподлобья. Взгляда хватило: пустолайка поджала хвост и убралась в конуру.
А Марфа Степановна со спокойным достоинством подождала, пока племянник подойдет, и разрешила обнять себя и поцеловать в сухую загорелую щеку.
– Если соскучился, что ж раньше не приехал? – спросила она. И, не слушая оправданий Бориса («дела, тетушка, дела…»), распорядилась:
– Ступай пока в дом. Вторая комната над лестницей – твоя. Иди, иди. А я остальных гостей встречу.
Вытаскивая сумки из «лексуса», Борис вынужден был признать, что приняли его суховато. Переоценил он силу своего обаяния. Но старуха, старуха-то какова! Держится, как царица. «Сидела раньше у разбитого корыта, не важничала, а теперь поймала золотую рыбку – и все, другим человеком стала», – недобро подумал Борис.
Он вспомнил о подарке, который хотел вручить сразу, поразив тетушку широким жестом. Но, обернувшись, увидел, что во двор уже въезжает красная «мазда». Выходит, и с подарком он опоздал.
Еле сдержавшись, чтобы не выругаться в сторону приехавшей, Борис взбежал на крыльцо и скрылся в избе.
Маша почувствовала неладное еще тогда, когда доехала до развилки. Дорога раздваивалась. Слева километрах в двух виднелись черные домишки, торчащие в поле, словно гнилые зубы – кривые, покосившиеся. Деревенька Зотово, кажется. Ей туда точно не надо. Да и выглядела деревенька даже издалека до того сиро и убого, что Маша по доброй воле ни за что не отправилась бы по левому пути.
Правый рукав дороги взбирался на холм и обрывался возле забора. А за ним виднелся дом – один-единственный. Успенская даже вышла из машины, разглядывая его, и тихо присвистнула.
«Живу я в избушке, – сообщила Марфа Степановна по телефону. – Можно сказать, в хибаре. На са-а-а-мых выселках!»
Теперь Маша оценила ее юмор.
Двухэтажная бревенчатая «хибара» с мансардой возвышалась на холме, точно крепость. По всему периметру ее окружала высокая ограда. Широченные ворота гостеприимно распахнуты, а за ними видны сарай, баня, два больших пристроя – то ли коровник, то ли конюшня… Слева от дома густо зеленеет сад, шапки деревьев вздымаются над оградой.
До Маши донесся бодрый крик петуха. Присмотревшись, Успенская разглядела пестрых кур, бродящих по двору.
– Хибара, значит, – пробормотала Маша. – На выселках.
Она села в машину и повернула к холму. Чем ближе подъезжала Маша к дому, тем сильнее ошеломляли ее масштабы увиденного. И когда машина медленно вкатилась в ворота, Маша окончательно осознала, что Марфа Олейникова совсем не та женщина, которую она себе вообразила.
«Познакомишься со старушонкой, – напутствовал ее Воронцов, когда помогал собраться. – Привезешь гостинцев, пряничков – она и растает…»
Пряничков! С каждой секундой Успенская чувствовала себя все более неловко. У нее даже мелькнула трусливая мысль: из машины не выходить, быстро развернуться и уехать. Машина – последнее укрытие; откроешь дверь – и возможности удрать больше не будет.
Но хозяйка уже шла к ней – без улыбки, сосредоточенно вглядываясь сквозь пыльное лобовое стекло. Маша глубоко вдохнула и открыла дверь. Выпрямилась, напряженно глядя на новообретенную родственницу, начисто позабыв о том, что запланировала небольшую приветственную речь.
Вот, значит, как выглядит Марфа Степановна Олейникова. Да, это не подслеповатая маленькая бабушка, которую нафантазировала Маша.
Худая старуха с раскосыми темными глазами, загорелая до бронзового цвета, словно индеец. Лицо в морщинах – как шляпка гриба масленка, в которую врезались сухие травинки. Если осторожно отделить их от липкой пленки, под ними обнаружатся бороздки, повторяющие изломы стебелька. Такие же изрезали немолодое лицо.
На Олейниковой был длинный льняной сарафан и пестрый фартук, сшитый из разноцветных лоскутов. Цветастый платок на голове завязан, как бандана, сзади под затылком. Яркие глаза, ничуть не выцветшие от возраста, испытующе глядели на Машу. Из-под платка выбивались короткие пряди черных, как смоль, волос.
«Красит волосы», – подумала Маша, и эта приземленная мысль отчего-то немного успокоила ее.
Если красит, то ничто человеческое не чуждо этой суровой, страшноватой, похожей на индейца старухе.
Она осознала, что уже с минуту стоит молча, бесцеремонно рассматривая хозяйку.
– Здравствуйте, Марфа Степановна.
– Здравствуй-здравствуй… Так вот ты какая, Маша Успенская, – протянула Олейникова. Взгляд ее потеплел. – Внучка Зоина, сразу видно.
– Вы ее хорошо знали? – живо спросила Маша.
По губам Марфы скользнула улыбка, она кивнула:
– Хорошо знала. У меня две ее фотографии хранятся в городской квартире. Порода у вас с ней одна, точно под копирку делали: Зойка была тонкая-звонкая, как струна, а по волосам огонь пробежал. Лисья порода, как отец мой говаривал.
Старуха замолчала, задумчиво рассматривая Машу. И вдруг улыбнулась – ярко, озорно:
– А ведь хорошо, что ты приехала, девочка! Перезнакомишься сразу со всей родней. Иди-ка сюда, обниму тебя, душа-девица.
Олейникова заключила Машу в крепкие объятия. Потом отстранила, держа за плечи, пытливо заглянула в лицо:
– Устала? Вижу, что устала. Дорога до нас долгая, тяжелая. Ничего, скоро отдохнешь. Знаешь, как спится у меня! Забери свой скарб из машины да поставь ее вон туда, под навес. А потом приходи в избу, покажу тебе твою комнату.
Маша отогнала «мазду», вытащила из багажника спортивную сумку и остановилась, наблюдая за появлением гостей, только что подъехавших на сером «опеле».
Из машины вышли двое: очень полная женщина в сарафане и щуплый человечек в очках и детской панамке. Оба замерли перед избой Марфы Степановны, открыв рты. Из чего Маша сделала вывод, что не она одна оказалась неподготовленной к встрече с реальностью.
Это ее немного утешило.
– Господи, Лена! – ошеломленно сказал мужчина в панамке. – Ты это видишь?
Лена что-то ответила и нырнула в багажник почти целиком. Через пару секунд оттуда полетели пакеты, сумки, коробки в таком количестве, словно «опель» был безразмерным.
– Нет, ты посмотри, – настаивал мужчина. – Помнишь, что здесь было? Лена, это невероятно!
Маша негромко кашлянула, чтобы обозначить свое присутствие. Мужчина обернулся так резко, что панамка едва не свалилась с него.
– Ого! – удивился он. – Здрасьте. Вы кто?
Маша всегда представлялась по частям, как Джеймс Бонд. Знакомясь, говорила: «Меня зовут Маша. Маша Успенская». И замирала, ожидая реакции.
Если новый знакомый радостно восклицал: «О, как певицу Любовь Успенскую!», Маша мысленно причисляла его к духовно несостоявшимся людям. Если же понимающе кивал: «Ах, как писателя Эдуарда Успенского», то Маша понимала, что перед ней интеллигентный человек. Не в полном смысле интеллигентный, конечно… Но хотя бы не поклонник шансона.
«А в наши дни, – думала Маша, – все, кто не поклонники шансона, могут смело называться интеллигентными людьми».
И на этот раз она не изменила привычке.
– Маша. Маша Успенская, – отрекомендовалась она. – Я дальняя родственница Марфы Степановны. Внучка Зои.
– Гена, – извиняющимся тоном сказал мужчина и так осторожно взялся за протянутую руку Маши, как будто боялся обжечься. – Коровкин. Тоже дальний родственник. Вы, случайно, не родственница писателю Успенскому?
Маша сказала, что не родственница, и мысленно поставила напротив фамилии Коровкина галочку в графе «интеллигентный человек».
Из-за приоткрытого багажника высунулась женщина в сарафане.
– А это Лена, моя жена, – с гордостью представил Коровкин.
Маша восхищенно уставилась на нее.
Полнота Лены не была сродни мягкотелости медузы или пышности булочки. В ней чувствовалось что-то могучее, навевавшее мысли о пахоте или сенокосе. Маша легко представила эту женщину, идущую по полю с плугом в крепких сильных руках.
– Привет, – поздоровалась Лена и улыбнулась.
Улыбка преобразила ее, придала мягкости и милоты. Из богини пахоты она превратилась в румяную хозяйку пекарни, что по утрам раздает соседским детишкам свежеиспеченные рогалики. «Да ведь она красавица, – подумала Маша, любуясь полнокровным, свежим лицом. – Только совсем не вписывается в нынешние каноны красоты».
– Кто-то уже приехал? – спросила Лена, кивая на черный джип.
– Да… Но я не знаю, кто именно. Я ведь пока ни с кем не знакома, – призналась Маша. – Только видела, что водитель высокий и обрит наголо.
– Борис, – хором сказали Лена с Геной, переглянулись и рассмеялись.
– Ярошкевич, – добавил Коровкин. – Бизнесмен. Примчался первым, значит…
И снова переглянулся с женой. Маша переводила взгляд с одного на другого. Определенно, одна и та же мысль мелькнула у обоих, и они поделились ею без слов. Но какая?
Повисла неловкая пауза, и Успенская поспешила нарушить ее.
– Невероятный дом, – сказала она искренне. – Такой большой… Я ожидала увидеть избушку и десять соток огорода, а увидела целое поместье. Хорошо, пусть не поместье… Но все же хозяйство меня поразило.
Лена наклонилась к ней и доверительно шепнула:
– Нас поразило не меньше. Мы ведь были здесь тогда, десять лет назад.
– На прошлом дне рождения Марфы, – кивнул Коровкин.
– Ты хотел сказать – юбилее.
– Да-да, юбилее. Троим из нас пришлось спать в палатках, потому что в доме все не поместились. У Марфы была старенькая газовая плита, но готовила она в основном в печи. Боялась, что газ рванет.
– А помнишь, как разрушился сарай? – спросила Лена.
– Развалился практически на наших глазах, – подтвердил Коровкин. – Крыша вдруг прогнулась одним махом, точно на нее сел великан. И провалилась в сарай.
– Только доски торчали наружу.
– Задняя стена сложилась, как спичечная. Треск стоял ужасный!
– А потом завопила Вера Львовна.
Супруги посмотрели друг на друга и рассмеялись.
– Вы, наверное, не знаете, – поспешила объяснить Лена. – Вера Львовна – покойная жена Иннокентия, двоюродного брата Гены. О покойниках плохо не говорят, но Вера была немного…
– Крикливой, – пришел на помощь Геннадий.
– Да, именно крикливой. К тому же ей страшно не понравилось у Марфы Степановны, и Вера постоянно шпыняла мужа, требовала уехать как можно скорее. Ночью ее кусали то ли клопы, то ли комары, а утром она пошла прогуляться по огороду и попала ногой в кротовью нору. После завтрака все отправились на речку, и там Вера порезалась осокой.
– Крику было – жуть! – вставил Геннадий.
– В конце концов, Вера заявила, что единственное безопасное место в этом деревенском клоповнике – это туалет. А туалет у Марфы действительно был сделан на совесть. Конечно, обычная выгребная яма, ничего особенного, но Марфа поливала ее каким-то специальным составом, отбивающим запах, и к тому же он был довольно теплый…
– Потому что находился в сарае, – закончил Гена.
Маша вскинула брови.
– Вы хотите сказать… – осторожно начала она, – что сарай обрушился…
– …именно тогда, когда в туалете сидела Вера Львовна, – подтвердила Лена, сдерживая смех. – Причем в полной уверенности, что это единственное безопасное место в доме Марфы.
Геннадий согласно кивнул.
– И она вопила, как пожарная сирена. Решила, что случилось землетрясение, и стульчак вместе с ней вот-вот провалится в тартарары. Досталось, как обычно, бедному Иннокентию, хотя уж он-то ни в чем не был виноват. Просто домишко состарился, вот и начал понемногу осыпаться. Да, здесь была бедность и разруха, не то что сейчас.
Гена покачал головой, снял очки и сразу стал беззащитным, как крот. Маленькие серые глазки подслеповато щурились. Он повел влево-вправо длинным носом, точно принюхиваясь. В детской панамке, нахлобученной по самые брови, Геннадий выглядел так уморительно, что Маша не смогла сдержать улыбки.
– Коровкин, ты чучело, – покровительственно сказала Лена. – На кого ты похож? Над тобой люди смеются.
– Пускай смеются, – невозмутимо возразил ее муж. – Это единственный головной убор, который закрывает лицо от солнца.
– Чучело-чучело, – повторила Лена, посмеиваясь.
Но за насмешкой Маша уловила в ее голосе нежность.
– Не обращайте на нас внимания, – сказал Коровкин. – Ей бы только критиковать меня, героя. Между прочим, я нашел сюда дорогу без навигатора! Хотя последний раз был в этом богом забытом месте десять лет назад! Ой, посмотрите-ка, кто к нам пришел.
Пестрая курица, осмелев, подошла поближе. Черный круглый глаз скосила на Машу, подождала – не нападут ли эти двуногие, не схватят ли за перо в хвосте – и начала поклевывать что-то в траве. За ней потянулись остальные, и вскоре вокруг Маши и Коровкиных ходили, удовлетворенно кудахча, не меньше десятка пеструшек.
– Я, наверное, пойду, – извиняющимся тоном сказала Маша. – Меня Марфа ждет.
Геннадий привстал на цыпочки и посмотрел за Машино плечо.
– Кто-то едет, – сообщил он. – Даже без очков вижу.
Женщины обернулись. По дороге с медлительностью навозного жука тащился синий автомобиль. Хромированные детали сверкали на солнце.
– «Мини купер», – определила Лена. – Ген, кто у нас на «мини купере» ездит?
– Кто угодно может. Кроме Иннокентия.
«Почему кроме Иннокентия?» – хотела спросить Маша, но сдержалась. Она едва познакомилась с этими милыми, хоть и странноватыми людьми. Время вопросов еще не пришло.
– Полагаю, это Ева, – задумчиво сказал Геннадий, снова снимая очки и принимаясь вертеть их за дужку. – Мини-купер – в ее стиле.
Теперь Маша не смогла удержаться от вопроса:
– Простите, кто такая Ева?
– Это жена Марка Освальда, – охотно ответил Коровкин. – Он мой двоюродный брат по линии деда Степана. Наши матери, Вера и Наталья, родные сестры.
Лена заметила недоумение на лице Маши и истолковала его по-своему:
– Поначалу вам очень непросто будет разобраться во всех хитросплетениях наших родственных отношений. Но со временем вы привыкнете, и эти семейные связи перестанут быть для вас тайной.
Но Машу озадачило вовсе не это. Она обернулась к Гене:
– Так у Марка Освальда жена! И ребенок?
– И ребенок, – подтвердил Геннадий, удивленно посмотрев на нее. – Мальчик, ему уже лет тринадцать.
– Он тоже будет здесь?
Геннадий помрачнел, с лица Лены сползла улыбка.
– Вряд ли, – сдержанно сказал Коровкин. – Его отец погиб десять лет назад, и с этим домом у Евы связаны…
Он взглянула за Машино плечо и оборвал фразу.
Маша обернулась. На крыльце стояла Марфа Степановна и укоризненно качала головой.
– Стоят, языки чешут! Нет бы поздороваться со старухой, в дом пройти!
Пока Лена и Геннадий пылко обнимались с Олейниковой, Успенская стояла рядом, ощущая себя бедной родственницей. Сумку она повесила на плечо, но та все время норовила свалиться. Разговаривая с Коровкиными, Маша почувствовала себя легко, но пришла Марфа и сразу расставила все по своим местам: вот по-настоящему родные люди, а Успенская – неизвестно кто. Внучка Зои. Где, спрашивается, та внучка была прежде? О самой Зое и говорить не приходится…
Наконец Марфа обратила внимание и на Машу:
– Пойдем, провожу тебя в твою светелку. А вы тащите в дом свои сумки, скоро и до вас дойдет очередь.
Кивнув Гене и его жене, Успенская последовала за старухой.
– Туфли сымай, – приказала Марфа, когда они оказались в прихожей. – У меня половики, по ним только босиком или в тапочках.
Маше достались огромные тапочки с овчиной. Казалось, они вот-вот заблеют и сами понесут Машу из комнаты в комнату.
Марфа толкнула дверь, и Успенская шагнула внутрь. С губ ее снова сорвался восхищенный свист, второй раз за этот день.
– Не свисти! – старуха больно ткнула ее пальцем в спину. – Денег не будет.
Но Маша не могла не свистеть. Они стояли в большой, просторной комнате, залитой солнечным светом. Посреди комнаты широкий дубовый стол, вокруг стулья, кресло-качалка, покрытое пледом… Пахло деревом – можжевельником и сосной. В дальнем конце комнаты виднелся камин, пол перед которым устилали белые искусственные шкуры.
В Москве Маша жила в однокомнатной хрущевке, вылупившейся из комнаты в коммуналке в результате многолетней выплаты оброка, лицемерно именуемого ипотекой. Оброк начинала платить еще мать, потом эстафету перехватила Маша.
Свою квартирку Успенская очень любила. Она любила бы и коробку, если бы ей пришлось жить в коробке. Маша обладала счастливым даром обживать и обустраивать пространство вокруг себя таким образом, что оно расцветало и чудесно преображалось.
Но здесь, в этом доме она почувствовала себя так, будто ее долгое время держали где-то скомканной, а потом достали и развернули.
Камин со шкурами окончательно добил Машу.
– Это для баловства, – кивнула Марфа на камин, словно прочитав ее мысли. – Так-то печка русская есть, она лучше любого камина. А в сильные холода, конечно, газ. Такую махину без газа никак не протопить.
Старуха одобрительно похлопала рукой по стене, как будто дом был живым существом. Словно хозяин, гордящийся породистым конем, которого он кормит лучшим сеном.
– Пойдем наверх, там у меня комнаты для гостей.
Хозяйка привычно подобрала подол и неторопливо начала подниматься вверх по лестнице.
– Обедать будем здесь, – она указала на стол. – Справа от камина дверь на кухню ведет. За кухней есть кладовочка, там у меня и соленья, и варенья, и грибочки маринованные и соленые. Прошлый год был богатым на грузди, двадцать банок черных я закатала. Муж есть у тебя?
Переход от черных груздей к мужу был таким неожиданным, что Маша оступилась и чуть не свалилась с лестницы.
– Нет, я не замужем.
– А была?
– Была.
– А детишки?
– Детишек нет, – суховато ответила Маша. – Вы меня уже спрашивали, Марфа Степановна. По телефону.
Старуха резко обернулась, сверкнула на нее черным раскосым глазом.
– Разве спрашивала? – удивленно протянула она. – Когда же это я успела? Быть такого не может, и не уговаривай, не поверю. Вот с Зоей я о тебе беседовала, было дело. Мало ли, думаю, вдруг кто чужой решил ко мне в дом забраться. Спрашиваю Зою – а она в ответ: э-э, милая, какая же она нам чужая, если в ней моя кровь течет!
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – ухнуло в голове у Маши. Она остановилась на середине лестницы.
А Марфа продолжала:
– Зое верить можно. Она бы кого попало не разрешила в дом приводить. Считай, Зоя тебе рекомендацию дала.
– Кто такая Зоя, Марфа Степановна? – спросил сверху низкий мужской голос.
Маша подняла голову. Наверху стоял тот самый тип с бритой головой, который не помог ей в лесу. Он непринужденно облокотился на перила.
Маша всегда обращала внимание на носы. У бритого нос был короткий, словно обрубленный, с мясистыми крыльями. Он портил красивое самодовольное лицо. Но зато череп был идеальной формы, а отросшая на щеках и подбородке щетина с проседью Борису очень шла.
Успенская не могла не признать, что перед ней очень привлекательный мужчина. Подруга Олеся называла таких «высокоранговый самец». На губах его играла улыбка, и выглядел он как довольный сытый кот, но взгляд оставался колючим.
На Успенскую Борис не смотрел, глаза его буравили Олейникову.
– Зоя, сестра Николая и Степана, – недоуменно отозвалась Марфа. – Ты что, Боря?
– Та, которая померла двадцать лет назад? – уточнил бритый.
Повисла неловкая пауза. Маша отвела взгляд от сытого лица Бориса и стала смотреть на широкую, как лопата, спину Марфы.
Но старуха не смутилась ни на секунду.
– Та самая, – невозмутимо кивнула она. – Только не двадцать, а все тридцать. Кстати, познакомься с Марией. Это наша новая родственница.
Маша высунулась из-за спины Марфы и сказала «здравствуйте».
– Очень приятно. – Борис мазнул по ней холодным взглядом. – А откуда взялась новая родственница? Нам, кажется, и старых хватало…
– Вам хватало, а нам нет, – отрезала старуха.
– Я только недавно узнала о том, что у бабушки были братья, – вмешалась Маша. – Если вам будет интересно, я расскажу, при каких обстоятельствах.
Лицо Бориса недвусмысленно выразило, что интересно ему не будет.
– Вы появились удивительно вовремя, – бросил он. – Лучше нельзя было и подгадать.
– Борька, не язви! – в голосе Марфы прорезались властные нотки. – Вспомни, что в Библии говорится о злоязычных. А ты, Мария, пойдем, не стой столбом.
Лицо Бориса приняло странное выражение, но он смолчал. Молча следил, как Олейникова с Машей поднялись по лестнице, прошли мимо него, и только чуть повернул голову им вслед.
Пройдя мимо двух закрытых дверей, старуха остановилась у третьей и начала шарить в карманах фартука.
– Куда же я его засунула… – бормотала она. – Был ведь ключ, только сегодня видела его! Ах ты старость, старость…
Повинуясь неясному чувству, Маша толкнула дверь. Та беззвучно приоткрылась.
– Точно! – просияла Марфа. – На ключ-то я ее не запирала. Это ты молодец, девонька, это ты хорошо сообразила. Заходи, заходи! Вот твоя светелка.
«И правда светелка», – подумала Маша, оглядывая маленькую комнатку с нежно-голубыми обоями.
Здесь были только широкая кровать с белым покрывалом, шкаф и маленький столик у окна. Из окна открывался вид на поле и край леса.
– Здорово! – искренне сказала Маша. – Мне очень нравится, Марфа Степановна.
– Скромненько, конечно, – проворчала старуха. – Но уж чем богаты. Отдыхай, племянница!
Она похлопала Машу по плечу и вышла. Показалось Успенской, или в последних словах старухи проскользнула ирония?
«Марфа сама тебя пригласила, – напомнила себе Маша, – ты не напрашивалась».
Но до чего же все не совпадает с ее ожиданиями!
И непонятно, как относиться к увиденному и услышанному. Особенно к упоминанию Марфой разговора с покойной Машиной бабушкой.
«Милая моя, ей восемьдесят лет! Посмотрим, с кем ты сама станешь беседовать, когда доживешь до такого почтенного возраста».
Но что-то не складывалось. Марфа Степановна показалась Маше на редкость здравомыслящей старухой, мало склонной к встречам с духами умерших. Впрочем, Маша отлично понимала, что впечатление могло быть обманчиво.
Но за одно впечатление она могла ручаться: Борис Ярошкевич – неприятный человек, который по необъяснимой причине плохо отнесся к самой Маше. Хоть это и странно. И что означают его слова о ее своевременном появлении? Неужели не постеснялся при самой Олейниковой намекнуть на ее преклонный возраст и возможное наследство?
В памяти Маши встал рисунок, который она набросала в самолете. Борис Ярошкевич – внук Николая.
Вспомнилось предупреждение Лены Коровкиной. «Поначалу вам непросто будет разобраться в хитросплетениях родственных отношений»…
Хитросплетения? Маша покачала головой: никаких особенных хитросплетений нет, зря Лена пугала ее. Ей удалось разобраться почти сразу.
Маша задвинула дверной засов и присела на мягкую кровать, пахнувшую отутюженной наволочкой и еле слышной отдушкой для белья… Заманчивое приглашение ко сну после долгой дороги. Ехать пришлось почти семь часов, останавливаясь лишь изредка, чтобы свериться с картой и размять ноги. Теперь, после проделанного пути, после встречи, которую Маша ждала и побаивалась, на нее навалилась сонливость. Все звуки стали убаюкивающими, даже квохтанье куриц во дворе, даже бравое «ку-ка-ре-ку» горлопана-петуха.
Маша стянула футболку, сняла джинсы и повалилась на кровать, раскинув руки в стороны. Господи, как хорошо! Как тихо и спокойно! Беленый потолок над головой кажется высоким, будто небо. И небо это поднимается, поднимается… Вот поплыли по нему облака, взбитые в пену, гонимые зеленым майским ветром, тем, что приносит счастье и мечты о вечном лете…
В дверь громко постучали. Маша вскочила, протирая глаза. Что это? Неужели она успела уснуть? Майский ветер… облака… Какой май, когда за окном середина июня!
– Сейчас-сейчас, – крикнула она, скача по комнате в одной штанине. Вторая штанина извивалась и уворачивалась от ее ноги. Наконец Маша усмирила джинсы, натянула футболку и открыла дверь.
За дверью стоял гладкий, лоснящийся полосатый кот и выжидательно смотрел на нее желтыми, как одуванчики, глазами.
– Здрасьте, – брякнула Маша.
Какую-то долю секунды ей казалось, что кот вот-вот ответит. Но полосатый помолчал и неспешно двинулся к лестнице. Кончик короткого толстого хвоста подергивался. Перед лестницей кот остановился, обернулся на Машу.
– Кис-кис-кис, – неуверенно сказала она.
«Какой я тебе кис-кис-кис?!» В круглых желтых глазищах отразилось презрение, кот мявкнул и пошел вниз, осторожно ставя лапы на ступеньки.
Маша посмотрела влево, вправо – никого. Что за шутки? Ведь кто-то же стучал!
Она закрыла дверь и вернулась на кровать. Но сон больше не шел. Снизу доносились оживленные голоса. Наверное, кто-то еще прибыл, пока она дремала. Может быть, тот самый Иннокентий?
Маше почудилось, что она не в частном доме, а в номере отеля, где все постояльцы знакомы между собой, приезжают из года в год в одно и то же место, а хозяин знает все их вкусы и привычки. Но она не из этих постояльцев. Она из тех, кого они обсуждают друг с другом, посмеиваясь и отпуская колкости.
«Комплекс чужака» – вот как называется это чувство. Успенская старательно изживала его, но к двадцати восьми годам не добилась особенных успехов.
В детстве они с матерью часто переезжали, и Маша меняла классы каждый год, а иногда и чаще. Самым тяжелым всегда оказывалось расставание с музыкальной школой. Здесь существовал свой мир, казавшийся неизменным, а Маше приходилось насильно вычеркивать себя из него. Конечно, на новом месте она находила новую «музыкалку», но чувство потери уходило далеко не сразу.
Когда, уже став взрослой, Маша попала в оркестр, она не сразу смогла поверить, что это – окончательно. Что ее работа не исчезнет, что Машу не выдернут с места, не перебросят в другой город. Она научилась с гордостью отвечать на вопросы о ее работе: «Я – флейтистка в Оперном театре. Да, в том самом».
Казалось бы, в детстве за много лет можно было привыкнуть к непременным ритуалам обживания новых мест. Но у нее всегда болезненно екало под ложечкой, когда учительница объявляла: «Ребята, у нас новая ученица. Ее зовут Маша Успенская!» Маша вся сжималась, ожидая этой фразы. Как только учительница произнесет ее, десятки пар глаз вопьются в новенькую. В глазах любопытство, неприязнь, равнодушие… А вслед за этим нужно пережить несколько тяжелых первых дней, когда ты для всех чужая, когда ты не успела слиться с местностью настолько, чтобы на тебя не обращали внимания. Это время – как болезнь! Маша в самом деле чувствовала себя плохо в эти дни, у нее болела голова и поднималась температура.
Мама говорила, что это все из-за чрезмерной зависимости от чужого мнения. «Будь сама по себе! – призывала она. – Не обращай ни на кого внимания!»
Матери легко удавалось быть самой по себе, она всегда была одиночкой, и даже в путешествия предпочитала ездить одна, чтобы полнее впитывать впечатления.
А Маша – совсем другая. «Как же можно не обращать ни на кого внимания?» – удивлялась она.
Ей остро хотелось дружить с одноклассниками, чтобы те встречали улыбками и спрашивали: «Машка, пойдешь с нами сегодня в кино?»
И до сих пор ей обязательно нужно делиться увиденным, чтобы кто-то толкал под локоть и восхищенно кричал: «Смотри! Смотри скорее!» А она бы смотрела, и ахала, и тоже восхищалась, и радовалась, что через год можно будет сказать тому, кто сейчас стоит рядом: «А помнишь, тогда, в Стамбуле…»
С одноклассниками так и получалось: за короткое время Маша становилась своей. Ее записная книжка за годы их переездов разбухла от адресов и телефонов. Мать сбрасывала все старые знакомства вместе со сменой места жительства, словно стряхивала старую шкуру. Она никогда потом не общалась с теми людьми, с которыми дружила до переезда, забывала о них, словно их никогда и не было.
Маша копила все, имевшее отношение к прошлому: вещи, фотографии, людей. Помнила имена, биографии, дни рождения, не прикладывая к этому усилий. Мать смеялась: «Ты – всемирная сиротка, везде ищешь родных». Маша не могла скрывать от себя, что в жестоких словах есть большая доля правды.
Когда подруга предложила составить Машино генеалогическое древо, Успенская сразу отказалась.
– Олеся, у нас никого нет, – грустно сказала она. – И я не хочу получать этому известному факту документальное подтверждение. Мы с мамой всю жизнь переезжали с места на место, ее замкнутый характер не выдерживал ни один из тех мужчин, которых я звала дядей Колей, дядей Сережей, дядей Вовой… Отца я не знаю. Бабушка Зоя умерла до моего рождения. Не стоит ворошить прошлое. Там ничего нет, кроме ожидаемого разочарования.
Но Олеся все-таки уговорила ее. В то время она страстно увлеклась «семейными раскопками» и хотела опробовать на Маше свои новые умения.
Результат поразил обеих.
Глава 2
– Олеся, этого не может быть! Ты где-то допустила ошибку!
Маша присела на подоконник, потрясенно перебирая бумаги.
– Никакой ошибки! – запротестовала Олеся. – Машка, все оказалось даже проще, чем я думала. Поверь мне, эти документы не врут. У тебя куча дальних родственников! Многие из них живут в Москве. Представь, ты даже могла с кем-нибудь из них случайно встречаться!
Случайно встречаться… Почему бы и нет? Вчера в парке она беседовала с седой старушкой, которая по возрасту вполне могла бы быть ее…
– Олеся, кто она мне? – спросила Маша, изучая свое фамильное древо. – Вот эта Марфа Олейникова?
Подруга задумалась.
– Могу сказать одно: она племянница твоей бабушки. Наверное, тебе приходится какой-нибудь двоюродной или троюродной теткой.
Выходит, та старушка в парке могла бы оказаться ее двоюродной теткой Марфой Степановной. Имя-то какое… основательное.
– Мама не могла не знать, – вслух подумала Маша. – У нее даже есть альбом с фотографиями, я сейчас вспомнила. Фотографии середины двадцатого века… Снимки не подписаны, и мама всегда говорила, что эти люди не имеют к нам отношения. Думаю, хитрила: конечно, она вряд ли их когда-нибудь видела, но отлично понимала, что некоторые из них – наши родственники. Но почему мне ничего не рассказывала?!
Ответ на этот вопрос Маша получила неделей позже, когда приехала в Эстонию.
Анна Успенская теперь осела в Таллине. Ей полюбился этот город, и она могла целыми днями бродить с этюдником по его улочкам. Квартиру мать превратила в мастерскую, как делала всегда, и десятки видов Таллина смотрели на Машу со стен.
– Картины продаются? – спросила Маша.
– Более чем успешно, – кивнула мать. – Думаю, ближайшие пару лет я точно не соберусь переезжать. К тому же мне по душе здешний климат.
Маша прошлась мимо картин, отмечая, что у матери появилась новая, свободная манера письма. Неудивительно, что ее работы пользуются спросом. Наверняка их покупают туристы, желающие увезти с собой пойманные на холсте впечатления о старом городе.
Маша обернулась. Мать наблюдала за ней.
– Почему ты не рассказывала мне о том, что у нас есть родственники? – прямо спросила Маша. – У бабушки было два брата, а у них – куча детей. Но я ничего об этом не слышала. Почему?
– Вопрос не в этом, – возразила Анна. – Почему тебя это так задело – вот в чем загвоздка. Подумаешь, родственники! Уверяю тебя, очень дальние.
Ответ матери подтвердил то, о чем Маша и так догадывалась: Анна обо всем знала. Задавая свой вопрос, Успенская блефовала и была готова увидеть недоумение на лице матери. Но та не удивилась.
Маша отодвинула лист ватмана и присела на краешек стола. Мать с любопытством смотрела на нее.
– Как бы тебе объяснить, – задумчиво проговорила Маша. – Мы с тобой носились по всему свету, как перекати-поле, я мечтала зацепиться за что-нибудь или за кого-нибудь. Мне казалось, что где-то живет человек, который заставит тебя остановиться. Например, властный дед. Или авторитетный дядюшка. Я понимала, что все это сказки, мечты, но все равно хотела в них верить. И вдруг выясняется, что такие люди действительно были! Мои мечты могли стать реальностью…
– Не могли, – оборвала мать. – Не говори глупостей. Я не рассказывала тебе не потому, что это страшная семейная тайна, а потому, что эти люди меня не интересовали и были крайне далеки от нашей жизни. Твоя бабушка встречалась с некоторыми из них и брала меня с собой, но мне это быстро надоело. Ты ведь знаешь, я не очень-то нуждаюсь в людях.
Маша обвела взглядом десятки картин, ни на одной из которых не было человеческого лица – ни в окнах, ни на улицах, ни в парках нарисованного города.
– Но я нуждаюсь! – настойчиво сказала она. – Мне это важно!
Анна вздохнула.
– Хорошо, я расскажу. А ты сама решай, нужны тебе эти родственники или нет.
…………………………………………………
В колхозе «Знаменский» среди односельчан ходили слухи о том, что в семье Олейниковых один ребенок не от Михаила. Иначе как объяснить, что Михаил с женой Татьяной коренастые и черные, как татары, и двое их сыновей, пятнадцатилетний Степан и четырнадцатилетний Николай, такие же: крепкие, чуть раскосые, черноглазые и свирепые. А младшая дочь Татьяны тонкая, гибкая, как плеть, высокая и рыжая. Даже брови светло-рыжие, как два пшеничных колоска, перестоявших на солнце.
Татьяна назвала девчонку на городской манер – Зоей, чем только усугубила подозрения соседей. Значит, точно связалась с кем-то из приезжих.
Девчушка росла хоть и забавная, но некрасивая: глаза огромные, карие, и тоже с рыжиной, губы тонкие, щеки впалые. А ручонки такие, что хочется схватить ребенка и откармливать, откармливать, пока не поправится. Виданное ли дело: такая худоба у здорового дитяти! Малыш должен быть крепкий, как поросенок. Чтобы щечки румяные, ручки и ножки в перетяжках и животик мешочком.
Правда, все признавали, что дочь Татьяны – на редкость смышленая девочка. Татьяна с ней возилась, с рук не спускала, нянчилась так, что над ней смеялись: нашла себе куклу на старости лет. Раздобыла в библиотеке старую книжку со сказками и в любую свободную минутку читала Зойке, качая девчушку на коленях.
В четыре года Зоя начала читать сама. Изумляя окружающих, четко произносила слова, даже самые сложные.
И это больше, чем что-либо другое, убедило Михаила в том, что ребенок не его. Чужое семя, чужое! Сыновья, Степка с Колькой, едва выучились грамоте. До сих пор губами шевелят, когда читают про себя, и лица у них при этом такие напряженные, будто мешки с картошкой ворочают. А Зойка шпарит с любого места, хоть вниз ногами написано, хоть вверх, хоть вбок. Сунули ей газету – прочла целую статью без единой запинки. Михаил там половины слов понять не смог, а эта рыжая в четыре года – прочла, не оступилась ни на одной строчке!
Вместо того чтобы гордиться дочерью, Мишка Олейников впал в ярость и избил жену. Раньше пальцем ее не трогал, а теперь рассвирепел. Зойка, случайно заглянув в дом, в ужасе закричала, рванулась к матери, и Михаил отшвырнул ее с руганью. Девчонка как ударилась об стену, так обмякла и упала.
Но Мишке было не до нее. Он бил, бил, бил Татьяну, ненавидя ее за то, что стал посмешищем для всего села. В ослеплении яростью он начисто забыл, что такой же рыжей была бабка его жены, и даже веснушки у нее сохранились до старости.
Очнулся лишь тогда, когда Степан, вбежав, стал оттаскивать его от неподвижного окровавленного тела. К брату на помощь подоспел Колька. Вдвоем им удалось угомонить отца. Тяжело дыша, Михаил отошел в сторону, сел на скамью и уткнул лицо в ладони.
– Ба-а-ать, – позвал Степка, пытавшийся привести в чувство Татьяну. – Батя!
В голосе его Михаил услышал страх. Страх был настолько несвойственным чувством для его старшего сына, что Михаил поднял голову.
– Бать, она не дышит, – прохрипел Степан, не отрывая взгляда от тела матери.
До суда дело не дошло. Михаил повесился неделей раньше, не выдержав приходов жены. Восемь дней Татьяна появлялась под утро, около четырех, становилась всегда в одном и том же углу камеры и умоляюще выталкивала вперед свою бабку. У бабки почему-то было личико четырехлетнего ребенка, и с этого личика с тоской смотрели на Михаила огромные карие, с рыжиной, глаза.
Михаил выл, царапал стены, до крови сдирая ногти, пытаясь уйти от этих двоих.
– Ох, что ж ты, Мишенька, – плакала за его спиной старуха. – Зачем же ты так, Мишенька? Отдали тебе кровиночку нашу, Танюшу, а ты ее убил.
Жена стояла молча в углу, и Михаил знал: взглянет хоть раз на ее лицо – умрет на месте.
Но Татьяна на девятую ночь подошла сама. Подошла, заглянула в глаза мужу, ни слова не говоря. Мишка прирос к месту, даже кричать не мог.
Утром надзиратель, обходя камеры, нашел Олейникова, удавившегося собственными штанами.
Степан и Николай не любили младшую сестру. С ними молчалива, слова лишнего не скажет, а чуть выскочит из дома – поет. Злились оба, особенно Степан. Как-то раз он вышел во двор, постоял на крыльце и спросил с кривой ухмылкой:
– Что, радуешься, что из-за тебя батя с мамкой померли?
Зоина песня оборвалась на полуслове. Степан сплюнул, глядя на сестру:
– Тьфу, лисья порода проклятая!
В селе знали, что дом Олейниковых держится на Зое. Она готовила, мыла, стирала, штопала, ходила в лес за грибами-ягодами и даже рыбачила. Знала места, где хороший клев, и сама коптила во дворе рыбу.
– Братья Зойку держат в черном теле, – шептались соседи. – Тощая, страшно смотреть.
– Она у них прислуга за все. Говорят, Степан поколотил ее на днях.
Здесь соседи ошибались. Степан и в самом деле собирался поколотить четырнадцатилетнюю Зою. Но стоило ему занести тяжелую руку, как Зоя сама шагнула брату навстречу.
– Только тронь… – сорвалось с побелевших губ.
Несколько секунд они стояли друг напротив друга: нескладная девчонка-подросток и коренастый мрачный Степан. Отступил брат: выругался и ушел. Но возненавидел Зойку еще сильнее за свое поражение.
Степан женился в восемнадцать, но детей долго не было. Только через семь лет родилась первая дочка, Марфа, и с тех пор каждый год толстая бессловесная Надежда приносила ему по ребенку. Оля, Вера, Наташа, Людмила… Степан смирился с тем, что парня ему не видать. Немного утешало то, что и жена брата родила Николаю всего двух девчонок.
Женившись, братья остались в родительском доме. Теперь Зое приходилось еще и нянчить их детей.
Марфа родилась, когда Зойке было всего десять, и с тех пор жизнь девочки превратилась в кромешный ад. За все, что ни случалось в доме, ругали Зою. Если кто-то из малышей падал и расшибал лоб, виноватой была она. Ей доставалось и от братьев, и от их жен – ленивых баб, таких же угрюмых, как мужья.
Правда, своих подопечных девчушек Зойка обожала. Лицо ее освещалось, когда она смотрела на толстеньких малышек, которые, словно матрешки – одна другой меньше – переваливались по комнате. И у девочек не было большей радости, чем возиться с теткой. Обе родные матери ревновали дочерей и шпыняли Зою еще сильнее.
Братья стали уважаемыми людьми на селе. Старший – начальник машинно-тракторной станции, младший – бригадир. Зоя по-прежнему жила с ними.
И вдруг случилось неожиданное.
Колхозный парторг, Григорий Воля, зашел к Степану по делу, увидел на дворе восемнадцатилетнюю Зойку, развешивавшую белье, и замер, будто пригвожденный к месту. Пять минут простоял, не в силах отвести от нее взгляда, и ушел, забыв, зачем приходил.
Надежда, жена Степана, посмотрела ему вслед и пренебрежительно поджала губы. И что парторг нашел в девчонке? Тощая да глазастая.
Неделю Григорий ходил как оглушенный. При любой возможности околачивался возле дома Олейниковых, смотрел на Зою жадно, с мольбой.
– Иди, поганка, поговори с мужиком, – шипела на девушку Надежда.
Зоя высоко вскидывала подбородок и молча уходила.
– Ты хоть понимаешь, от кого рыло воротишь? Иди к нему, дура! Иди, тебе говорят!
Зоя обжигала взглядом, но к Григорию не шла.
Воля пришел сам. Сказал братьям, что хочет жениться на их сестре.
Вот когда настал праздник на улице Олейниковых. Шутка ли, сестра выйдет замуж за парторга! Николай и Степан обрадовались, выпили за светлое будущее, позвали Зою.
– Долго тебя, нахлебницу, кормили, – сказал Степан, первый раз в жизни ласково поглядев на нее. – Пора и честь знать. В начале июня свадьбу сыграем. Повезло тебе, дуре: выйдешь замуж за Гришку Волю.
Зоя вскинула голову.
– Не выйду, – отчеканила она. – За Гришку – никогда!
– Что-о?!
Оба брата вскочили. Благодушие с них как рукой сняло.
– Выйдешь как миленькая! – заорал Николай. – Такими женихами не швыряются!
– Такими?! – Зоя горько рассмеялась. – Сволочь ваш Григорий! Весь колхоз знает, какой он мерзавец.
– Придержи язык! – Степан угрожающе шагнул навстречу сестре. – У него все схвачено, все людишки в кулаке. Он тебя осчастливит!
– Вас он осчастливит, а не меня.
Николай стукнул кулаком по столу:
– Сказано, выйдешь – значит, выйдешь! А не выйдешь – убирайся из дома на все четыре стороны! Иди, живи, где хочешь, хоть на улице.
Зойка метнулась в свою комнату. Братья переглянулись, кивнули друг другу – кажется, поняла, что деваться ей некуда.
Вскоре Зоя вышла с заплечным мешком и направилась к выходу.
– Э-э! – Степан от изумления привстал. – Ты куда?
– Ухожу от вас, – спокойно ответила Зоя. – Лучше в лесу жить, чем с Григорием и с вами.
– Никуда ты не пойдешь! А ну вернись, падла!
Зойка лисицей метнулась на темный двор.
Но Степан с Николаем оказались проворнее: догнали ее в сенях, скрутили, потащили обратно. Колька за волосы дернул пару раз и дал по шее для острастки. Зоя зашипела от боли, но не вскрикнула.
Братья заперли ее в чулане, приперли дверь стулом для надежности.
– Не выйдет она за Гришку, – мрачно сказал Николай.
– Выйдет, – усмехнулся Степан. – Никуда не денется.
Он набил в рукавицу мокрого песка и зашел в чулан.
Изнутри донесся шум, потом что-то упало. Глухо закричала девушка – раз, и другой. Потом до Кольки доносились только стоны.
Брат вышел через десять минут – взмокший, но довольный.
– Жива хоть осталась? – спросил Николай, кивнув на дверь.
– Жива, что ей сделается. И синячка не будет. Ей ведь еще перед Гришкой красоваться!
Степан расхохотался, и брат подхватил его смех.
Из чулана Зойку так и не выпустили. Надежда приносила ей еду и видела, что девушка сидит, забившись в угол.
Через неделю Надежда буркнула, что свадьбу назначили на второе июня и что платье Зойке она даст свое.
– Тебе велико, я ушила.
Зоя кивнула и даже пробормотала что-то вроде «спасибо».
Олейниковы приободрились: значит, вразумили дурочку. Но решили, что еще три дня до свадьбы пускай посидит под замком.
И в этом заключалась их главная ошибка.
На следующее утро Зойка еще сидела в чулане. А вечером ее уже не было. В тонкой деревянной стене чулана, смежной с сараем, зияла дыра.
– Ты что, нож ей оставил?! – напустился на брата Колька.
– Какой нож?! Я весь чулан расчистил! Да не уйдет Зойка далеко в одном сарафане. Куда она денется? Не к кому ей идти.
Но девушка пропала, как сквозь землю провалилась. Никто ее не видел. Григорий лично обошел каждый двор, но без толку.
– Если найду, убью! – грозился Николай. – И плевать на Гришку! Стерва какая, а?! У кого же она прячется, у кого…
Но Зое и в самом деле не к кому было идти. Потому мысль укрыться у односельчан не пришла ей в голову. В лес, в сосновый бор на берегу реки – вот куда бежала девушка.
Место Зоя выбрала укромное, подальше от села, чтобы не наткнулись случайные рыбаки. Плохо, что не было с собой спичек: Степан забрал из чулана все спичечные коробки, опасаясь, что сестра подожжет дом. Только как же она могла его поджечь, когда внутри спали девочки?
Попыталась добывать огонь трением, но ничего не вышло: за несколько часов Зоя натерла ладони до мозолей, а под сосновой палочкой даже дымка не появилось. Тогда она отправилась на берег. Вернулась с острым куском кремня. Разложила на земле сухой мох, перехватила нож поудобнее и принялась бить камнем по лезвию.
Искра спрыгнула с лезвия, как белка с дерева, и Зоя вскрикнула от радости. Есть огонь – значит, есть и жизнь.
Девушка устроила себе шалаш, набросала на землю сосновых веток, а сверху выложила постель папоротником. Снова пригодился складной ножик, который она всегда носила с собой в кармашке сарафана. Степан не догадался обыскать ее. Когда он бил Зою, ножик выпал, но в темноте брат его не заметил.
Зоя накопала червяков, выдернула нитку из подола, вырезала из сучка крючок и наловила рыбы. Запекла ее в углях, обмазав глиной. Обгладывала костлявых карасиков, запивая речной водой, смотрела на закатное солнце и думала: что же делать, что?
Ночной чащи Зоя не боялась. Река и лес не дадут погибнуть с голоду, а от холода и хищников ее защитит костер. Чувствует она себя хорошо, разве что левый бок болит так, что трудно согнуться. Должно быть, Степан что-то ей повредил. Ничего, заживет.
Но сколько можно жить в лесу? Июнь, июль, август… А потом? Что делать ей, когда наступят холода? Неужели возвращаться к братьям, сдаваться на их милость? Нет, ни за что. Лучше уж сгинуть в лесу.
Восемнадцатилетняя девушка, никогда не уезжавшая из села и даже редко выходившая за пределы двора, пыталась представить свое будущее.
Нужно бежать. Бежать в большой город, где она затеряется, где сможет учиться. Но у нее ни денег, ни одежды, ни документов… Одежда беспокоила Зою больше всего. В одном сарафане далеко не убежишь, даже летом.
Значит, придется вернуться.
Зоя пробралась в дом ранним утром. Она следила из-за угла и видела, как братья ушли на работу. Девушка проскользнула в калитку, приласкала Бурана, который приготовился было залаять, но узнал хозяйку и радостно завилял хвостом.
– Тише, Бураша, тише!
Оказавшись в комнате, Зоя быстро собрала вещи. Сунула комом в мешок – потом разберется! – и бросилась к двери. Скорее, пока не заметили ее жены братьев, не подняли тревогу. Второй раз ей точно не сбежать.
Она распахнула дверь и ахнула. Перед ней стояла восьмилетняя Марфа, старшая из девочек Степана.
«Пропала я, – мелькнуло в голове Зои. – Сейчас закричит».
Но Марфа кинулась ей навстречу, прижалась всем телом, задрожала, как щеночек. Подняла лицо, залитое слезами, и забормотала:
– Зоинька, Зоинька, бедная ты моя! Тихо, не выходи пока, там мамка пошла к коровнику! Я тебя так ждала, все смотрела, когда же ты вернешься. Нам без тебя плохо, Зоя!
Зоя обхватила ее, уткнулась в чернявую головку, пахнущую воробушком.
– Девочка моя, милая, – она чуть не плакала, – мне бежать надо.
– Я знаю, знаю. Тебя дядька грозился убить. А еще приходил дядя Гриша, сказал, что даст денег тому, кто приведет тебя в село. Я все слышала. За дверью спряталась и слышала. Дядя Гриша на тебе жениться хочет. Он как бешеный стал: говорит, ты ему в душу плюнула, на посмешище выставила, он тебе жить не даст, если не будешь его женой.
– Ты умничка, Марфуша, умничка моя. Только я за дядю Гришу не пойду.
– И правильно не пойдешь, – с глубокой убежденностью прошептала девочка. – Он слюнявый, хуже Бурана. И глаза как кисель. Ты себе лучше жениха найдешь, Зоинька. Подожди здесь, я мигом…
И исчезла. Зоя осталась ждать.
Марфа появилась очень скоро. В руках у нее был отцовский тулуп на овчине.
– Вот, возьми! Он в сундуке лежал, а ключ батя спрятал. Только я нашла, где он его прячет. Бери, Зоя, тебе на зиму пригодится.
Девушка схватила тулуп, расцеловала Марфушу.
– Милая моя, милая, спасибо тебе! А теперь я побегу.
– Куда денешься-то? – по-взрослому спросила девочка, глотая слезы.
Зоя понимала, что опрометчиво доверять свою тайну восьмилетнему ребенку. Но соврать или отмолчаться не смогла:
– На станцию пойду. Куплю билет на поезд, поеду в Москву. А там видно будет.
Она снова поцеловала племянницу, вытерла ей слезы, не замечая, что плачет сама.
– Зоинька… Ты забери меня, а? – с тоской проговорила Марфа. – Неужели не вернешься?
– Господи, что ты говоришь такое… – забормотала Зоя. – Как же я не вернусь? Обязательно вернусь за тобой. Не плачь, сердечко мое, не плачь… Я в городе работу найду, устроюсь, а как только ты подрастешь, приеду к тебе.
Марфа всхлипнула, вырвалась из ее объятий и распахнула дверь:
– Иди скорее. Да иди же!
И топнула ногой.
Зоя притянула ее к себе, поцеловала в лоб и быстро вышла.
От села до железнодорожной станции – десять километров. Пустяки, дойдет быстро.
Девушка вынула из тюка бечевку, обмотала тулуп, чтобы удобнее было тащить, и свернула в прогон.
Из соседнего двора вслед ей смотрел мальчишка, но Зоя не обратила на него внимания.
На станции она поначалу растерялась. Столько людей! Все с тюками, все толкаются, и запах стоит странный, словно в кузне. Девушка постояла в уголке, наблюдая, потом напустила на себя независимый вид и подошла к пузану, торговавшему семечками.
– Дядя, вам тулупчик не нужен? Зимой пригодится, на морозе стоять.
Пузан дал ей за тулуп одну пятую его цены, но Зоя об этом не догадывалась. Она уже бежала к кассам, прижимая к себе свой мешок.
И вот – поезд. Господи, какая махина! «Скорее, скорее, – торопила его Зоя, сидя у окна в последнем вагоне, – поехали же, родненький».
Послышался гудок. Девушка бросила взгляд в окно и оцепенела: по перрону, расталкивая народ, пробивался к поезду Григорий Воля. А за ним шли ее братья, оперуполномоченный и еще двое односельчан.
Они залезли в поезд, и тот сразу тронулся. Зоя видела, как Воля махал какими-то бумагами, а оперуполномоченный кивал. «У него все схвачено, все людишки в кулаке», – вспомнилось Зое.
Она вскочила и торопливо направилась в конец вагона.
Поезд набирал скорость. Григорий с помощниками шли по проходам, вглядываясь в лица пассажиров. Первый вагон, второй, третий… Оставался лишь последний. Люди затихали при их появлении. Николай заглядывал под скамьи, бесцеремонно двигал чужие вещи, словно подозревал, что Зойка может спрятаться в чьей-нибудь корзине.
Они обыскали весь поезд, даже на крышу залезли. Но девушку не нашли.
– Нет ее здесь, – разочарованно бросил Воля. – Обманул нас пацаненок. Или ошибся.
Вечером того же дня путевой обходчик Василий Золотарев шел по путям и вдруг услышал стон. Он остановился, прислушиваясь. Стон повторился.
Золотарев сбежал по насыпи вниз, к сломанным кустам. Раздвинул ветки – и ахнул. Там, в кустах, лежала рыжеволосая девушка такой красоты, что Василий не поверил своим глазам.
– Ты откуда здесь, милая?!
Девушка смотрела сквозь него мутными глазами. Присев, Золотарев увидел: правая нога у девицы нехорошо подвернута. Положил руку ей на лоб – и вздрогнул: горячий лоб, ох какой горячий.
Девица схватила его за руку.
– Дедушка… – просипела, – не отдавай меня им! Не отдавай!
Василий тащил ее до будки целый час и только диву давался, как же она со сломанной ногой доползла до кустов. А ведь доползла, спряталась! Значит, очень боялась кого-то.
В домике он уложил бесчувственную девушку на свою постель, нацепил очки и тщательно осмотрел. Перелом закрытый – что ж, уже неплохо. А что это у нас с левой стороны? Ай-яй-яй… Ребро сломано. И не одно, похоже, а целых два.
– В больницу вам надо, барышня, – вынес Золотарев свой вердикт. – Цыплячьи косточки вправлять и сращивать. Эх, не костоправ я, не костоправ!..
…Когда Зоя пришла в себя, то первое, что увидела – кусочек голубого неба за зарешеченным окошком. Неужели она в тюрьме?!
– Пить!
Из горла вырывалось жалкое сипение. Но ее услышали. Над Зоей склонился пожилой мужичок с усталым, обветренным лицом и седой бородой. Он приподнял девушке голову, поднес к губам кружку.
– Пей, милая, пей.
Зоин взгляд заметался по комнатке.
– Ты не бойся, не бойся, – мягко сказал старик. – Никого здесь нет. Это будочка моя, я здесь живу. Один живу, как перст.
Зоя выпила воду, откинулась на подушку. Скосила глаза вниз: под одеялом вместо ноги здоровенный бугор.
– Ты в лангете, – сказал старичок, снова прочитав ее мысли. – Ножку сломала, когда с поезда прыгала. И ребрышки тоже, уж не знаю как. Полежать тебе придется, девица. Как звать тебя, кстати?
– Зоя.
– Хорошее имя. А меня – Василий Иванович. Я местной железнодорожной станции путевой обходчик.
– Это вы мне ногу закрутили?
– Я. И лекарство тебе дал, чтобы ты не проснулась, пока косточки тебе вправляю. Голова от него еще может быть тяжелая. Но это скоро пройдет.
– Вы доктор? – спросила Зоя, вглядываясь в странного старика.
Тот помрачнел, коротко качнул головой:
– Бывший. Давным-давно бывший. Доктором меня звать не надо, я этого не люблю. Зови Василием Ивановичем.
Зоя протянула руку и схватила запястье старика:
– Спасибо вам, Василий Иванович! Спасибо, родненький!
– Спи, – проворчал тот. И как только Зоя уснула, едва голова ее коснулась подушки, добавил: – Родненький… Ишь ты!
Зоя быстро шла на поправку. Через месяц она уже готовила еду, опираясь на самодельные костыли, и звонко пела. Золотарев возвращался с обхода, слышал ее голос и замирал, закрыв глаза.
Историю девчонки он восстановил без труда, осторожно расспросив людей на станции. По утрам, когда Зоя еще спала, Золотарев придвигал стул к ее кровати, садился рядом и смотрел, стесняясь самого себя.
Господи, красота какая… И ведь никто, кроме него, этого не понимает. Разве что этот Григорий Воля, устроивший целую облаву на невесту, чувствует, что потерял. Должно быть, на него напало умопомрачение, когда он увидел ее во всем сиянии рыжеволосой юности, тонкую, прекрасную, такую живую и светящуюся, как капелька росы под солнечными лучами.
Однажды Зоя открыла глаза и увидела старика, смотрящего на нее тоскливым, полубезумным взглядом. Она испуганно вскрикнула и попыталась закрыться одеялом.
Василий Иванович тяжело вздохнул.
– Зоенька, ты не подумай плохого, – тихо сказал он. – Я прежде не говорил, а сейчас скажу, чтобы тебе дурное не казалось. Дочь у меня была, Маша. Я тогда работал в уездной больничке и очень свою работу любил. Думал, я талантливый врач. Гордился собой. А потом в наш городок пришла эпидемия. Знаешь, что такое эпидемия? Не знаешь, наверное. Это когда такой старый пень, как я, хоронит свою семнадцатилетнюю дочку. А власти наверх рапортуют, что давно уже победили болезнь, и все у нас хорошо, и помощь не нужна. И еще пять тысяч человек умирает, потому что без лекарств, без вакцины мы, доктора, никто! Мы думаем, что многое умеем, но против природы мы пушинки, пыль! И не нам решать, кому жить, кому умереть.
Зоя отбросила одеяло. Страха в ее глазах не осталось – только сочувствие и скорбь.
– Я с этим жить не смог, – продолжал Василий Иванович, сгорбившись и опустив голову. – Какой из меня доктор, если я самое дорогое не сберег… Ушел, уехал, и вот уже пять лет обходчиком работаю. Такой хороший труд, я тебе скажу… Ни одного человека с тобой рядом нет. Никому ты навредить не можешь.
– Василий Иванович, миленький…
– Я ведь мог ее уберечь, Зоя! – внезапно хрипло выкрикнул Золотарев. – Мог увезти до болезни! А я ничего, ничего не сделал!
Он сжал кулаки, тихо застонал. Потом, опомнившись, встал и вышел из домика.
Вернулся Василий только к вечеру и сразу полез в сундук, стоявший в углу. Копался там, бормоча себе под нос, и, наконец, нашел то, что искал.
– Иди сюда, Зоя…
На стол, под качающийся круг света от лампы, выложил бумаги.
– Это документы моей дочери, Марии Золотаревой. Я, когда сбежал из города, захватил и их тоже. Она постарше тебя, но это ничего. В Москве тебе без документов делать нечего. Да и в любом другом месте. Возьмешь, они тебе поначалу сильно жизнь облегчат.
Зоя бросилась к старику, прижалась к нему.
– Второй раз спасаете меня, Василий Иванович! Как я благодарить вас буду?
– Жизнь проживи счастливо – вот это и будет твоя благодарность. А я умру спокойно, зная, что помог тебе.
… Зоя уходила утром, спрятав волосы под платок. На пороге будки обняла старика, троекратно поцеловала.
– Иди, иди, – проворчал тот. – Я тебе там написал, что с ногой делать. Сильно-то ее не напрягай поначалу, польку не танцуй.
– Я вернусь, как только смогу, – твердо сказала Зоя.
– Следи, чтобы документы не стащили у тебя, – будто не слыша, наставлял Золотарев. – Денег у тебя в обрез, а вид доверчивый – опасайся жулья. Все, шагай на станцию!
– Я за вами вернусь, – повторила Зоя.
– Глупостей не говори. Нам с тобой больше не свидеться, да и незачем.
Зоя вскинула на него огромные свои карие глазищи.
– Я, батюшка, за вами вернусь, – третий раз сказала она.
Василий Золотарев ухватился за стену, чтобы не упасть.
– Я без отца четырнадцать лет жила, – тихо проговорила Зоя. – У меня никого нет, кроме вас и девчонок малолетних. Говорите, что хотите, а я за вами приеду.
Она повернулась и пошла к станции, чуть прихрамывая на правую ногу.
Василий Иванович Золотарев погиб под Смоленском в начале войны. Увидеться с Зоей они так и не успели.
…Десять лет спустя, в теплый майский день с поезда на станции «Знаменка» сошла молодая женщина. До села ее подвезла попутная машина. Шофер искоса посматривал на пассажирку, лицо которой показалось ему смутно знакомым. Но заговорить с ней так и не решился, хотя слыл в селе балагуром и трепачом.
Женщина попросила высадить ее у дома Олейниковых. Шофер знал их семью. Обоим братьям повезло живыми вернуться с войны. В селе их не любили за грубость, жестокость и изворотливость, а рассказам Кольки и Степана про военные будни не верили ни на копейку.
Шофер сделал вид, что возится с заглохшей машиной, а сам с любопытством приглядывался к приезжей. Не успела она подойти к калитке, как навстречу выбежали две девушки. Одна – сухая, некрасивая, черноволосая – мельком взглянула на женщину…
И вдруг поменялась в лице, прижала ладонь к губам.
– Господи… Зоя!
– Марфа! Оленька!
Рыжая, смеясь и плача, прижала к себе обеих девушек.
На крики выскочил Степан, за ним Николай, и оба замерли в растерянности. Первым пришел в себя старший брат: оскалился и вразвалочку двинулся к приезжей.
«Сейчас ударит ее, – вдруг отчетливо понял шофер. – Вон, аж рыло у него свело от злобы».
Женщина подняла голову, отстранила девушек. И шагнула навстречу Степану.
– Только тронь! – донеслось до шофера.
Глаза у рыжей стали страшные, того гляди испепелит взглядом. Даже шофер оробел, хотя она на него вовсе не смотрела.
И Степан резко развернулся и скрылся во дворе. Николай потоптался-потоптался и сделал вид, будто просто так вышел, воздухом подышать.
А из дома уже летели навстречу гостье еще две девушки. С криками облепили ее, будто маленькие. И перед глазами шофера вдруг встала сцена десятилетней давности: рыжая деваха, тощая, большеглазая, возится с чернявыми девчушками мал-мала меньше.
Тут-то он и понял, кого подвозил. А ведь говорили в селе про Зою, что она утопилась, и даже тело нашли ниже по течению. Жива, значит…
– Мы ведь думали, Зоя, что ты погибла, – плакала Людмила, младшая из девочек Степана. – Не ждали тебя!
– Кто не ждал, а кто и ждал, – загадочно бросила Марфа. – За себя говори, а за всех не надо.
– Так ты им ничего не сказала! – догадалась Зоя. – Неужели молчала с того самого дня?!
– Я подумала, пускай лучше считают, что ты умерла.
Марфа подняла на Зою заплаканные глаза и вдруг улыбнулась:
– А про тулуп-то отец так и не дознался, куда пропал. Пригодился он тебе?
– Конечно, милая. Я его продала и билет на поезд купила. Правда, ехать тем поездом мне так и не довелось, но это долгая история.
Зоя почувствовала чей-то взгляд. Из дома, прилипнув носами к окнам, на нее смотрели Степан, Надежда, Николай и Алевтина. Словно призраки прошлого… Но больше она их не боялась.
Зоя увлекла племянниц за собой:
– Идемте со мной, дорогие мои девочки. Нам с вами о многом надо поговорить.
Сидя на берегу реки неподалеку от того места, где она пряталась от братьев и Гришки-парторга, Зоя рассказывала свою историю.
После того как она приехала в Москву, ей повезло: почти сразу она устроилась работать няней к двухлетней девочке.
– Поразительная была семья, такая душевная! Инна Павловна меня случайно в парке встретила, она там с внучкой гуляла, а я сидела на скамеечке и думала, куда мне податься. С вокзала вышла, а куда дальше идти, не знаю. А город вокруг, девочки мои, такой огромный! Я пошла, куда глаза глядят, и вышла к парку.
Там малюсенькая девчоночка ко мне подскочила и давай со мной играть. А я с ней, как с вами когда-то. Бабушка ее расспросила меня – кто я и как в Москве оказалась – и вдруг предложила у них поработать. Я, конечно, обрадовалась. Но тогда и представить не могла, какая это удача – встретить на своем пути такую семью.
Инна Павловна мне все твердила: «У вас, Зоя, неожиданный и редкий для женщины талант – вы прирожденный чертежник». Она меня и в институт отправила. А потом к ней в гости приехал племянник из Куйбышева…
Зоя замолчала, улыбаясь.
– И ты в него влюбилась! – радостно закончила Людмила.
– Да. Мы с ним собирались пожениться, но тут началась война. Пришлось сыграть свадьбу позже, чем задумывали.
Она подмигнула Людке.
Зоя не рассказала племянницам, как погибли при бомбежке Инна Павловна и ее муж, как получила она похоронку на жениха и оплакала его, а Сережа вернулся через три месяца: похоронка оказалась ошибкой.
В Зоином изложении жизнь получалась как река, которая сама выносила ее к нужным берегам. И одна из сестер, Рая, тут же озвучила общее мнение:
– Ты, Зой, ужас какая везучая!
Все согласились. И сама Зоя, с тихой улыбкой глядя на лес за спинами девочек, в котором она когда-то засыпала, уткнувшись лицом в высохший папоротник, тихо подвывая от боли и одиночества, согласилась:
– И правда везучая.
…………………………………………………
– Она дожила всего лишь до пятидесяти лет, – сказала Анна. – Сколько я себя помню, вечно возилась с этими своими родственниками. Кого-то пристраивала по больницам, кому-то искала работу… Она, архитектор! А эти даже не понимали, как далеко Зоя ушла от них. Она таскала меня к ним в гости. У этих колхозных теток не было салфеток на столах! Они чавкали, они выпивали, они не соблюдали элементарной бытовой гигиены, в конце концов! А мама не понимала, что это родство унижает нас.
– Но она их любила.
Мать пожала плечами, точно выражая сожаление.
– У нее была поразительная способность втягивать самых разных людей в свою орбиту. Она заставила меня пообещать, что я назову свою дочь в честь дочери обходчика, который спрятал ее после побега. Мне было тринадцать лет, когда она завела этот разговор! И ведь ни секунды не сомневалась, что у меня будет девочка, а не мальчик!
– Но бабушка же не ошиблась?
Анна отмахнулась:
– А, неважно! Эту ее просьбу я выполнила. Но общаться с ее родней – боже упаси! Сразу после переезда я выкинула все их телефоны и адреса, не оставив своего. Поэтому никто из этих теток с чудовищными именами вроде Капитолины не мог разыскать меня.
– Алевтины, – негромко сказала Маша.
– Что?
– Алевтины, а не Капитолины. Это жена Николая. У нее были две дочери, Ирина и Рая. Все они уже умерли.
– Возможно, – равнодушно согласилась мать. – Хотя какая, в сущности, разница?
– Мне есть разница, – сказала Маша. – Я предпочла бы застать их живыми и составить свое собственное впечатление о них.
– И ты упрекаешь меня в том, что я лишила тебя такой возможности? Не буду спорить. Но я считаю, что избавила нас от обременительной родни. Ты еще скажешь мне спасибо за то, что почти тридцать лет прожила в счастливом неведении.
Маша обежала взглядом картины с безлюдным городом. Нет, он не опустел… В нем никогда никто и не жил. Невозможно представить, чтобы за нарисованными желтыми окнами кто-то пил чай и смотрел телевизор, а за углом нарисованного дома только что скрылись дети.
Ни детей, ни людей, ни животных… Присутствие лишь одного человека явственно читалось в полотнах: самого художника.
Уже выходя, Маша обернулась:
– Я на нее похожа?
Анна осуждающе поджала губы:
– Очень.
В самолете Маша вытащила тетрадь и нарисовала семейное древо. До сих пор его единственная ветка обрывалась на бабушке Зое. Теперь у корней расположились имена Михаила и Татьяны, а влево и вправо проросли толстые, крепкие побеги: Степан и Николай с женами. Карандаш быстро скользил по листу. В тетради проявлялись угрюмые обвисшие лица, смотревшие на Машу с ненавистью. Была бы их воля, обломали бы тонкую Зоину ветку под самый корень.
Маша обнаружила, что помнит всех, кто был в списке Олеси. Вот пять дочерей Степана: Марфа, Ольга, Вера, Наталья и Людмила. Все они с помощью Марфы выбрались из села. Кроме Ольги: та не бросила «Знаменское» и замуж не вышла. Эта веточка обломилась на ней.
У Люды, Веры и Наташи родилось всего по одному ребенку. Удивительно, учитывая, что сами они выросли в многодетной семье. «А может, потому и родили только по одному».
Людмила родила без мужа, и сына ее зовут Матвей Олейников. Он единственный, кто сохранил фамилию рода. Вера с Наташей вышли замуж, и одна стала Коровкиной, а другая Освальд. Их дети – Геннадий и Марк. Но Марк уже умер…
Значит, и линия Натальи оборвалась, если только у Марка Освальда нет детей. Но о них Олесины раскопки ничего не говорили.
Теперь Николай. Рука Маши сама пририсовала ему кабаньи клыки… Жена Николая родила двоих девчонок, Ирину и Раису, и у каждой имеется по сыну. Маша изобразила двух похожих мужчин с усиками, подписала: «Борис Ярошкевич», «Иннокентий Анциферов». Борис и Иннокентий вышли похожими на гусар. Кажется, она никого не забыла…
Ах, нет же, она забыла Марфу, старшую дочь Степана! Ту самую девочку, которая помогла бежать Зое. Она – единственная, кто остался в живых из этого поколения. Все ее сестры, и родные, и двоюродные, умерли.
Занятно: в среднем поколении рождались только женщины, а в младшем – одни мужчины. И она, Маша, единственная девочка среди них.
– Здорово вы рисуете! – заметил сосед, заглянув Маше через плечо. – Учились?
– Нет, само получается, – рассеянно ответила она.
– Значит, в роду был художник, – авторитетно заверил сосед. – У вас его гены режутся.
Вернувшись в Москву, Маша достала из сумки рисунок с деревом. «Гены режутся…» Что бы ни говорила мать, эти люди знали ее бабушку, умершую еще до Машиного рождения.
«Позвони, – шепнул внутренний голос, – чего ты боишься?»
Немного поколебавшись, Маша позвонила в справочную.
А час спустя, волнуясь, не попадая с первого раза по кнопкам телефона, набирала номер Марфы Олейниковой.
– Слушаю вас! – ответил бодрый старческий голос. Маша никогда бы не сказала, что его обладательнице без малого восемьдесят лет.
– Здравствуйте. Меня зовут Мария Успенская. Могу я поговорить с Марфой Степановной?
– Это я. Слушаю, голубушка, слушаю… – подбодрили ее.
– Марфа Степановна, вы меня не знаете…
– Зоя? – вдруг перебила Олейникова изменившимся голосом.
Маша оторопела.
– Я… Да, я ее внучка!
В трубке глубоко вздохнули.
– Ну, слава богу! – облегченно сказала Марфа Олейникова. – Я уж думала, ты не позвонишь.
Глава 3
Второй раз Маша вновь проснулась от стука. Но за окном уже стемнело, и ветер нес в приоткрытое окно не кукареканье петуха и ожесточенный стрекот кузнечиков, а вечерний шелест трав.
– Надеюсь, это не кот, – пробормотала Маша, мотая головой, чтобы стряхнуть остатки сна. Долго же она проспала, не меньше шести часов…
За дверью стояла Марфа Степановна.
– Выспалась? – ласково спросила она. – Все уже собрались, только тебя и ждут. Пойдем вниз, красавица.
Маша представила этих всех, которые только ее и ждут, и попятилась от Олейниковой. Подождите, она еще не готова! Ей нужно прийти в себя и настроиться!
– Я сейчас переоденусь и спущусь, – стараясь говорить твердо, пообещала Маша. – Десять минут, Марфа Степановна, и я буду готова со всеми познакомиться.
– Ерунда, – прервала старуха, – пойдем-ка, милая, и не упрямься. Ты и так одета!
«В потертые джинсы и старую футболку!»
Марфа цепко ухватила девушку чуть повыше локтя и увлекла за собой. Маша, от удивления растерявшая способность к сопротивлению, пошла бы безропотно, но взгляд ее упал на зеркало. Зеркало злорадно, без всяких прикрас, показало ее отражение.
Маша немедленно растопырилась во все стороны, как осьминог, лишь бы не дать вытащить себя из комнаты, и застряла в дверях.
– Что такое? – возмутилась старуха.
– Марфа Степановна, честное слово, я не могу в таком виде показываться людям! У меня воронье гнездо на голове! Я не накрашена!
– Меньше о суетном думай, больше о душе! – строго посоветовала хозяйка.
От удивления Маша выпустила косяк и тут же оказалась в коридоре. Дверь за ней с треском захлопнулась. Не оставалось ничего другого, как идти следом за Олейниковой, надеясь, что в комнате будет темно и ее никто толком не разглядит.
Но когда Успенская с лестницы увидела залу, она поняла, что отсидеться в темном уголке не получится. Не в этот раз.
Над длинным обеденным столом висели четыре кованые лампы с изогнутыми рожками, и в каждом рожке сияло по три ярких стеклянных «свечи». Марфа Степановна не экономила на электричестве.
– Прошу любить и жаловать, – зычно объявила хозяйка с лестницы, и все сидящие за столом, как один, взглянули наверх. – Вот и Мария, о которой я вам рассказывала. Внучка Зои.
Она отодвинулась к стене, освобождая проход, и Маша вынуждена была протиснуться мимо нее.
Странная вышла сцена: по лестнице спускается молодая женщина, словно гостья, опоздавшая на бал, а пирующие взирают на нее снизу, разве что не перешептываясь между собой. «Мне не хватает шуршащего платья с тугим корсетом», – чуть отстраненно подумала Маша, преодолевая ступеньку за ступенькой.
Она всегда стеснялась, когда на нее смотрели. В оркестре Маша ощущала себя лишь приложением к флейте, удачным дополнением к инструменту, и взгляды зрителей не тревожили ее. Без флейты музыкант исчезал, оставался человек наедине с чужим любопытством.
«Любопытство!» Маша ухватилась за это спасительное слово. Не только они, семь человек, собравшихся вокруг дубового стола, имеют право смотреть на нее изучающе, но и она на них.
Маша на секунду остановилась на последней ступеньке и обвела взглядом собравшихся.
Трое из семерых ей знакомы: смешной худенький Гена Коровкин, его милая жена и высокомерный Борис Ярошкевич.
Четверых Маша видела первый раз в жизни.
Ближе всех к ней – высокий худой мужчина в белой рубахе-косоворотке, с жидкими волосами, зачесанными назад, и обвисшими дряблыми щеками. Зато нос – ровный, практически римский. На подбородке вьется козлиная бородка. Наверное, в молодости считался красавцем, но сейчас выглядит несколько…
«Потасканным», – подсказал внутренний голос.
Козлобородый, наморщив нос, нервно постукивал пальцами по столу.
Слева от него – молодая девушка в светлом платье, нежная, как ландыш, с гладким белым личиком. При взгляде на нее в голову приходили мысли о деревне, сенокосе, васильковых венках и отпечатках босых ног на песчаной дороге.
Лицо девушки поразило Успенскую тем, что ничего не выражало, хотя взгляд голубых глаз был устремлен прямо на Машу. Казалось, она к чему-то прислушивается. Такой взгляд бывает у слепых, и на секунду Маше стало не по себе.
Напротив девушки, откинувшись на спинку стула и забросив ногу на ногу, сидела загорелая женщина с безупречно белыми, как лен, волосами. Полная противоположность девушке-ландышу. «Про таких, наверное, говорят: притягательна, как грех», – подумала Маша, с интересом разглядывая ее. Женщина-сияние. Пухлые губы блестят, и в сощуренных глазах блеск, и вся она точно надкушенная спелая груша, исходящая соком из обнажившейся золотистой нежной плоти.
Тонкое белое платье с глубоким вырезом оттеняло загар. И недвусмысленно подчеркивало формы: взгляд проваливался в ложбинку между двумя высокими полукружьями грудей. На ногах женщины поблескивали золотистые босоножки, по последнему слову моды зашнурованные выше лодыжек. Шнурки, точно змеи, обвивали тонкие щиколотки.
Легкомысленный городской наряд был неуместен в избе, но женщину, похоже, это не волновало. «Ее трудно чем-либо смутить, – решила Успенская. – Она сама смутит кого угодно».
Блондинка изучала Машу очень пристально, по-кошачьи сузив глаза.
А вот темноволосый мужчина, сидевший рядом с ней, Машей вовсе не заинтересовался. Он смотрел на Марфу Степановну, и Успенской показалось, что в глазах его читается вопрос. Лет сорока, высокий и грузный, словно боксер-тяжеловес. И нос переломан и искривлен, как у боксера. Волосы по-мальчишески взъерошены. «Жерар Депардье, – подвернулось Маше подходящее сравнение. – Только обрусевший». Самым забавным в его облике была рубашка – нежного розового оттенка, который любят молодые менеджеры. Маша невольно улыбнулась, подумав, что этому типу больше подошли бы шкуры или бойцовские белые майки.
«Депардье» соизволил наконец перевести взгляд на нее. Мрачный, недобрый, предостерегающий взгляд. Люди в рубашках нежно-розового цвета не должны смотреть как некормленые тигры.
– Здравствуйте, – от неожиданности сказала Маша. (Вышло так, как будто она здоровается персонально с ним). К счастью, голос прозвучал мягко и не выдал, как сжата она внутри. – Мне очень приятно познакомиться с вами. С некоторыми даже второй раз.
И улыбнулась чете Коровкиных.
– Я тебе сейчас всех назову, – сказала очень вовремя подошедшая Марфа. – А ты смотри и запоминай. Вот перед тобой, – она показала на козлобородого, – Иннокентий Анциферов. Напротив – Борис, с ним ты уже виделась.
Иннокентий привстал и поклонился, Борис даже не шевельнулся. «А я-то представляла их гусарами!»
– Иннокентий в этот раз жену привез с собой, – продолжала старуха. – Правильно сделал, пускай девочка входит в семью. Вот она, наша Нюта!
– Здравствуйте, – улыбнулась голубоглазая девушка.
«Этот юный цветочек – жена козлобородого? – ахнула Маша про себя. – Вот это да… Ай да Иннокентий Анциферов».
Девушка отодвинулась от стола и сложила ладошки на круглом, как мячик, животе, туго обтянутом платьем. Тотчас стала понятна отрешенность Нюты, ее взгляд, углубленный в себя. «Судя по животу, у нее седьмой месяц, не меньше».
– Теперь смотри сюда! – Старуха довольно бесцеремонно дернула Успенскую за руку. – Ева, жена покойного Марка, упокой господь его душу. – Она перекрестилась.
Женщина с льняными волосами кивнула Маше.
– Геннадий с женой своей, Леной, – продолжала Марфа, указывая на Коровкиных. – А это мой последний племянник, – с гордостью представила она, указывая на темноволосого, – Матвей.
– Приятно познакомиться. – Мужчина с перебитым носом улыбнулся одними глазами.
Так вот это кто: Матвей Олейников, сын Людмилы, младшей сестры Марфы Степановны. Неудивительно, что Олейникова гордится им: он продолжатель рода, единственный, кто сохранил наследственную фамилию.
Удивило Машу другое: во взглядах троих гостей из семерых сквозила враждебность. У Бориса Ярошкевича – ничем не замаскированная, у Евы Освальд скрытая за милой улыбкой, и, тем не менее, заметная. Третьим, кто взирал на Машу с откровенным недовольством, был высокий немолодой красавец с бородкой – Иннокентий Анциферов.
– Садись! – старуха подвела Машу к свободному стулу, а сама встала во главе стола. – Что ж, теперь все в сборе, можно и к делу перейти. Почти все вы знаете, что я собрала вас здесь не просто так.
Маша насторожилась. Конечно, не просто так. Они собрались, чтобы отметить юбилей Марфы: тринадцатого июня ей исполнилось восемьдесят. Но что-то в голосе старухи наводило на мысль, что предметом разговора будет вовсе не праздник.
И собравшиеся – Маша только теперь поняла это – слишком серьезны. Разве что Иннокентий загадочно улыбается, будто предвкушая нечто приятное.
– Я пригласила вас всех, чтобы решить важный вопрос, – продолжала Марфа Степановна. – Начну с того, что три года назад я вышла замуж.
– И ничего нам не сказали! – тут же укоризненно заметил Анциферов, глядя на Олейникову преданными влажными глазами.
– Сказала, когда приглашала на юбилей.
– Всего лишь две недели назад! Почему же не сразу?
– А ты, голубчик, в то время не особенно интересовался моей жизнью, – осадила его Марфа. – С моего семидесятилетия и не позвонил ни разу, не справился, как мое здоровье!
Иннокентий пробормотал, что травма, нанесенная ему, оказалась слишком сильна, чтобы…
– Так я буду говорить или ты? – недобро сощурилась Марфа. – Травмированный ты наш!
Анциферов смолк и перестал улыбаться.
– Так вот, сподобил меня Иисус на старости лет найти себе мужа. Муж мой, Яков Семенович, был мужчина умный и скопил небольшое состояние. Распоряжался он им грамотно, деньги вкладывал в дело, но кое-что и для души оставлял. Под конец жизни Яков Семенович владел фабрикой в Пензе, на которой производят шины, двумя типографиями в Минске и в Подмосковье, еще имел акции разных прибыльных предприятий. А для души держал заводик орловских рысаков. Домик вот этот для меня построил, опять же. Хорошо мы с ним жили, душа в душу… Жаль, недолго.
Марфа вздохнула и смахнула невидимую слезу.
– Год назад Якова Семеновича призвал к себе Господь. Детей у него не было, родители давно в могиле, поэтому все имущество дорогого Якова перешло ко мне.
– И заводик орловских рысаков? – вдруг тоненько спросила Нюта.
– И он тоже, – кивнула Марфа. – Говорю вам, все. И акции, и вклады, и черт его разберет, что еще.
Она вдруг быстрым движением перекрестила рот и сплюнула три раза через левое плечо.
«Черта помянула!» – догадалась Маша.
– Вот уже полгода как я вступила в права наследования, – с расстановкой проговорила Марфа Степановна, – и ни дня не проходило, чтобы я не задумывалась: достойна ли я того богатства, что оставил мне Яков? Для чего Господь судил именно мне стать его преемницей? Ночи я проводила в молитвах, а днем размышляла, надеясь, что Господь в милости своей не оставит меня без ответа. Даже в Свято-Троицкий монастырь сходила паломницей. И там мне открылась истина!
Старуха сделала паузу, давая родственникам время осмыслить сказанное.
– Какая же истина? – не выдержала Ева Освальд. – Что вам открылось, Марфа Степановна?
– Что ноша сия не для меня и не по мне. Ибо сказано в Евангелии: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное. Деньги ведут к соблазнам, и только стойкий духом может избежать их и использовать богатство во благо людям. Быть может, и я оказалась бы способна на это… Но мне восемьдесят лет. Сколько еще отпущено Богом – мне неведомо. Не хочу остаток жизни провести, пересчитывая накопленное. Мне самой на жизнь многого не нужно: в моем возрасте уже потребна душе и телу аскеза. Поэтому я подумала и рассудила так…
Марфа оглядела сидящих за столом, будто желая убедиться, что ее слушают. Все глаза были устремлены на нее. Они слушали, и еще как!
И Олейникова закончила:
– Что наследство мое я передам одному из вас. Выберу достойнейшего, и пусть он сам решает, что делать с накоплениями Якова. Ни в чем препятствовать не стану, все имущество по дарственной перепишу на него. А я, душу облегчив, смогу в монастырь уйти, в Свято-Троицкий. Я уже договорилась с настоятельницей: за небольшую мзду меня туда примут, и доживу я дни свои у Господа под крылом.
Марфа Степановна перекрестилась и благочестиво склонила голову.
В комнате воцарилась мертвая тишина. Даже за окном стало очень тихо.
«Они меня разыгрывают, – сказал кто-то в Машиной голове. – Не может быть, чтобы все это было всерьез!»
Но быстрый осмотр всех сидящих за столом убедил ее, что это не шутка. Они тоже были изумлены.
Иннокентий переглянулся с женой, и Нюта ответила ему недоумевающим взглядом. Ева не сводила со старухи расширенных глаз. Гена Коровкин с женой сидели с открытыми ртами, и вид у них был довольно глупый. Борис часто моргал, как будто его только что разбудили.
Матвей Олейников наклонился вперед:
– Тетя Марфа, мы вас правильно поняли? Вы хотите при жизни передать все имущество одному из нас?
– Ну конечно, – ворчливо ответила старуха, – что тут непонятного? Я же вам еще по телефону все рассказала!
– Вы рассказали, что вышли замуж и овдовели, – промямлил Гена. – Мы и подумать не могли…
– Э-э, нет! – старуха хитро ухмыльнулась. – Не только о вдовстве я рассказала. Еще я упомянула, что покойный муж оставил мне наследство. Не скажи я об этом, никто из вас и не подумал бы появиться сегодня здесь.
Раздался хор протестующих голосов. Но старуха оборвала его одним взмахом руки:
– Может, двое-трое и приехали бы… И не стали бы ссылаться на дела. – Выразительный взгляд на Матвея. – Но мне нужны все вы! Дорогие мои племяннички, я хотела взглянуть на каждого из вас, чтобы точно знать, что не ошиблась с выбором.
– Так вы уже определились?! – Борис Ярошкевич привстал от волнения.
– Конечно же нет! Должно быть, я неправильно выразилась. Выбор мне только предстоит. Большинство из вас я видела десять лет назад, а за десять лет люди сильно меняются. Я ведь не кролика отдаю и не кошку! Я хочу передать все и спать спокойно, зная, что сбережения Якова в надежных руках. Что их не пустят по ветру, но и не употребят лишь для собственного обогащения.
– А критерии? – рискнул подать голос Иннокентий. – Как вы будете отбирать… претендента?
– Об этом вам знать незачем! – заявила Марфа.
– То есть как? Как же это…
– А вот так. Буду слушать голос свой внутренний и тот, что со мной с небес говорит.
На лице Иннокентия Анциферова явственно выразилось сомнение в способности небесного голоса нашептать тетушке что-нибудь конструктивное в такой деликатной области, как распоряжение финансами. Да и остальные, судя по вытянувшимся лицам, были обескуражены.
– Тетя Марфа, вы над нами шутите, – внезапно сказал Матвей.
Борис и Геннадий утвердительно кивнули. Конечно же, тетушка шутит.
– Я так и знала, что среди вас найдется Фома неверующий! – старуха выглядела почти довольной. – Поэтому запаслась доказательствами.
Она подошла к старому комоду и вынула из ящика пакет. Небрежно бросила его на стол. Несколько секунд никто не решался протянуть руку. Наконец Борис, нервно проведя ладонью по бритому затылку, подвинул его к себе.
Пока он листал бумаги, все молчали. Первым не выдержал Иннокентий:
– Что там? Ну, что?
Ярошкевич поднял на него глаза.
– Сам посмотри.
– Я в этом ничего не понимаю!
– Дайте мне! – вмешалась Ева. – Ну, дайте же!
Она схватила документы и впилась в них взглядом. Зашуршали листы, которые женщина откладывала в сторону, пробежав глазами.
Марфа Степановна опустилась на стул и сидела неподвижно, словно высеченный из камня идол. Руки спрятала в карманы лоскутного фартука и смотрела перед собой, строго поджав губы.
– Все правильно, – изменившимся голосом проговорила Ева. – Марфа Степановна действительно собственница всего, что перечислила.
– Собственница, но лишь временно, – поправила Марфа. – Вот найду хозяина этим деньгам и все передам ему.
По комнате пронесся еле слышный вздох. На секунду Маше показалось, что она слышит мысли, повисшие в загустевшем воздухе.
«Старуха совсем съехала крышей. Свихнулась на почве религии, ударилась в православие».
«Черт, все правда… Она богата!»
«Какой же я идиот… Надо было приехать к ней раньше. Обтяпали бы дельце втихую, без этих глупостей с самым достойным».
«Нас не так много… У меня есть шанс!»
«Господи, сколько денег… Этого не может быть!»
Маша даже зажмурилась, чтобы прогнать голоса, витавшие в воздухе.
Когда она открыла глаза, Иннокентий дрожащими руками надевал очки в золотой оправе. Ева нервно накручивала на палец белокурый локон.
Гена Коровкин, точно проснувшись, придвинул к себе чашку с чаем и одним глотком осушил ее. Похоже, он даже не заметил, что именно выпил. Жена что-то шептала ему на ухо. Матвей Олейников сгреб бумаги и внимательно изучал их, покусывая губы. Борис с Нютой погрузились в размышления и сидели с отсутствующим видом.
Маша ожидала от встречи всего, что угодно, но только не этого. Теперь стало ясно, отчего так неприязненно и молчаливо встретили ее новые родственники: опасались, что появился новый претендент на наследство.
«Но они могут не волноваться, – подумала Маша. – Каждому ясно, что Олейникова остановит свой выбор на ком-то из тех, кого знает всю жизнь. Но как же это все странно и неожиданно…»
Марфа Степановна хлопнула ладонью по столу, прервав молчание:
– Ну что, все убедились, что я вам не сказки рассказываю? И не сошла с ума на девятом десятке? А, Иннокентий?
Анциферов вздрогнул и дернул себя за бородку, словно желая проснуться.
– Мы, конечно, сразу поверили, – пробормотал он. – Правда, скажу честно, решили, что Светицкий оставил вам кругленькую сумму на старость… Не думали, что все имущество.
«Светицкий – это ее покойный муж, – сообразила Маша. – Значит, Анциферов навел справки, прежде чем приехать».
Та же самая мысль пришла в голову Еве Освальд, потому что она тряхнула белой гривой и насмешливо поинтересовалась:
– Что, Иннокентий, провели проверку, да?
– А что такого? – вскинулся Анциферов. – Конечно, когда тетя Марфа сказала, что вышла замуж, я заинтересовался ее супругом! Это естественное человеческое любопытство! И потом, простите, тетя Марфа, но я, не скрою, был удивлен, услышав, что вы обрели мужа в семьдесят с лишним лет. Согласитесь, довольно почтенный возраста для брака! Я опасался, не обманул ли вас молодой аферист.
Ева насмешливо фыркнула.
– Именно так! – воинственно заявил Иннокентий. – Мало ли вокруг бездельников, покушающихся на чужое жилье. Я счел своим долгом навести справки. И узнал, что господин Светицкий обладал безупречной деловой репутацией. И к тому же – простите, тетя – был уже немолод.
Нюта успокаивающе погладила его по плечу.
– Поздновато ты решил наводить справки о молодом аферисте, – усмехнулся Борис. – Когда он уже скончался.
– И рад бы раньше, но ведь тетя Марфа скрыла от нас факт своего замужества! – парировал Анциферов. – Я узнал обо всем уже с запозданием, так сказать. Поэтому ваши намеки неуместны!
– Хорошо-хорошо! – Ева подняла руки, сдаваясь. – Мы поняли, что вами двигала только забота о Марфе Степановне.
Она переглянулась с Борисом и подмигнула ему.
Это подмигивание вывело Иннокентия из себя. Он расплылся в улыбочке, не предвещавшей ничего хорошего, и обратился к Олейниковой:
– Тетя Марфа, вы ведь сказали, что будете выбирать из родственников? Вот и всплыл один критерий: значит, смогут участвовать только мужчины. Женщины у вас в наследниках не водятся!
И зло сверкнул глазами из-под очков на Еву.
– Теперь водятся, – тихо сказал Коровкин, взглянув на Машу.
Анциферов только отмахнулся: эта не в счет!
– Надо бы еще проверить, что там за родственные связи такие, – пробормотал он. – Документики посмотреть. В соответствующих органах поинтересоваться. А то один телефонный разговор ничего не подтверждает. Кто угодно может мне позвонить и навязать себя в качестве родственницы!
Маше стало и смешно, и противно.
Она действительно раздобыла телефон Анциферова и позвонила на другой день после разговора с Марфой Степановной, почему-то решив, что ее ждет такой же теплый прием. Но Иннокентий, выслушав объяснения об открывшемся родстве, сдержанно выразил удивление по поводу обретения троюродной племянницы и решительно распрощался.
«Значит, это называлось „навязывать себя в качестве родственницы“?» – разозлившись, подумала Маша, решив не спускать Анциферову такой наглости.
Но ответить она не успела – ее опередила Ева.
– Меня, уважаемый Иннокентий, пригласила Марфа Степановна, – с лучезарной улыбкой, от которой Анциферова перекосило, поведала она.
Тот вопросительно взглянул на тетю.
– Ева у меня вместо Марка, – кивнула та, и Иннокентий сник. – Хоть замена и неравноценная.
Теперь настал черед Евы прикусить язык.
– Вы меня спрашивали, – Марфа повысила голос, – как я выберу самого достойного! Таиться не стану: я собираюсь неделю посмотреть за вами, родные мои, понаблюдать, проверить вас кое в чем. Есть у меня несколько задумок…
– Каких задумок? – тут же спросил Борис.
– Узнаешь в свое время, – загадочно ответила старуха.
– Но неделя – это очень долго… – жалобно протянула Нюта.
– Кому долго, тот может уехать в любую минуту. Я здесь насильно никого не держу. Мне же легче будет выбирать из оставшихся.
По дружному молчанию Маша поняла, что оставшимися будут все.
Олейникова удовлетворенно кивнула.
– А пока разговоры окончены, помогите-ка мне накрыть стол к ужину.
Все поднялись и, толпясь, отправились на кухню, излучая притворный энтузиазм.
Ужин был прост и вместе с тем бесподобен: отварная картошка с укропом, над которой поднимался ароматный пар, и куски мяса в горшках, запеченные в духовке. Мясо плавало в собственном соку и пахло так, что Маша, открыв крышку, едва удержалась от искушения вытащить здоровенный ломоть руками и обкусывать его со всех сторон, словно дикарь, дорвавшийся до добычи.
А Марфа уже доставала из трехлитровой банки упирающиеся пупырчатые огурчики, выкладывала на блюдо один к одному. За огурчиками из банок последовали блестящие грузди, лопающиеся от натуги помидоры, пестрое лечо.
Маша давно отвыкла от вкуса настоящей картошки. На рынке и в магазинах ей попадались только аккуратные, безупречные и безвкусные, как картон, клубни, и лишь изредка удавалось купить то, что напоминало картошку, которую она ела в детстве. Но блюдо Марфы было превосходным.
– Молодой картошечки еще нет, – развела руками Олейникова, – не сердитесь, буду потчевать вас прошлогодним урожаем.
Никто и не думал сердиться. Даже Ева Освальд, с сомнением глядевшая на угощение, в конце концов не устояла и, бормоча себе под нос: «прощай, диета, здравствуй, целлюлит» – осторожно положила на тарелку две картошины.
Все словно сговорились не упоминать о том, что собрало их вместе. За ужином никто не говорил ни о наследстве Марфы Степановны, ни о ее странном решении. Даже Иннокентий и Ева мило улыбались друг другу и болтали о пустяках. Лена расспрашивала Машу о ее работе, Матвей обсуждал с Коровкиным какой-то новый компьютерный вирус, а Борис Ярошкевич интересовался у Марфы, сколько человек помогает ей справляться с хозяйством.
Почти идеальное семейное торжество.
– Я наняла троих, – донесся до Маши ответ Олейниковой. – Нет, не из деревни. Местные мужички ленивые и безрукие. Им сколько ни заплати, все одно работать не будут.
– Где же вы своих работников нашли?
– Дала объявление в газету, все честь по чести: требуются работящие, непьющие, бессемейные. Жилье предоставлю, платить стану исправно. Приезжали ко мне разные люди, я с каждым поговорила, совета у высших сил испросила и, помолясь, определила к себе в помощницы трех женщин.
– Как – женщин? – изумилась Нюта.
– А вот так. Рассудила, что если баба решилась приехать, значит, положение ее совсем отчаянное. И работать она будет не за страх, а за совесть. Так оно и вышло. Помощницы у меня крепкие, рукастые, непьющие и за любое дело берущиеся.
– И где же они сейчас? – полюбопытствовал Иннокентий. – Почему мы их не видели?
– А я их по домам пока отправила, в отпуск, – отозвалась старуха. – На ближайшую неделю они мне здесь ни к чему. У меня другие помощники будут.
На миг наступило неловкое молчание, которое прервал Матвей.
– А как у вас, тетя Марфа, с теплицами обстоят дела? – спросил он.
И все вздохнули с облегчением: напоминание о предстоящем соперничестве больше не омрачало вечер.
После ужина Маша вышла на крыльцо. Ей хотелось разобраться в собственных ощущениях, разложить их по полочкам, но ничего не получалось: в голове оставалась мешанина из впечатлений от лиц, взглядов, слов, приправленная удивлением.
«Попрощаться бы сейчас, сесть в машину и уехать, невзирая на темень, – промелькнула вдруг мысль. – А эти пускай разбираются, кого осчастливит Марфа Степановна».
«И правильно, – одобрительно произнес в голове голос матери. – Жили без этих людей почти тридцать лет и еще столько же проживем. Чужие, странные – для чего они нам? Лучше бы так и оставались абстрактной родней, о которой мы знаем по фотографиям и старым письмам».
«У тебя, Аня, никаких писем не сохранилось, – вмешался неожиданно другой голос, мягкий. – Ты и фотографии оставила лишь потому, что забыла о них. Сама всю жизнь бежала от себя, а теперь хочешь, чтобы и дочь последовала твоему примеру. Зачем?»
Маша никогда не слышала бабушкиного голоса, но отчего-то была уверена, что Зоя именно так и говорила: мягко, неторопливо и с такой интонацией, словно улыбалась про себя. Но улыбалась не обидно, а понимающе.
«Не от себя, а от них», – холодно возразила мать.
«А они – это часть тебя, Анюта. Твое прошлое, пусть и не самое приглядное».
Скрипнула дверь – и голоса смолкли, точно оборвались.
Маша обернулась. На крыльцо, зябко ежась, выбрался Иннокентий и потянул воздух носом.
– Деревня, – доброжелательно поведал он. – Хорошо здесь, не правда ли?
Маша решила не напоминать о том, как он рвался проверить ее документы, и заставила себя вежливо поддержать разговор.
– Да, живописное место, – согласилась она. – Лес только мрачноватый. А река поблизости есть?
– Река имеется, а как же! Приток Оки. Чрезвычайно опасное место, я бы вам очень не советовал купаться там одной. Особенно ночью!
И многозначительно взглянул на Успенскую.
– Не буду, – пообещала Маша. – А что там опасного? Сильное течение?
– Омуты! – устрашающе сверкнул очками Иннокентий. – И течение тоже. Вы же слышали, наверное, об этом трагическом…
Дверь снова приоткрылась, и Маша не узнала, о чем трагическом она должна была слышать. Из дома осторожно выбралась Нюта, несмело улыбнулась им:
– Я не помешаю?
Такая она была беленькая, чистенькая и славная, что сразу хотелось улыбнуться ей в ответ.
– Ни в коем случае… – начала было Маша, но Иннокентий перебил ее:
– Ты уже сделала гимнастику? – строго спросил он.
– Конечно, – послушно кивнула Нюта.
– И дышала?
– Нет, не дышала.
– Сейчас же дышать, сейчас же! – загорячился Анциферов. – Нюточка, что за преступное пренебрежение своим здоровьем! А главное – здоровьем плода!
Он так и сказал: «здоровьем плода». Маша почувствовала, что краткий принудительный прилив симпатии к Иннокентию растворяется, словно под воздействием кислоты.
– Нюта обязательно должна дышать древесными испарениями, – объяснил Анциферов. – Последние исследования показали, что плодовые деревья выделяют эндорфины, благотворно влияющие на умственное развитие плода. Они всасываются на уровне клеточной мембраны, которая у беременных расширена.
Всю эту ахинею Иннокентий высказал с крайне серьезным видом. Он был похож на ученого, сообщающего группе последователей о недавнем открытии.
Маша открыла рот, чтобы поинтересоваться, насколько сильно расширяется клеточная мембрана у беременных и сузится ли она после родов. Но перехватила взгляд Нюты и промолчала.
Нюта смотрела на мужа с восторгом и обожанием.
– Кеша, я уже иду, – заверила она.
И пошла, переваливаясь, в сторону темнеющего сада.
«Господи, бедная девочка…»
На крыльцо вышла, кутаясь в белую шаль, Лена Коровкина.
– За окнами нашей комнаты кто-то хрюкает, – вздохнула она. – Предчувствую интересную ночь. А куда пошла Нюта? Уже темно…
– Дышать эндорфинами, – поведал Иннокентий, глядя вслед жене. – Это очень пригодится ей, когда настанет время рожать.
– Каким образом?
– Видите ли, мы планируем соло-роды, – с гордостью сообщил Анциферов. – Слияние с природой на каждом этапе беременности.
Маша с Леной недоуменно переглянулись.
– Что такое соло-роды? – уточнила Маша.
– Роды наедине с природой. Новая жизнь должна появляться естественно!
Женщины некоторое время осмысливали сказанное.
– Наедине с природой – это что же, совсем одной? – глупо спросила Маша.
Анциферов снисходительно рассмеялся и даже снизошел до того, чтобы похлопать ее по плечу.
– Вот видите, насколько вы, современные женщины, испорчены цивилизацией! Как сильно зашорен ваш разум! Вам сложно даже представить, что вы способны дать начало новой жизни без помощи многочисленных врачей и акушерок. А ведь еще сто лет назад простые русские бабы легко рожали в поле!
– И там же в поле мерли, как мухи, – дополнила Лена. – Не говоря уже о том, что ваша жена совсем не похожа на простую русскую бабу. Вы не находите?
Иннокентий небрежно пожал плечами:
– Ресурсы организма огромны! Надо лишь создать условия для их пробуждения. Именно этим я и занимаюсь.
– Вы врач? – ужаснулась Маша.
Анциферов приосанился.
– Я преподаватель философии! В некоторой степени и сам философ. Изучаю и трактую мир!
– Да-да, я заметила, – пробормотала Маша, вспомнив про расширяющуюся клеточную мембрану.
– Я уже подыскал для Нюты дом в деревне, – воодушевленно продолжал Иннокентий. – Представьте: не тронутая цивилизацией природа, вокруг хвойные леса, в деревушке пять стариков. В доме – одна комната с русской печью. Я отвезу туда Нюточку за неделю до родов, а потом, когда все благополучно завершится, заберу в город. И никаких врачей! Она все сделает сама.
В наступившей паузе отчетливо стало слышно, как тихонько напевает Нюта, бродя по саду.
– Иннокентий, вы в своем уме? – поинтересовалась Лена. – А если что-то пойдет не так? До нее же врачи доберутся только через три часа. Вы угробите и жену, и ребенка.
– Зашоренность! – ухмыльнулся Анциферов. – Это говорит ваша зашоренность! Что может пойти не так? Она молодая здоровая женщина. Следуйте зову природы, дамы, слушайте свое тело, и вы тоже поймете, что никакие врачи вам не нужны! А сейчас – пардон… Кое-что вспомнил.
Он протиснулся между Леной Коровкиной и Машей и скрылся в доме.
Маша обескураженно посмотрела на Лену.
– Послушайте… Он же дурак!
– Феноменальный, – подтвердила та. – И всегда таким был, сколько его знаю. А теперь его бредовые идейки подпитываются влюбленностью молоденькой девушки. Попробовал бы он провести свои эксперименты на первой жене! Она бы его самого отправила рожать в какие-нибудь Дальние Колдобины.
– Надо попробовать поговорить с Нютой, – решила Маша.
– Это ничего не даст. Муж для нее – колоссальный авторитет, а вы – малознакомая женщина. Вы же слышали: Анциферов – целый преподаватель философии! А она всего лишь медсестра.
Лена зябко закуталась в шаль.
– Что-то холодает… А я так надеялась, что установится жара и можно будет купаться в реке. Что ж, пойду к мужу, посмотрю, кто там хрюкал за окном. Спокойной ночи, Маша!
– Спокойной ночи, – машинально откликнулась Успенская. Она пыталась поймать мысль, которая несколько секунд назад, буквально только что, царапнула ее, словно иголочкой.
Мысль поймалась, когда Коровкина уже почти закрыла дверь – только белый уголок шали мелькнул в темноте.
– Стойте! Лена, подождите!
– Да?
– Река! – Маша попыталась собрать в одно целое обрывки услышанных сегодня фраз, и ей наконец удалось это сделать. – Иннокентий сказал, с ней связано что-то трагическое, и прибавил, что я должна была об этом слышать. Вы не знаете, о чем?
Коровкина постояла молча, теребя бахрому. Маша решила, что женщина вот-вот уйдет, но Лена все-таки решила ответить.
– Я догадываюсь, что он имел в виду, – проговорила она, тщательно подбирая слова. – Дело в том, что десять лет назад, когда мы в последний раз собирались все вместе, случилось большое несчастье. Погиб Марк Освальд, муж Евы. Он пошел купаться ночью и утонул в реке. Это стало ударом для всех нас, особенно для Марфы Степановны и Матвея.
– Матвея Олейникова?
– Да. Они с Марком были не просто двоюродными братьями, они дружили. И у Гены были с ним прекрасные отношения. Знаете, если бы вы познакомились с Марком, я уверена, у вас сложилось бы совсем иное представление о нашей семье. Он был очень спокойный, порядочный и добрый. Его все любили. Кроме…
Лена запнулась.
– Кроме?.. – повторила заинтригованная Маша и тут же спохватилась: – Простите, это не мое дело.
Лена поколебалась немного и качнула головой:
– Здесь нет никакого секрета. Я имела в виду Еву, жену Марка. Они с ним были уже в разводе, когда приехали на юбилей Марфы Степановны. Грустная это была картина, и жалко было смотреть на Марка. А потом все так ужасно закончилось…
Она оборвала фразу, словно поймав себя на том, что сказала лишнее. Быстро попрощалась и ушла.
От ее короткого рассказа у Маши осталось ощущение недоговоренности. Но задумываться об этом не хотелось. Случившееся десять лет назад не могло иметь к ней никакого отношения.
Маша постояла минут пять на крыльце, слушая тихое пение Нюты, доносившееся из сада. Бедная Нюта все гуляла между яблонь. «Как же ее угораздило выйти замуж за такого идиота, как Анциферов?! – сочувственно подумала Маша. – Хотя Иннокентий умеет пустить пыль в глаза… Все-таки нужно будет попытаться поговорить с ней, хоть это и не мое дело».
На низком черном небе одна за другой зажигались звезды. Пролетел невидимый самолет, мигая огнями. Запрокинув голову, девушка смотрела на огни, и одна Маша стояла на нижней ступеньке крыльца, подняв лицо к небу, а другая летела в самолете, прильнув носом к холодному иллюминатору, и пыталась разглядеть что-то там, внизу, в непроглядной черноте. Старая детская игра – представить себя где-то далеко-далеко, раздвоиться, посмотреть вниз с отстраненностью путешественника.
Потом самолет улетел, и Маша осталась наедине со звездами.
Возвращаться в дом не хотелось, но озноб пробирал все сильнее с каждой минутой. И пение в саду смолкло.
Маша перегнулась через перила и негромко позвала:
– Нюта!
Тишина.
– Ню-ю-юта!
Жена Анциферова не отзывалась.
Чертыхнувшись про себя, Маша переобулась в калоши и пошла по направлению к саду, от души жалея, что фонарик остался в машине.
Девушка вынырнула из темноты так неожиданно, что Маша вздрогнула.
– Нюта, все в порядке?
– Все замечательно! – заверила девушка. – После города здесь так хорошо дышится!
– В унисон с деревьями, – пробормотала Маша.
– Что? А, вы об идее Кеши! – Нюта негромко рассмеялась. – Мне не трудно сделать ему приятное и погулять среди яблонь. Ведь это и правда идет на пользу и мне, и малышу. Но четверти часа мне хватает, и больше я не выдерживаю.
– Так вы сейчас были не в саду, – догадалась Маша. – Неужели решились ночью исследовать территорию?
– Что вы! Я смотрела на деревню. Отсюда ее не увидеть, но если подняться на пригорок, то можно разглядеть огоньки за полем. В Зотово когда-то жила моя бабушка, а я гостила у нее каждое лето.
– Так эти места вам знакомы?
– Да. Хотя, знаете, – Нюта доверчиво склонилась к Маше, – в юности каждое лето я мечтала только о том, как бы поскорее вырваться из деревни в Москву. Мне казалось, здесь так скучно! Пять лет назад бабуля умерла, и мы сразу продали дом. А теперь я об этом жалею. Чудесные здесь места, такие тихие, привольные…
Хлопнула дверь, и громкий голос с крыльца недовольно окликнул:
– Нюта! Где ты?
– Это Кеша! Тревожится за меня…
Девушка горделиво улыбнулась и поспешила к дому.
– Если бы он за тебя тревожился, то не бросал бы одну в незнакомом месте, – пробурчала под нос Маша.
Слышно было, как на крыльце Иннокентий отчитывает жену за долгое отсутствие. Нюта покорно соглашалась.
Наконец голоса стихли, и Маша решилась пройти в дом. Сталкиваться с Анциферовым и вновь выслушивать его разглагольствования ей не хотелось.
Но в столовой было пусто и темно. В камине догорало одно-единственное полено, а в кресле кто-то сидел спиной к Маше и негромко посапывал.
Тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить спящего, она начала подниматься по лестнице. Но ступенька скрипнула под ногой, и человек у камина тут же вскинул голову и обернулся.
Это оказался Борис Ярошкевич. При виде Маши Борис рывком поднялся из кресла и направился к ней, слегка покачиваясь.
«Сейчас скажет какую-нибудь гадость, – поморщившись, подумала Маша. – Такие мужчины, как Борис, любят говорить гадости женщинам. Обязательно с обаятельной улыбочкой».
Ярошкевич остановился внизу, уцепившись за перила, глядя на Машу припухшими глазами. До нее донесся резкий запах алкоголя.
– А-а, свеженькая претендентка на наследство! – протянул он. – Наша новообретенная родственница! Признайся – думаешь, всех переиграешь? А, тихоня?
– Успокойтесь, Борис, мне некого переигрывать, – устало сказала Маша. – Марфа Степановна видела меня сегодня первый раз в жизни. Вряд ли она доверит имущество человеку, о котором ничего не знает.
– Первый раз, говоришь, видит, – Ярошкевич ухмыльнулся. – Почему же старуха сказала, что включила тебя в число тех, кто может рассчитывать на наследство Светицкого?
– Она так сказала?
– Да ладно тебе, не придуривайся! Ты же наверняка все продумала! Появилась вовремя, не раньше и не позже. Приехала сюда, чтобы запудрить Марфе мозги. Сидела здесь, притворялась, что интересуешься нами… От тебя разит враньем за десять шагов!
– А от вас разит перегаром, – резко сказала Маша. – Всего хорошего.
– О-о, как ты заговорила! Тихая-тихая, а с зубками! Стой! Куда пошла?!
Он ухватил ее за руку и потянул к себе.
– Рыжая стерва…
Звон оплеухи разнесся по всей комнате. Борис отшатнулся, ошеломленно держась за щеку.
Маша сделала шаг к нему. Голос ее дрожал от сдерживаемой ярости, когда она тихо сказала:
– Предупреждаю: еще одно оскорбление, и пощечиной вы не отделаетесь.
Отвернулась и неторопливо стала подниматься по лестнице.
Ярошкевич выругался. Будь на месте этой рыжей другая, она сразу получила бы сдачи. Борис не разделял глупое старомодное убеждение, запрещающее бить женщин. Можно, и даже нужно! Особенно если она первая подняла на мужчину руку.
Но в этой тонкой женщине с широко расставленными глазами необычного светло-орехового оттенка было что-то, что помешало Борису ответить ударом на удар. Быть может, то, что она его совершенно не боялась. Ярошкевич умел хорошо чувствовать чужой страх, особенно женский. Женщины всегда ощущали его готовность переходить границы – и боялись. «Трепетали», – так называл это Борис.
Он любил, когда трепетали. Любил их подчинять, и наибольшее удовольствие получал тогда, когда видел, что женщина унижена. «Дрессировка», – говорил Ярошкевич. Унизил – значит, показал, кто хозяин.
Эта рыжая почему-то не боялась и не трепетала. И пощечину ему влепила не возмущенно или с перепугу, а почти небрежно. Борис и не помнил, когда ему в последний раз с такой презрительной небрежностью давали по морде.
Он давно уверился в том, что является хозяином жизни, и женщин брал с той же надменной уверенностью. Это сводило их с ума. Ярошкевич вылезал из «лексуса», небрежно швырял ключи от машины на столик в ресторане, звал официантов халдеями и сидел, широко расставив ноги, – все это были минимальные и необходимые признаки настоящей мужественности, обеспечивавшей ему внимание девиц. И вдруг его облили презрением! И кто?! Женщина, на которую при других обстоятельствах он бы даже не взглянул. При мысли об этом правая щека Бориса вспыхивала, как будто его снова ударили.
«Ничего, – успокоил он себя, – еще сочтемся».
А Маша поднялась на второй этаж и возле своей комнаты столкнулась с Евой Освальд. Та не шла, а плыла в длинном шелковом халате нежно-розового цвета.
– Вы кого-нибудь видели внизу? – заинтересованно спросила она. – А то все разошлись, и мне так скучно!
– Там Борис, – сдержанно ответила Маша.
– А-а, Борис! Чудно. Он такой милый!
Маша в эту секунду скорее назвала бы милой гюрзу. Но спорить с Евой не стала.
– Оч-чень привлекательный мужчина, – промурлыкала Ева. – Вот с кем можно развлечься.
Последняя фраза вышла двусмысленной. Маша взглянула на улыбающуюся Еву и неожиданно прониклась уверенностью, что так и было задумано. Ее провоцировали.
Стоя лицом к лицу в узком коридоре, две женщины смотрели друг на друга: одна – с интересом, вторая – с вызывающей полуулыбкой.
«Если приглядеться, – думала Маша, – то становится ясно, что она вовсе не красива. Приплюснутый нос, лягушачий рот, небольшие глаза… Но при этом чертовски привлекательна».
«Ну же, разозлись! – мысленно подзадоривала Ева. – Или смутись! Пора уже пробить твою защиту, вывести тебя из равновесия».
– А вы не хотите составить нам с Борей компанию? – предложила она. – Это поможет нам лучше узнать друг друга. Раскрепостит.
– Вы нуждаетесь в раскрепощении? – с дружелюбным удивлением спросила Маша. – Могу порекомендовать знакомого психоаналитика. Он ведет тренинги личностного роста. Говорят, неплохо раскрепощает.
Улыбка исчезла с лица Евы.
– Спасибо, но вряд ли мне это пригодится. У меня нет лишних денег на психоаналитиков.
– Конечно, Борис обойдется значительно дешевле, – тут же согласилась Успенская, сохраняя выражение идиотского дружелюбия на лице.
«Она надо мной смеется?!» – Ева подозрительно уставилась на молодую женщину. Но та улыбнулась еще шире и пожелала хорошей ночи.
– Спокойной ночи, – любезно попрощалась Ева. – Завтра предстоит непростой день.
Обе они даже не догадывались, насколько непростым он окажется.
Глава 4
Утро Маши началось не с крика петуха, как она ожидала, а с мелодии Вивальди. Телефон вибрировал на стуле, угрожающе подползал к краю и грозился окончить жизнь самоубийством, если Маша немедленно не ответит на вызов.
Маша нашла сонным взглядом часы на стене. Стрелки стыдливо показывали семь двадцать.
Звонить в семь двадцать Маше мог только один человек. Она вздохнула и подхватила телефон, который уже нависал над пропастью.
– Привет, Олеся.
– Успенская, здорово! – Голос подруги звучал до отвращения бодро. – Ты что, еще спишь? Утро красит нежным светом!
– Олеся, у тебя совесть есть?
– А у тебя? Обещала позвонить, как только приедешь, и отчитаться. Я беспокоилась!
– Прости, забыла обо всем, – покаялась Маша. – Слишком много впечатлений.
– Мужчины? – жадно спросила Олеся и, не дождавшись ответа, потребовала: – Рассказывай!
Маша снова вздохнула. Это утро обещало стать утром тяжелых вздохов.
Олеся была давно и счастливо замужем. Ее муж обладал темпераментом флегматичной коалы, и все безумные Олесины затеи разбивались о него, словно волны об скалы. В качестве более податливой жертвы Олеся выбрала Машу и вот уже несколько лет бомбардировала подругу идеями о том, как обустроить ее жизнь.
На первом месте стоял выбор спутника. С энтузиазмом собаки, выкусывающей блох, Олеся выискивала мужчин в самых неподходящих и труднодоступных местах. Апофеозом ее заботы о Машиной судьбе стал визит в школу моделей, откуда Олеся привела за руку домой к подруге высоченного негра. Негр был цвета перезревшей сливы и не говорил по-русски.
Когда первый приступ естественного изумления у Маши прошел, она поинтересовалась, что ей делать с этим сокровищем.
– Распоряжайся! – разрешила Олеся с широким жестом Деда Мороза, отдающего ребенку весь мешок с подарками. – Заодно попрактикуешься в английском.
В эту секунду ее добыча, широко улыбнувшись, бойко залопотала по-французски.
– И во французском тоже, – ничуть не смутилась Олеся. – Машка, ты что?! Посмотри, какой красавец! Я ведь тебе не предлагаю выходить за него замуж. Приглядитесь друг к другу, обвыкнете… А там видно будет.
Маша обреченно привалилась к стене.
– Безумная ты женщина! – простонала она. – Отведи его туда, откуда взяла.
– Что, не нравится? – огорчилась Олеся. – На тебя не угодишь… Может, все-таки присмотришься к нему?
Но Маша так взглянула на подругу, что та поспешила ретироваться вместе с темнокожим спутником. Они исчезли, но Маше показалось, что широкая белозубая улыбка еще некоторое время висела в воздухе, как у чеширского кота.
С возвратившейся Олесей Маша попыталась поговорить очень сурово, чтобы вразумить раз и навсегда. Но куда там!
– Тебе двадцать восемь лет! – в Олесиной интонации звучал затаенный ужас, словно Маша давно перешагнула двухвековой рубеж. – А ты до сих пор не замужем. Ты женщина с неустроенной личной жизнью!
– С устроенной! – сопротивлялась Маша. – Меня все устраивает – значит, с устроенной! Хватит осаждать меня красавцами. Дай мне прийти в себя после развода!
– Уже шесть месяцев прошло!
– Олеся!
– Ну, хорошо, хорошо! Больше не буду о тебе заботиться, даже если попросишь.
Но исполнить обещание Олесе было не под силу.
– Так что там с мужчинами? – уточнила Олеся, заинтригованно дыша в трубку.
– Мужчины спят, – сообщила Маша. – И я тоже сплю! Позвоню позже.
– И все расскажешь! – настойчиво потребовала Олеся.
– И все расскажу, – слукавила Маша. – Пока!
Она отложила телефон и закрыла глаза. Но сон, как назло, испарился после разговора. Маша лежала в постели и вспоминала свой неудачный брак.
…………………………………………………
Есть взрослые женщины, которые настоящие взрослые женщины, а есть выросшие маленькие девочки, играющие во взрослых женщин. Их нормальное состояние – это удивление. Они рожают детей, удивляясь сами себе, водят машину, говоря каждый раз «ну, я совсем как большая», ходят на работу с той же увлеченностью, с какой в пять лет играли в куклы. С некоторых эта детскость облетает со временем сама. Другие теряют ее, получив оплеуху от судьбы – резко, наотмашь. А третьи сохраняют до самой смерти. И в гробу лежат с таким лицом, как будто сами удивляются: «Надо же! Вы только посмотрите, я – и в этом деревянном ящике! Разве не странно?»
Маша Успенская была из этих, последних.
Когда она встретила Артема, ее все в нем удивляло. Во-первых, невероятный красавец. Во-вторых, что поражало еще больше, не глуп.
Маше единственный раз в жизни попадался похожий типаж мужской красоты: он пользовался в компании большой популярностью, поскольку умел глазом открывать пивные бутылки. Когда все бутылки бывали открыты, окружающие теряли к нему интерес. В том числе и девочки.
Поэтому поначалу Машу поражало даже умение Артема строить связные фразы. Глобально – его способность разговаривать. В нем было что-то от красоты дерева, скалы или цветка. Ведь никто не ожидает, что они станут обсуждать пьесы Чехова или живопись Моне…
Но Артем разговаривал, и говорил умно и по делу. Он даже подшучивал над собой, что поднимало его в Машиных глазах на недостижимую высоту. Красивый умный мужчина, ироничный, образованный, прекрасно играющий на фортепиано, влюбленный в нее… Маша перечисляла достоинства любимого и мрачнела. Должен существовать какой-то подвох. Должен!
И подвох нашелся. Он носил красивое имя Изабелла, сокращенно – Белла. Белла Андреевна.
Белла Андреевна была мамой Артема. Она вырастила сына одна, без мужа. То есть мужья наличествовали, даже двое или трое, но к воспитанию мальчика не допускались. Белла желала сама взрастить цветок своей души.
Артем привел Машу в просторную квартиру в старом районе Москвы, где подъезд называли парадной, как в Питере, а возле лифта сидел консьерж с моноклем. Этот консьерж так поразил Машу, что она даже не услышала предупреждение Артема.
– Мама вечно боится, что я приведу кого-нибудь не того, – с улыбкой сказал он. – Постарайся ее понять. Все-таки я единственный сын.
Белла Андреевна оказалась прелестной крошечной женщиной с балетной осанкой. Рядом с ней Маша почувствовала себя неуклюжей дылдой. Белла окинула Машу ничего не выражающим взглядом и предложила поговорить тет-а-тет.
Машу провели в комнату, все стены которой были увешаны картинами кубистов. Успенская заинтересовалась одной, самой большой, висящей напротив входа. Художник, как ей показалось, весьма натурально изобразил ингредиенты для окрошки. Маша уже собиралась сделать комплимент таланту живописца, но тут Изабелла уронила мимоходом:
– Это мой портрет.
И Маша прикусила язык.
Ее усадили в кресло и приступили к допросу.
– Кто вы по профессии?
– Музыкант, – улыбнулась Маша. – Играю на флейте.
– Ах, на флейте, – зловеще протянула Белла Андреевна.
Это прозвучало так, словно ее ближайшие родственники погибли от рук сумасшедшего флейтиста. Маша поежилась и попыталась исправить дело.
– Флейта – чудесный инструмент… («Господи, зачем я оправдываюсь?») Если хотите, я могу вам как-нибудь сыграть…
– Боже упаси, – отказалась Белла. – У нас приличный тихий дом.
Маша едва не брякнула, что ведь она и не предлагает сплясать канкан, но удержалась.
Белла закурила, откинула назад черноволосую головку и выпустила дым в потолок.
– Ну, хорошо, – утомленно произнесла она, словно они беседовали целый час, – а животных вы любите?
– Люблю.
– И собак?
– Собак особенно, – подтвердила Маша.
Белла Андреевна приподнялась на стуле, вытянула шею, как цапля, напряглась и вдруг взвизгнула так громко, что Успенская вздрогнула.
– Леметина! Леметина! – верещала Белла.
Личико ее покраснело.
– Леметина!!!
У Маши мелькнула страшная мысль, что она наблюдает начало приступа болезни. А кричит мама Артема, требуя лекарство. Цвет лица Беллы укреплял Машу в ее подозрениях.
Она вскочила, готовая бежать за чертовым леметином и проклиная неизвестно куда пропавшего Артема. Он не может не слышать эти крики! Может, нужно вызвать врача?
И тут в приоткрытую дверь вбежало существо. У существа было толстое белое тельце, из которого там и сям торчали клочки, словно изнутри его слишком крепко набили ватой, четыре тощих кривых ножки и вытаращенные в немом ужасе огромные черные глаза.
Маша никогда еще не встречала таких пучеглазых собачек. К тому же на кончике морды у нее красовалась гигантская нашлепка размером со сливу и такого же цвета. «Вот это нос!» Маша замерла, разглядывая поразительное животное.
– Леметина! – облегченно воскликнула Белла Андреевна. – Гадкая, гадкая девочка! Я зову тебя уже полчаса.
Она подхватила собачонку на руки и звонко поцеловала в нос. Та приняла ласку снисходительно.
– Познакомься, Леметина, – церемонно сказала Белла, указывая на Машу, – наша гостья, Мария. Ей очень нравится Артем.
Собачка уставилась на Машу. «Ну-ну, – говорил этот взгляд. – Видали мы таких, которым нравится наш Артем».
– Иди, поздоровайся!
Белла Андреевна спустила собачку на пол, и та засеменила к Маше. В вылупленных глазах читалось недружелюбие.
– Леметина у меня как детектор лжи, – продолжала Белла, скрестив руки. – У нее удивительное чутье на людей. К нам в дом приходил один человек, и Леметина все время облаивала его. А потом оказалось, что он крал у нас серебряные ложечки и даже унес одну фарфоровую пару. Английскую чашку с блюдцем, вы можете себе представить?
Собачонка уселась напротив Маши. И вдруг гавкнула низким басом. Маша подскочила на стуле, и Леметина тотчас разразилась торжествующим лаем. «Вот она! Ворррр-ровка, воррр-овка! Хватайте ее! Держите ее! Р-р-рр-гав!»
Белла Андреевна высоко подняла тонкие брови.
– Леметина, ко мне!
Собачка послушно потрусила к хозяйке, то и дело оглядываясь на Машу, словно проверяя, не собирается ли та сбежать.
– У меня есть свои серебряные ложечки, – заверила Маша, пытаясь шуткой разрядить обстановку. Но чувствовала, что выглядит как закоренелый грабитель, специализирующийся на серебре. – И фарфоровая чашка с блюдцем тоже!
«Неубедительно оправдываешься», – говорил собачий взгляд.
В комнату заглянул Артем:
– Ну что, познакомились?
– Познакомились, – многозначительно уронила Белла Андреевна и поджала губы.
Маша промолчала.
Она надеялась, что ей все-таки удастся найти общий язык со вздорной Леметиной, по-домашнему – Лямочкой…
Как бы не так! Собачонка бдительно стояла на страже хозяйских интересов. Белла Андреевна не желала, чтобы ее сын женился на музыкантше. И Лямочка следовала по пятам за Машей, точно конвоир, сопровождающий опасного преступника. Невозможно было повернуться, чтобы не наступить на подлую собачонку. Леметина путалась под ногами, словно нарочно. А стоило Маше ненароком задеть ее, она разражалась отчаянным пронзительным визгом.
Однажды девушка не сдержалась и в сердцах бросила собачонке:
– Один из твоих родителей наверняка был свиньей!
На ее беду, в комнату как раз вошла Белла Андреевна, обеспокоенная визгом своей любимицы. Она услышала слова Маши и побагровела от возмущения.
– Будьте любезны, оставьте генеалогические изыски для своей семьи, – отчеканила Белла. – А у Леметины блестящая родословная.
Подхватила тут же замолчавшую собачонку под мышку и поплыла к двери с видом вдовствующей королевы. Но перед тем, как выйти, обернулась и уколола напоследок:
– И вряд ли вы можете похвастаться таким же родословным древом, как у нее!
«Было бы странно, если бы я могла похвастаться таким же древом, – мысленно возразила Маша. – Я же не собака».
Хлопнула дверь, Успенская осталась в одиночестве.
