Внеклассное чтение бесплатное чтение
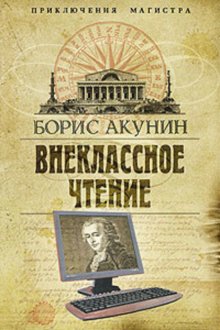
Глава первая
Рассказ неизвестного человека
Далась им эта любовь, подумал Собкор, шагнув на эскалатор и разглядывая наплывающий сверху рекламный щит. Реклама была такая: рука в старинной кожаной перчатке держит пышную розу за шипастый стебель, внизу двустишье:
- Чтоб не пораниться колючками любви,
- «Трех мушкетеров» ты на помощь позови.
И ниже готическими буквами: «Презервативы „Три мушкетера“. Размеры „Портос“, „Атос“, „Арамис“».
Стишки, конечно, дрянь, но с формальной точки зрения и они тоже поэзия. Разве не странно, что из трех основных инстинктов – насыщения, самосохранения и продолжения рода – поэзия зациклилась именно на третьем, наименее важном. Есть ли хоть одно гениальное стихотворение, воспевающее чувство голода или страха? Нету. А между тем пустое брюхо или смертный ужас – ощущения посильней любовного томления. Подумаешь, любовь. (Тут Собкор сердито покачал головой.) Теперь вот никакой любви нет, она пятьсот семнадцать дней как на Ваганьковском, а ничего, жить можно. Даже еще лучше, чем прежде. А будь любовь жива, Великая Тайна нипочем бы не открылась. Жил бы себе дурак дураком – «Поле чудес» смотрел да грядки на даче копал. А потом помер бы слепым бараном, не найдя Пути.
С другого плаката, уже не рекламного, а так, для улучшения настроения, Собкору посылала воздушный поцелуй девушка в метрополитеновской форме. «Легкого вам пути», было написано под девушкой. Он вежливо поклонился, сказал: «Спасибо».
Увидел щит, призывающий хранить деньги в отделениях кредитно-сберегательного товарищества «Капитан Копейкин» и уже достал блокнот – взять на заметку, для последующей проверки, но тут углядел впереди непорядок: какой-то парень стоял рядом с размалеванной девицей, загородив проход. Собкор поднялся на несколько ступенек, тронул нарушителя за плечо, сказал:
– Стойте справа, проходите слева.
Нарушитель открыл было рот – наверное, собирался сказать грубость, но, повнимательнее посмотрев в строгие, ясные глаза Собкора и задержавшись взглядом на широких плечах (вот они, утренние пробежки и гантели), посторонился.
Пришлось и дальше идти пешком, хотя до верха было еще ого-го сколько. Ничего, это полезно для укрепления мышц.
Больше слева никто не стоял, но, пока поднимался, Собкор успел сказать «Нет» плакату шампуня, призывавшему: «Скажите „нет“ перхоти», и спросить «Как?» у тетки со значком «Хочешь похудеть, спроси меня как». – Что? – сначала удивилась тетка, а потом спохватилась, заулыбалась. – Вы хотите похудеть?
– Нет, – ответил он. – Я уже похудел. Раньше был живот, а теперь видите? – Обтянул на себе пиджак, чтобы она увидела, какая у него замечательная фигура.
– Зачем же вы тогда спрашиваете, как похудеть? – еще больше удивилась тетка.
– Я не спрашивал вас, как похудеть. Я просто спросил: как? Как вам не стыдно обманывать людей и наживаться на их доверчивости? Чтобы похудеть, нужно мало есть, и никаких других способов не существует. Я вот перестал есть и похудел на тридцать два килограмма.
Шарлатанка заоглядывалась, голос стал жалобным:
– Что вы ко мне пристали? Кто вы вообще такой?
– Собкор, – ответил он и улыбнулся, потому что звучание этого слова доставляло ему удовольствие.
– А? Чего? – растерялась тетка.
– Вы хотите знать, собкором чего я являюсь? – вежливо осведомился он. – Правды. Всего вам наилучшего. Задумайтесь, правильно ли вы живете.
Дотронулся двумя пальцами до краешка воображаемой шляпы и ступил с распластавшейся ступеньки эскалатора на серый пол вестибюля.
Так. Где тут выход на Солянку? Ага. В рекламном объявлении был только контактный телефон, по которому Собкору задали множество совершенно излишних, необязательных вопросов, но хватка у него была профессиональная, журналистская, и своего он добился, выпытал-таки адрес.
Собкор достал из кармана сложенный вчетверо лист еженедельной газеты «Эросе», развернул.
Вот оно.
СТРАНА СОВЕТОВВам нужен добрый совет, но вы не знаете, к кому обратиться?Готовитесь принять важное решение и колеблетесь в выборе?Вам кажется, что все пропало, что выхода нет?Безвыходных ситуаций не бывает! Выход есть всегда!Его найдет для вас специалист по умным советамМАГИСТР Н.ФАНДОРИН, ПРЕЗИДЕНТ «СТРАНЫ СОВЕТОВ»– волшебного государства, куда не нужна виза и где каждого гостя встретят с уважением и пониманием.Результат гарантирован!Контактный телефон 7-095—8 887 777
Здоровенное объявление, во всю полосу. Собкор позвонил в рекламный отдел «Эросса», омерзительного порнографического издания, которое он регулярно покупал в киоске (надо ведь отслеживать степень падения нравов), и выяснил, что объявление на всю полосу стоит пятнадцать тысяч долларов. Значит, у специалиста по умным советам, денег куры не клюют, бизнес процветает. Ну и название – «Страна советов». Это у них, современных циников, называется стебом. Ничего, еще посмотрим, кто будет смеяться.
Здесь же, на газетной странице, мелким, дерганым почерком был записан продиктованный по телефону адрес: ул. Солянка, дом 1, офис 13-а.
Свернув лист и сунув его обратно в карман (там лежала еще одна бумага, и пальцы Собкора любовно погладили ее плотные, острые края), он двинулся налево по подземному переходу.
Каждый раз перед выездной сессией охватывало особенное волнение, пожалуй, составлявшее главную прелесть возложенной на него миссии. С чем бы сравнить это ощущение? Будто грудь всасывает не мутный московский воздух, а охлажденное шампанское, которое щекочет бронхи и трахею веселыми пузырьками. Но это не самодовольство и, упаси Боже, не кураж – мол, захочу казню, а захочу помилую. Никакого произвола, никакой предвзятости. Раз ты избран быть взыскующим оком и указующим перстом, изволь отрешиться от всего личного, не зарывайся.
А все же, знать, есть во мне что-то особенное, если избран именно я, подумал Собкор, посмотрел на себя в витрину киоска и остался доволен: статная фигура, гордая осанка, костюм – мешковатый, но элегантный, а ведь куплен еще в семьдесят седьмом, во время бейрутской командировки.
Дом номер один по улице Солянке раскинулся чуть не на целый квартал, был он с несколькими дворами и множеством подъездов. Поди-ка отыщи, где тут офис 13-а.
Ничего, нашел.
Любопытная оказалась фирма «Страна советов»: ни вывески, ни таблички. Знать, не афиширует магистр Н.Фандорин перед соседями свой бизнес.
Горячо, подсказал участившийся стук сердца, горячо!
Подъезд, правда, разочаровал. Ни охранников, ни консьержки, даже кодового замка нет – входи кто хочет. Стены облупленные, лифт допотопный.
Ясное дело: прибедняется цельнополосный рекламодатель, уклоняется от налогов, не желает делиться с обществом своими жульническими доходами.
На пятом этаже медная табличка – просто «Офис 13-а», и все. Открыла Собкору длинноногая красавица с фиолетовыми волосами и шальными зелеными глазами. Кожаные рейтузы в обтяжку, высоченные каблуки, оранжевого цвета губы.
– Я не ошибся? – спросил Собкор. – Здесь находится фирма «Страна советов»?
И холодок разочарования: а что если это просто бордель? Вот ведь и реклама напечатана не где-нибудь, а в газете «Эросс». Тогда время потрачено впустую, мелкие грешки не по нашей части.
– Абсолютно, – ответила впечатляющая девица. – Зо вас?
Это по-немецки, не сразу догадался Собкор. Означает: «Ну и?». Не очень-то любезно.
– Я прочитал в рекламе, что здесь торгуют советами… А у меня как раз такая ситуация, что очень нужно посоветоваться…
Нарочно так сказал. Если тут публичный дом, сразу дадут от ворот поворот.
Но экзотическая красотка кивнула:
– Клиент? По рекламе? Антре.
Тоже еще полиглотка выискалась. Вид офиса подтверждал гипотезу о намерении надуть фискальные органы. Бывшая коммуналка, никаких особенных евроремонтов. Коридор с какими-то гравюрками по стенам вывел в маленькую приемную: письменный стол с оргтехникой, диванчик, кактус на окне – в общем, кто честной бедности своей и все такое прочее.
Разноцветная нимфа уселась за компьютер, из чего следовало, что она здесь трудится секретаршей. Собкор только головой покачал.
Должно быть, к приходу налоговых проверяльщиков эта Гелла смывает косметику и переодевается скромницей, а то на нее достаточно посмотреть – сразу ясно, за какую работу ей платят зарплату и, можно быть уверенным, не маленькую.
– Логин? Пароль? – спросила фифа, щелкнув по клавиатуре, и Собкор снова забеспокоился – не вышло ли ошибки. Пароль?
Здесь что, какой-то закрытый клуб?
– Имя, цель визита? – вздохнув, перевела сама себя секретарша.
Окинула посетителя взглядом и наморщила носик, в точеном крыле которого посверкивал маленький бриллиант. Собкор иронически улыбнулся – стало быть, не произвел на нее солидного впечатления.
– Пишите: Николай Иванович Кузнецов. – Сделал паузу, уверенный, что это имя поколению фиолетововолосых и оранжевогубых ничего не говорит. Так и есть – секретарша как ни в чем не бывало запорхала пальцами по клавишам. – А про цель визита я, сообщу самому магистру. Можно войти?
Он кивком показал на дубовую дверь, за которой, очевидно, располагался кабинет проходимца.
– Абонент временно недоступен, – буркнула нахалка, отвернувшись от неинтересного клиента.
Достала зеркальце, полюбовалась на свою холеную мордашку. Потом поджала губы, поелозила ими туда-сюда. Он знал: это чтобы помада легла равномерней. И Люба так делала. Только помада у нее была приличного цвета, светло-розовая.
Воспоминание относилось к прежней, ненастоящей жизни, и Собкор затряс головой, отгоняя его прочь.
– Я не понял. Его нет на месте? Или у него посетитель?
Секретарша опять ответила непонятно:
– Шеф путешествует во времени. Хотите – ждите. Вон, в чилл-ауте. – И мотнула головой в сторону диванчика.
Если б были собственные дети, я бы наверное, лучше понимал язык современной молодежи, подумал Собкор. А так, без домашнего репетитора, чувствуешь себя с новым поколением каким-то иностранцем.
На столике вместо обычных журналов лежали альбомы с репродукциями. Репин, Васнецов, Лансере, Борисов-Мусатов.
Полистал немного. Хорошо раньше художники писали, не то что нынешние.
– Шит-мерд-шайзе! – Секретарша бросила зеркальце на стол. – Не розовый, абсолютно!
Выскочила из-за стола, убежала в коридор, сердито топоча каблучками.
Истеричка. Ведет себя, будто она здесь одна. Или носом чует, у кого есть деньги, а у кого их нет? Которые без денег для нее не люди.
А я теперь и есть не вполне человек, сказал себе Собкор, и внутри у него все затрепетало, потому что приближался Миг Истины, высокоторжественный момент Принятия Решения. Тут следовало положиться на первое впечатление, не искаженное фильтром логики и предубеждения, прислушаться к голосу собственного сердца, которое есть частица Бога. Не шутки ведь, человеческая жизнь на весы положена, пускай даже человечишко гад и обманщик. Права на ошибку нет, слишком высока и страшна возложенная ответственность.
Собкор поднялся и, коротко постучав, открыл дубовую дверь.
Кабинет у «президента волшебного государства» был просто тошнотворный. Во-первых, огромный монитор на столе (это у них, новых русских, такая мода – чем больше пластмассовый ящик, тем, как они выражаются, «круче»). Во-вторых, на стене висел старинный портрет какого-то царского чиновника в вицмундире (тоже мода, любой прощелыга нынче – непременно столбовой дворянин и кичится аристократическими предками). В-третьих – какие-то застекленные дипломы (насмотрелись, низкопоклонники, голливудских фильмов). А венец всему – маленький баскетбольный щит в углу. Яппи доморощенный!
И у самого видок соответствующий. Гладкомордый, подтянутый, с аккуратным пробором, в твидовом пиджачке, из кармана торчит платочек в тон галстучку. Фитнес-центр, гольф-клуб, искусственный загар, тьфу!
Н. Фандорин быстро повернул свой монитор-переросток, чтобы вошедший не увидел даже краешек экрана (знать, есть что скрывать!), и поднялся. Ну и дылда – метра два, вряд ли меньше. Губы магистра механически растянулись в улыбке, однако в серых глазах читалось недвусмысленное: принес же тебя черт.
Еще бы! Ведь в эту самую минуту решалась судьба Данилы Фондорина. Сумеет ли юный сержант Семеновского полка попасть в камер-секретари к супруге наследника престола, будущей великой императрице. Для этого нужно было пройти испытание – разгадать хитроумную загадку, предложенную Екатериной Алексеевной. При неудаче Данила попадал на гауптвахту, откуда не так-то просто выбраться, а играющий терял очки и время.
Странное занятие для сорокалетнего отца семейства – сочинять компьютерные игры, да еще в рабочее время. Добро бы на заказ, а то исключительно для собственного удовольствия. Кому еще могут быть интересны квесты и бродилки, героями которых являются твои предки, все эти присыпанные песками времени фон Дорны, Фондорины и Фандорины, секунд-майоры, камер-секретари, статские советники? Вот, может быть, когда сын подрастет…
Ах, если б получше разбираться в программировании, да иметь высококлассную аппаратуру, тогда можно было бы создать полноценную игру с анимацией и умопомрачительными эффектами, а так приходилось довольствоваться чем-то вроде диафильма. Молодую Екатерину Ника сосканировал с портрета Торелли, только убрал царскую корону. Даниле досталось лицо романтического красавца Ланского – изображений далекого предка в семье не сохранилось. Бог знает, как Данила Ларионович выглядел на самом деле.
От екатерининского камер-секретаря уцелела одна-единственная реликвия, листок с росчерком: «Вечно признательна. Екатерина». Летописец рода, Исаакий Самсонович Фандорин, живший в первой половине девятнадцатого столетия, сопроводил знаменательный документ сухой припиской: «Собственноручная роспись ЕИВ государыни императрицы Екатерины Великой», воздержавшись от каких-либо комментариев. Может, вовсе и не Даниле сулила вечную признательность Новая Семирамида – это уж были Никины предположения, хоть и вполне правдоподобные, если учесть близость предка к всероссийской самодержице.
За что признательна – вот вопрос, ответ на который теперь, два с лишним века спустя, сыщется разве что в игре «Камер-секретарь». Никакой ответственности и полный простор для фантазии, то есть абсолютная противоположность всему, чему учили Николаса Фандорина в Кембриджском университете. Жалкая участь для магистра истории: вместо того чтобы стать серьезным исследователем, превратиться в сочинителя псевдоисторических сказок. Но, поразительная штука (в этом Ника мог признаться разве что самому себе), сказки занимали его воображение гораздо больше, чем научно доказанные факты.
Скрестятся ли судьбы семеновца и великой княгини, получит ли Данила возможность оказать Екатерине таинственную услугу, которая, быть может, изменит ход российской истории, – вот к какому нешуточному перепутью подобрался Николас Фандорин, когда дверь кабинета вдруг распахнулась и на пороге возник сутулый человек в мешковатом костюме из давно позабытого синтетического материала (кажется, он назывался «кримплен»), с подложенными плечами и широкими, острыми лацканами – просто ходячий привет из семидесятых.
– Вы ко мне? – глупо спросил Фандорин (ну конечно к тебе, к кому же еще?) и стыдливым школярским движением повернул к себе монитор, чтобы человечек не увидел Данилу (вид сзади) и Екатерину Алексеевну (анфас).
Нужно было возвращаться из восемнадцатого столетия в двадцать первое.
После того как жена подарила Нике на день рождения цельнополосную рекламу в своей газете, в офис «Страны советов» валом повалили посетители. Правда, по большей части из «эроссиян», как называли себя постоянные читатели «Эросса», издания специфического или, как теперь говорят, узкопрофильного. Прежде всего «волшебным государством, куда не нужна виза», заинтересовались половые затейники, вообразившие, что магистр Н.Фандорин сулит им какие-то доселе невиданные радости плоти. Дальше приемной этот род гостей, как правило, не попадал – искателям чувственных услад не удавалось прорваться сквозь Валю. Беда в том, что новый тип посетителей пришелся Вале по душе, а отдельные представители еще и по вкусу – с такими беспутное существо, исполнявшее в фирме секретарско-ассистентские обязанности, напропалую кокетничало и подчас даже уславливалось о свидании. Николас уже начинал беспокоиться, не привлекут ли его к ответственности за притонодержательство.
Было двое посетителей иной категории, сначала мужчина, потом женщина. Оба мрачные, изъясняющиеся недомолвками. Эти вообразили, будто обещание «гарантированного выхода из любой ситуации» – реклама киллерского агентства, и пришли оформить заказ.
Мужчину, который задумал истребить нечестного бизнес-партнера, Ника сумел образумить – посоветовал отплатить вору той же монетой и даже, пораскинув мозгами, предложил остроумную схему операции под кодовым названием «Возмездие». Клиент ушел окрыленный. Обещал в случае успеха заплатить щедрый гонорар.
Заказчица, жаждавшая крови бабника-мужа, оказалась орешком покрепче. Фандорин прочел ей целую лекцию по патологоанатомии супружеских измен. Сказал, что всегда виноват не тот, кто изменил, а тот, кому изменили. Люди женятся для того, чтобы утолить свой тайный голод. Если супруг ищет удовлетворения на стороне, объяснял Николас, значит, вы не насыщаете его голода. Метаболизм любовных отношений непредсказуем: вы можете быть с вашим партнером добры и щедры, а ему, наоборот, нужна женщина злая и скупая. Вы его кормите пряником, а все его существо просит кнута. Или наоборот. А если человек мечется от одной интрижки к другой, это означает, что его внутренний голод очень велик, и одному партнеру накормить беднягу не под силу. Дон Жуан – несчастнейшее существо, эмоциональный калека. Его удел – все время поглощать пищу, не ведая сытости. В общем, распинался целый час. Обманутая жена выслушала проповедь молча, сказала «спасибо» и ушла, кажется, оставшись при своем кровожадном намерении.
Алтын, конечно, хотела как лучше. Представить страшно, каких деньжищ стоит реклама на полосу в газете с трехмиллионным тиражом. То есть, разумеется, будучи главным редактором, Алтын не заплатила ни копейки – так сказать, злоупотребила служебным положением (перед самой сдачей номера слетела полоса, заабонированная постоянным рекламодателем, стрип-клубом «Либидиная песня»), но все равно подарок был царским.
Спутница жизни давно ломала голову над тем, как помочь Никиному бизнесу, при этом не ущемив мужского самолюбия. Заработки продавца добрых советов были, увы, смехотворны, не шли ни в какое сопоставление с жалованьем главного редактора еженедельной газеты. Алтын давно твердила, нужна реклама, без нее не продашь никакой товар, даже самый качественный. Вот хитрая азиатка и решила воспользоваться днем рождения, чтобы наполнить рекламным ветром обвисшие паруса «Страны советов».
Название компании рождалось в муках. Никин соучредитель и главный инвестор предлагал окрестить фирму-родоначальницу услуг нового типа «Палочкой-выручалочкой», но Алтын встала стеной, заявила, что с малолетства ненавидит эту слюнявую детскую сказку. Потом, уже возглавив газету «Эросс», из вредности завела рубрику совершенно недетского содержания именно с таким заголовком.
«Страну советов» выдумал сам Фандорин, очень гордился своей находкой, однако отстоял ее с тяжелыми боями. И соучредитель, и жена в один голос твердили, что их тошнит от этого словосочетания, что самим своим звучанием оно будет отпугивать состоятельных клиентов, приманивая лишь козлов-коммунистов, у которых все равно нет денег. И все же Николас не поддался. Нельзя делать вид, что этих семидесяти лет в нашей истории не было, говорил он. Почему нужно шарахаться от лексики и символики советского периода? Это все равно, что делать вид, будто в твоей жизни не было прошлого года, и только позапрошлый и все предыдущие. Или что ты родился на свет не от папы с мамой, а прямо от бабушки с дедушкой. Эти семьдесят лет были, и нечего их демонизировать, малевать сплошь черной краской. От этого лишь возникнет опасность, что некоторое время спустя советскую эпоху вознесут на пьедестал и реабилитируют, как всякого чрезмерно наказанного. Да, в Советском Союзе было много скверного, но ведь немало и хорошего. На счету у злодеев-большевиков по меньшей мере три великих свершения, оказавшиеся не по зубам монархии: накормили голодных, обучили неграмотных и победили германский империализм. А взять те же всеми проклинаемые Советы? Покойного отца, сэра Александера, от этого слова начинало трясти, он даже в бытовой лексике избегал употреблять ужасное звукосочетание, говорил не «мой вам совет», а «моя вам рекомендация», не «давайте посоветуемся», а «давайте порекомендуемся». Скажите на милость, что плохого в Советах? Стихийно возникшая форма народного парламентаризма.
Ох, и наслушался же Николас оскорблений от любимой супруги за импотентский объективизм и ублюдочное европейское левачество! В какой-то момент даже дрогнул, согласился было на «Страну добрых советов», но в последний момент прилагательное все-таки убрал – очень уж получалось сиропно.
А опасение насчет нищих «козлов-коммунистов», которые валом повалят на родное сердцу обозначение, не сбылось. За все шесть лет существования фирмы этот кримпленовый был первым, кто выглядел как гость из грустного социалистического прошлого.
– К вам, к вам, к кому же еще, – ответил посетитель на дурацкий вопрос и прибавил (кажется, с сарказмом). – Если вы и есть сам Н.Фандорин, магистр, специалист по умным советам и президент. У меня очень сложное, просто-таки совершенно неразрешимое дело. Какая у вас такса?
Николас взглянул на вошедшего по-новому – с надеждой. Может быть, первое впечатление обманчиво и наконец появится настоящая работа? Прорвался же этот плюгавец через Валю – значит, сочтен перспективным. Странно, правда, что вошел без доклада.
Сложных дел «Стране советов» не перепадало давно. Впрочем, и несложных тоже. Не считать же работой излечение семнадцатилетней студентки, безнадежно влюбленной в актера Меньшикова.
Совет: Запереться в комнате; ни на что не отвлекаясь и не делая перерывов, с утра до вечера смотреть кассету с фильмом «Сибирский цирюльник» вплоть до позит. рез-та.
Процесс: Через 2 дня, после 23-го просмотра, звонок. Рыдания, крики: «Олежек – бог, бог, бог!»
Совет: Продолжать процедуру.
Рез-т: Еще через три дня, после 57-го просм., полное выздоровление. Восстановление сна, аппетита, интереса к др. предст-лям муж. пола. (Из записной книжки Н. Фандорина), или консультирование домоуправления по поводу участия в конкурсе «Московский дворик».
Совет: не высаживать траву, все равно не приживется; выкрасить стены дома a la лунный кратер; членов жюри пригласить на осмотр звездным вечером;
Рез-т: 1-ое место по р-ну. (Из записной книжки Н. Фандорина).
Правда, в начале осени пришлось изрядно повозиться, вызволяя из нехорошей компании двоюродного племянника жены, шестнадцатилетнего балбеса. Компания оказалась не просто нехорошая, а криминальная, подсаживавшая на иглу подростков, так что консультирование вылилось в целую детективную эскападу, едва не стоившую Николасу жизни, однако не принесшую фирме ни гроша. Не станешь же брать деньги с родственников?
Последний серьезный заработок выпал полтора месяца назад. Одной торговой даме, открывавшей бутик для взыскательной клиентуры, понадобилась оригинальная идея – чтоб магазин получился не такой, как у всех. Ника предложил назвать заведение «Лохмотья», в витрине разложить рваные мешки и грязные ящики, голые кирпичные стены расписать граффити хулиганского содержания, примерочной придать вид милицейского «обезьянника», кассу расположить в мусорном баке и прочее в том же роде. Клиентка от этой чуши была в восторге, давала пять тысяч долларов наличными, однако Ника, принципиальный сторонник законопослушности, попросил перечислить гонорар рублями через банк. Заказчица никак не могла понять, чего он от нее хочет. В конце концов пришлось перейти на доступную ей терминологию. «Сударыня, – сказал Фандорин. – Я зеленый черняк не беру, извольте слить деревяшкой по безналу». От такой эксцентричности бизнес-леди пришла в неописуемый восторг: «Деревяшкой, по безналу! Хай класс!». Однако при переводе удержала 31,6 % на единый социальный налог. Это бы еще ладно, но ложкой дегтя было то, что подослала денежную клиентку все та же Алтын. Как ни посмотри, а и тут Николас выходил иждивенцем и захребетником.
Винить в этом кроме самого себя было некого.
Женившись и решив поселиться в России, баронет Николас А. Фандорин, во-первых, счел своим долгом поменять британское гражданство на российское (чего Алтын не могла ему простить до сих пор), а во-вторых, продать лондонскую квартиру и перевести все деньги в московский банк, чтобы содействовать росту отечественной экономики. Во время дефолта 98-го банк преотличным образом лопнул, и бывший подданный ее величества оказался в отчаянном положении: на одной чаше весов неработающая жена, двое годовалых детей и привычка к определенному уровню жизни, на другой – странный бизнес, который неплохо смотрелся как хобби состоятельного рантье, однако обеспечить существование семьи из четырех человек никак не мог. Если б благодетель-соучредитель как раз в ту пору не надумал создавать масс-медиальную империю и не предложил Алтын Мамаевой (взять фамилию мужа свирепая феминистка, конечно, и не подумала) возглавить новый эротический еженедельник, неизвестно, что и было бы.
– Неразрешимых дел не бывает, – успокоил Николас нового клиента и улыбнулся обширной европейской улыбкой, от которой так и не отучился за годы, прожитые в неулыбчивой России, хотя отлично знал, что у аборигенов эта демонстрация достоинств «колгейта» вызывает недоверие и настороженность. Нередко бывало так: подойдет он к человеку на улице спросить дорогу, приветливо улыбнется, а на него сразу рукой машут – отстаньте, мол, надоели, зомби проклятые, со своей Церковью Объединения.
– Про оплату мы поговорим после, когда вы изложите мне суть дела. Но сначала скажите, пожалуйста, как вас зовут. Кто вы по профессии?
– Звать меня Николай Иванович Кузнецов, – представился посетитель, усаживаясь на стул так важно, словно это был королевский трон. – А по профессии я судья. Значит, так-таки не бывает? Любую проблему расщелкаете, как орех?
Фандорин сразу догадался, что имя ненастоящее, но это было нормально – должно быть, деликатное дело, требующее приватности. Судья? Непохож. Но в России судьи вообще мало похожи на судей, нет в них ни вальяжности, ни ощущения собственной неуязвимости. Хотя взгляд у непрезентабельного господина Кузнецова был, пожалуй, именно такой, какой подобает профессиональному вершителю судеб: тяжелый, уверенный, бескомпромиссный. Может, и вправду судья.
Или псих, подумал вдруг Николас, приглядевшись к «судье Кузнецову» повнимательней. Неужто снова пустая трата времени?
– Если хорошенько подумать, – сказал он вслух, улыбнувшись еще шире, – выход отыщется всегда, даже в самом тяжелом положении.
Аноним (именно так мысленно окрестил Фандорин собеседника, потому что в России называться «Кузнецовым» – все равно что представляться мистером Иксом) удовлетворенно кивнул, будто именно на такой ответ и рассчитывал. Глаза с расширенными зрачками блеснули не то азартными, не то все-таки безумными искорками.
– Сколько этажей в этом доме? – спросил он ни к селу ни к городу.
– Шесть, – терпеливо ответил Фандорин. – И еще чердак. А почему вы спра…
– Отлично. Предположим, полез я на крышу – ну, к примеру, поправить телевизионную антенну. Поскользнулся, да и сорвался – несчастный случай. Лечу вниз, мимо вашего чудесного окошка. – Посетитель показал на высокое окно, выходившее на Солянку. – Вы и в этом случае найдете для меня спасительный выход? Поможете умным советом?
– Разумеется. Если вы по дороге залетите ко мне в форточку и сформулируете свою проблему, – в тон ему ответил Николас. – Но вы ведь пока не упали с крыши, так что давайте не будем терять времени попусту. Что вас ко мне привело?
– Та-ак, – зловеще протянул человечек и вполголоса пробормотал. – Пишем в протокол: оказывается, фирма «Страна советов» все же может найти выход не из всякой ситуации.
И в самом деле полез во внутренний карман, будто собирался сделать соответствующую запись.
Начиная злиться, Фандорин заметил:
– Человек, падающий с крыши, лишен возможности выбора, поскольку представляет собой предмет, движущийся к земле с ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате, и более ничего.
– Ага, вот я вас и поймал. Стало быть, вам нужна свобода выбора. Тогда нужно было написать в объявлении: «Выход гарантирован лишь клиентам, обладающим свободой выбора». Было бы правильней. И честней.
Упрек, при всей своей несуразности, задел Николаса за живое – он считал себя человеком слова и на малейшие сомнения в собственной порядочности реагировал болезненно.
– Ничего вы меня не поймали. Тут вопрос терминологии. Что такое, с вашей точки зрения, «выход из тяжелой ситуации»?
– Избавление от этой ситуации.
– Ну, тогда не о чем и говорить, – съязвил Ника. – Скоро вы долетите до земли и отличным образом избавитесь от своей ситуации.
Разговор превращался в нелепое препирательство из-за ерунды, да еще с человеком, который, кажется, все-таки был не в себе, поэтому закончил Фандорин сухо и без улыбки, как бы подводя черту в дурацкой полемике:
– Выход – это выбор оптимального, то есть наиболее эффективного или, по крайней мере, наименее вредоносного решения. Вот из какой трактовки исхожу я.
– Ладно, – хищно улыбнулся аноним Кузнецов. – Черт с вами, пускай будет выбор. Предположим, у меня двое детей. Маленьких. Поехал я с ними… ну, скажем, в Кисловодск или в Минеральные Воды. В общем, в какую-нибудь здравницу Кавказа. И вдруг похитили нас террористы, чеченские боевики, взяли в заложники. И вот они мне, отцу, говорят: «Одного из твоих детей мы убьем, выбирай сам, которого». Какой у меня будет выход из подобной ситуации?
– Нужно объяснить этим людям, что так поступать нельзя, что тем самым они только повредят своей идее…
– Попытался, – перебил неизвестный, хмыкнув. – Но это не люди, а обкурившиеся анаши звери.
– Тогда… Скажите им, чтоб они лучше убили вас, а детей не трогали.
– Сказал – смеются. Им нравится смотреть, как я мучаюсь.
– Послушайте, что вам от меня нужно?! – стукнул кулаком по столу Фандорин и сам удивился неадекватности своей реакции. Вроде бы считаешь себя уравновешенным, выдержанным человеком, а потом привяжется такой вот Кузнецов, и нервы дадут сбой. Вероятно, все дело было в том, что природа наделила магистра истории чересчур живым воображением, а поскольку у Николаса в самом деле было двое маленьких детей, то он на миг, всего на миг представил себя в описанной психом ситуации…
Вспышку немедленно погасил, взял себя в руки. Если это сумасшедший, не нужно его провоцировать. Что это он все держит руку во внутреннем кармане? А вдруг у него там бритва?
– Хорошо, я дам вам совет. – Фандорин осторожно отодвинулся от стола, чтобы в случае чего успеть вскочить на ноги. – Эта коллизия известна из литературы, есть целый роман на эту тему, и, читая его, я думал, как поступил бы на месте несчастного родителя. Выход такой: бросьтесь на того из бандитов, который отвратительней, впейтесь ему зубами в глотку и пусть вас убьют. Но ни в коем случае не выбирайте между своими детьми.
Аноним впервые утратил самоуверенность, растерянно моргнул – очевидно, не ожидал такого ответа.
– Ничего себе! – загорячился он. – Разве смерть – выход?
– Я же вам сказал: выход – это выбор оптимального, то есть в данном случае наименее вредоносного решения. Даже если существует загробная жизнь и муки ада, худшей пытки, чем предложенная вами ситуация, там быть не может. Так что вы в любом случае окажетесь в выигрыше.
Неизвестный вынул руку из кармана (слава богу, пустую, без бритвы) и посмотрел на Нику по-другому, без издевки и блеска в глазах.
– Существует, – сказал он.
– Что «существует»?
– Загробная жизнь. Но сейчас это к делу не относится. А что вы скажете, если я вам задам такой ребус…
Ободренный тем, что в руке посетителя не оказалось колющего или режущего предмета, Фандорин решил, что пора проявить твердость:
– Может быть, достаточно ребусов и абстрактных задачек? Мы ведь занимаемся вашей проблемой.
Собеседник строго произнес:
– Это вам так кажется, – и бросил на Николаса взгляд, от которого хозяину кабинета стало окончательно не по себе. Как бы узнать, на месте ли Валя? Фандорин покосился на дверь. Если Кузнецов сейчас впадет в буйство, в одиночку с ним, возможно, не справиться – известно, что у сумасшедших во время припадка сила удесятеряется.
– Так я, с вашего позволения, изложу вам свой рассказец? – вполне миролюбиво спросил аноним. – Уверяю вас, в нем нет ничего абстрактного или фантастического.
– Хорошо-хорошо, – поспешно согласился Ника.
– Итак. Жил-был на свете один человек. Прожил с женой двадцать восемь, ну пускай для ровного счета тридцать лет. Детей у них не было. Это важно, потому что, когда есть дети, любовь имеет обыкновение рассеиваться, а тут, знаете, все чувства в одну точку. Короче говоря, очень этот человек любил… то есть, собственно, и сейчас еще любит свою жену. Можно сказать, она у него – единственный свет в окошке.
Николас слушал, сдвинув брови – уже заранее знал, что рассказ будет неприятным, вроде того, про заложников.
Так и вышло.
– И вдруг у жены обнаруживается болезнь. Тяжелая, а может, и неизлечимая, – припечатал Кузнецов и сделал паузу, чтобы слушатель как следует осознал, вник.
И Фандорин сразу же вник, выражение лица у него сделалось страдальческим. Была у Николаса такая особенность – можно даже сказать, профессиональная черта: когда кто-нибудь рассказывал про свои проблемы, глава «Страны советов» не просто ставил себя на место рассказчика, а на время как бы даже превращался в этого человека. И сейчас перед глазами, конечно же, сразу возникла картина. Возвращается Алтын от врача, смотрит в сторону, неестественно спокойным голосом говорит: «Ты только не волнуйся, это еще не наверняка, он говорит, просто нужно подстраховаться…» Бр-р-р.
Он передернулся, а мучитель разворачивал свой «ребус» дальше:
– Муж, само собой, запаниковал. Бросился туда, сюда. Караул, кричит, люди добрые, спасите, помогите! И люди добрые тут же сыскались, спасальщики-помогальщики. Они на крики «караул» сразу слетаются и нюхают, пахнет деньгами или нет. Если унюхают – сулят чудеса и даже стопроцентно гарантируют. Это раньше, во времена проклятого тоталитаризма, чудес не бывало: если можно вылечить – лечат, если нельзя, говорят: медицина, мол, бессильна. А нынче ведь невозможного не стало, верно? Результат гарантирован, – подмигнул Кузнецов, очевидно, цитируя рекламу «Страны советов». – Были бы деньги. Только вскоре у мужа деньги кончились, и чудеса не замедлили иссякнуть. Вот вам и ребус: время упущено, жена умирает, поделать ничего нельзя. Хотя нет, – плотоядно улыбнулся садист. – Я вам еще краше картинку нарисую. Когда поделать ничего нельзя – это что ж, на нет и суда нет. А тут, представьте себе, спасение есть. Правда, далеко, в Швейцарии. Есть там некая волшебная клиника, в которой одной только и делают спасительную операцию. Но вот ведь закавыка: стоит курс лечения денег, которых этому человеку ни в жизнь не раздобыть. Тут не важно, какая именно сумма – важно, что она совершенно за пределами реального. Назовем ее условно: миллион. Ну-ка, специалист по безвыходным положениям, что вы тому человеку присоветуете?
Улыбка исчезла бесследно, в голосе грохотнул раскат грома, глаза метнули в мастера добрых советов молнию.
Ника, пока длилась печальная повесть, весь исстрадался – болезненно морщился, вздыхал, рисовал на листке ножи и стрелы. Дело у господина Кузнецова и в самом деле выходило сложным, муторным и, увы, опять безо всяких видов на заработок.
Дослушав, Фандорин открыл записную книжку.
– Миллион – это слишком много, таких расценок за курс лечения не бывает, – хмуро сказал он. – Мне все-таки необходимо знать точную сумму. Это первое. Второе. Мне понадобится полный комплект медицинской документации: справки, анализы, выписка из истории болезни, заключение специалистов. Главное – не отчаивайтесь. Свет не без добрых людей. Есть международные фонды, есть благотворительные организации. Я не знаю подробно, потому что сам в такой ситуации не был. – Мысленно прибавил: тьфу-тьфу-тьфу, скрестил пальцы и еще бесшумно постучал по ножке стола. – Но обещаю вам: уже завтра соберу всю нужную информацию. Приходите ко мне… в четыре. Нет, лучше в пять, чтоб наверняка. Принесете все бумаги. Письма благотворителям я напишу сам – у меня английский язык родной. Не падайте духом. Все, что можно сделать, сделаем.
Однако вопреки ожиданиям клиент не возликовал и не стал рассыпаться в благодарностях. На худом, пучеглазом лице отразилось крайнее удивление, впрочем, в следующую же секунду сменившееся облегчением.
– Вы забыли, что у этого человека нет денег! – торжествующе воскликнул он. – Это совершенно некредитоспособный субъект! Он не сможет вам заплатить. Я же говорил, все его сбережения съели шарлатаны и обманщики!
– Это я уже понял. Тем не менее, постараюсь помочь вашей жене.
От этих слов аноним вдруг как-то поник. Устало поморгал, потер веки. Вяло сказал:
– С чего вы взяли, что речь обо мне? Это я так, некую трудную ситуацию обрисовал…
И тут Нику сорвало с винта во второй раз, куда основательней, чем в прошлый.
Он вскочил так порывисто, что отъехало кресло, и заорал на псевдо-Кузнецова самым недостойным, постыднейшим образом. Нет, оскорблений в его филиппике не содержалось, но слово «совесть» прозвучало трижды, а выражение «кто дал вам право» целых четыре раза. Черт знает, что творилось сегодня с русским англичанином – он сам себя не узнавал. Должно быть, перенервничал из-за несуществующей бритвы.
Пакостник слушал Никину тавтологию внимательно, не проявлял ни малейших признаков раскаяния или обиды. Скорее в его глазах читалось нечто вроде радостного изумления.
На шум и крик в кабинет влетела Валя. То есть влетел, потому что женщина-вамп, явившаяся утром на работу и всего полчаса назад поившая шефа чаем, успела трансмутироваться в стройного бритоголового юношу. Исчезли косметика и фиолетовый парик, туфли на десятисантиметровом каблуке сменились тяжеленными ботинками, блузка – асимметричным свитером грубой вязки. Эта метаморфоза означала, что фандоринский ассистент, личность капризная и непредсказуемая, ошибся в дефиниции сегодняшнего дня и на ходу поменял его цвет с розового на голубой.
Валя Глен появился на свет существом мужского пола, однако в процессе подрастания и взросления тендерное позиционирование необычного юноши утратило определенность. Иногда Вале казалось, что он – мужчина (такие дни назывались голубыми), а иногда, что он, то есть она – женщина (это настроение именовалось розовым). Фандорин сначала пугался интерсексуальности своего помощника и никак не мог разобраться с грамматикой – как говорить: «Ты опять строила глазки клиенту!» или «Ты опять строил глазки клиентке!» Но потом ничего, привык. По розовым дням ставил глаголы и прилагательные в женский род, по голубым – в мужской, благо спутать было трудно, поскольку Валя даже говорил двумя разными голосами, тенором и контральто.
Стало быть, вбежал в кабинет андрогин, успевший перекрасить сегодняшнее число в цвета неба, и воинственно подлетел к посетителю.
– Вас ист лос, шеф? Сейчас я этого гоблина делитом и в баскет!
Сиюминутная половая самоидентификация никак не отражалась на Валином лексиконе – в любой из своих ипостасей он выражался настолько своеобразно, что без привычки и знания языков не поймешь. Во всем было виновато хаотичное образование: Глен успел поучиться в швейцарском пансионе, американской хай-скул и закрытой католической школе под Парижем, но всюду задерживался ненадолго и нахватался от разных наречий по чуть-чуть. Николас содрогался от мысли, что через сто лет все человечество, окончательно глобализовавшись, будет изъясняться примерно так же. Да и выглядеть, наверное, тоже. Пока же, слава Богу, Глен мог считаться существом экзотическим.
Сделалось стыдно – и за собственные вопли, и за невоспитанного ассистента. Фандорин махнул Вале, чтоб исчез, а перед посетителем извинился, закончив словами: «Вы должны меня понять».
– Ничего, я понимаю, – снисходительно обронил несостоявшийся клиент, проводив взглядом Валю. – Этот молодой человек очень похож на вашу секретаршу. Ее родственник? Он тоже работает у вас?
– Да, брат. Помогает, когда дел много, – соврал Ника. Не объяснять же про голубое и розовое – у человека и так психика не в порядке.
Удовлетворившись ответом, странный гость снова воззрился на Фандорина. Пожевал губами. Изрек:
– Случай не очевидный. Суд удаляется, на совещание.
Встал, с достоинством кивнул и прошествовал к выходу. Ну явный шизофреник, что с такого возьмешь.
Николас сокрушенно вздохнул, развернул монитор поудобней. Экран скинул черную завесу, ожил. Возник крупный план: лицо Екатерины. Величайшая женщина русской истории смотрела на Нику внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.
Глава вторая
Как вам это понравится?
Глаза же у матушки-государыни оказались светло-серые, лучистые, с хитрыми морщинками по краям. А может, морщинки не от хитрости, а от щек, подумал Митридат. Вон какие щеки пухлые, словно две подушки. Давят, поди, на глаза-то.
Богоподобная Фелица была вся такая: толстая, раздутая, будто едва втиснувшаяся в платье. Ступня, поставленная на резную скамеечку, выпирала из сафьяновой туфельки, как разбухшее тесто из чугунка, подбородок висел складками, и даже под носом, где по физиогномическому устройству вроде бы и не положено, тоже была складка – надо думать оттого, что ее величеству приходится много улыбаться без истинной веселости, по привычке извлек причину из следствия Митя.
Августейший взгляд задержался на маленькой фигурке на какую-нибудь секундочку, но Митридат сразу же прижал руку к сердцу, как учил папенька, и изящно поклонился, отчего на лоб щекотно сыпануло пудрой с волос. Увы, царица равнодушно скользнула своим светоносным взором снизу вверх, с полуторааршинного мальчугана на саженного индейца, не заинтересовалась и им. Чуть подольше разглядывала усатую женщину. Раздвинула губы в рассеянной улыбке, снова посмотрела в карты.
– А чай, дама-то бубновая вышла? – произнес слабый, дребезжащий голос, выговаривавший слова на немецкий манер. Жирная рука нерешительно взяла из желоба на столе белую фишку, подержала на весу. Как вам это понравится, а? Хороша повелительница Российской империи, не может запомнить, какие карты вышли, а какие нет! Это в бостон-то, игру простую и глупую, где всего тридцать шесть листков!
Тут Митя в императрице окончательно разочаровался. На портретах-то ее Минервой рисуют, Афиной Палладой, а сама как есть бабушка старая. Точь-в-точь асессорша Луиза Карловна, что заезжает к маменьке по четвергам кофей пить. Даже чепец такой же! А что это у ее величества пониже уха (государыня как раз повернулась к партнерше слева)? Ей-богу, бородавка, сиречь кожный узелок на эпителиуме, и из бородавки седые волоски. Ну и ну!
Он жалостливо покосился на папеньку, что стоял справа и немного позади, как было предписано инструкцией. Вот уж кто, должно быть, сражен и убит. Как он живописал небесную красоту и величавость новой Семирамиды! Бывало, даже глаза увлажнялись слезой, а тут нате вам.
Но папенька, казалось, не заметил ни поросячьих щек, ни противной складки под носом, ни волосатой бородавки. Его прекрасные, немного навыкате глаза сияли экстатическим восторгом. Алексей Воинович тихонько ткнул сына пальцем в плечо: не вертись, стой смирно. И Митридат стал стоять смирно, только смотрел уже не на жирную старуху, а на других игроков, которые были несравненно приятней взору.
Когда Екатерина, наконец, решилась и на синее сукно неуверенно легла карта, молоденькая дама, что сидела слева, быстро захлопала пушистыми ресницами, закусила нижнюю губку и неуверенно оглянулась на соседа, славного юношу в голубом мундире. Этих двоих Митя сразу признал, потому что, в отличие от царицы, оба были похожи на свои портреты. Юноша – его высочество Императрицын Внук, а прелестная особа – его супруга, урожденная маркграфиня Баден-Дурлахская. (Митя по привычке проверил память: маркграфство Баден – 712 тысяч населения обоего пола, из коих две трети придерживаются лютеровой веры; обширность – 3127 квадратных миль; добывают железо, а еще курят вина, славнейшие из которых «маркграфское» и «клингельбергское».) Ее высочество чуть повернула свои карты, чтобы супруг мог в них заглянуть, великий князь шепнул нечто в розовое ушко, и она тихонько прошелестела:
– Je passe.
Августейший Внук тоже спасовал – видно, и у него карта не задалась. Зато четвертый игрок, небывалый красавец в голубой муаровой ленте, с бриллиантовым кренделем на плече, на туфлях – замечательные пряжки из сверкающих камешков (надо думать, не цветные стеклышки, как у Митридата, а самые настоящие рубины-изумруды), – небрежно шлепнул государынину карту своей.
– Вот она, дама-то. Запамятовали, матушка, – засмеялся победитель и придвинул все фишки к себе.
Митя уже догадался, что это непременно должен быть наиглавнейший при ее величестве человек, сам Фаворит, светлейший князь Платон Александрович Зуров, больше некому. Папенька про князя много рассказывал. И всякий раз при том губу закусывал, крыльями носа дергал – сетовал на судьбу за злейшее к себе неблаговоление. Одному все: и генерал-фельдцейхмейстер, и главноначальствующий флотом, и генерал-от-инфантерии, и крестьян пожаловано по круглому счету до пятидесяти тысяч, а другому, отнюдь не менее достойному, – разбитая жизнь, неутешное сердце да горькие сожаления. А ведь могло все иначе быть, говаривал папенька, и тут его глаза всякий раз загорались искрами, подщипанные брови выгибались, а голос начинал трепетать и срываться.
Историю эту Митя слышал множество раз и знал в доскональности, слово в слово. Как служил папенька в юные годы в том же конногвардейском полку, откуда впоследствии вознесся Платон Александрович, и тоже сумел себя показать – уже присматривалась к писаному красавцу царица. Что присматривалась! Однажды (о вечнопамятный день!) изволила поманить пальцем, взяла за подбородок и повернула папенькину голову в профиль, а уж профиль у секунд-ротмистра Алексея Карпова был чистый бронза-мрамор, после чего кандидат был отправлен на осмотр к лейб-медику и достойно прошел апробацию у самой «испытательницы» Анны Степановны Протасовой, чем впоследствии особенно гордился. В чем заключалась апробация, Митя представлял себе неявственно, но в этом месте родительского рассказа ему всегда делалось страшно. По словам папеньки, прославленная камер-фрейлина Анна Степановна была страшней африканского единорога, а единорогов Митридат видал на картинке в энциклопедии – куда как ужасны. Это у государыни нарочно так устроено, объяснял Алексей Воинович, – чтобы себя от женской обиды уберечь: если уж кандидат самой Протасовой не заробел и молодцом себя проявил, то и ее царское величество не расстроит.
А только зря папенька геройствовал. Вернулся в столицу не ко времени грозный Киклоп, да и вышиб бойкого офицерика и из Петербурга, и из гвардии, да так свирепо, что у папеньки тогда нервная болезнь приключилась, еле-еле потом пиявками да грибами-мухоморами залечился. Когда Митя был несмышленышем, ему часто по ночам мерещился Киклоп, злоковарное чудище с одним-единственным огненным глазом, замыслившее истребить весь карповский род. Это уж потом, войдя в разум и сделавшись из Митеньки Митридатом, он узнал, что папеньку обидел не греческий пещерный великан, а князь Потемкин-Таврический. Тому три года всемогущий временщик издох, и отставной секунд-ротмистр быстренько собрался в столицу, однако не задержался там и вернулся в слезах: оказалось, что новый Фаворит, этот вот самый Зуров, сидит на своем месте прочно, собою ослепительно хорош, да и моложе папеньки на целых десять лет.
Про ослепительную красоту Митя неоднократно читал в романах, но думал, что это так пишут в метафорическом смысле. Оказалось, правда. Князь Зуров и в самом деле ослеплял: кожа на лице и руках вся посверкивала золотыми звездочками – прямо глазам больно. До сего дня Митя твердо знал, что самый красивый мужчина на свете – его отец, Алексей Воинович Карпов, а теперь вдруг усомнился. Тут же себя и устыдил: если папеньке на его белый с серебром камзол столько же бриллиантов понашить, да лицо-руки золотой пудрой присыпать, это еще посмотреть надо, кто выйдет краше.
– Еще партию? – спросила матушка-государыня – не у великого князя и великой княгини, а у Зурова.
Фаворит потянулся, скучливо зевнул, не прикрывая рта – блеснули ровные, крашенные жемчужной эмалью зубы.
– Надоело.
Их высочества, не дожидаясь ответа императрицы, сразу же поднялись из-за стола. Подсеменил пожилой лакей, ловко смахнул карты и фишки на серебряный поднос.
Государыня ласково поправила князю замявшийся кружевной манжет.
– Так не угодно ль в шахматы, друг мой?
Папенька снова ткнул сзади пальцем – вот оно, начинается, зри в оба.
А другой лакей уже нес доску, распрекрасную собой, слоновой кости и эбенового дерева; третий в два счета расставил фигуры – ее величеству белые, его светлости черные.
Придворные подошли, встали у стола почтительным полукругом – раньше, пока шла карточная игра, приблизиться не смели. Пользуясь сим прикрытием, папенька поднял Митю на руки – чтоб поверх пудреных затылков и дамских куафюр наблюдать за баталией.
Теперь, когда Внук с супругой встали, кроме двух играющих сидеть остался только один человек удивительно некрасивой наружности. Митя еще прежде на него поглядывал, пытался вычислить, кто таков, почему держится наособицу от всех прочих, отчего лицом дергает. И без того урод-уродом: нос утицей, шишковатый лоб, плешивый череп – прямо мертвая голова какая-то. На камзоле у некрасивого человека сверкала звезда, но какого именно ордена, Митридат не знал, ибо к внешне-декорационной сфере общественного организма интереса не испытывал – глупости это, не достойные внимания разумной личности. Несмотря на орден, непохоже было, что утконосый важная персона. Сидит себе один-одинешенек, никто на него и не смотрит, а те, кто близко стоят, все поотвернулись. Должно быть, увечный, стоять не может, пожалел урода Митя, вон у него и палка в руке. Ладно, Бог с ним, с инвалидом.
За спиной у государыни встал старый старик в черном одеянии, даже парик у него, и тот был черный, как при Петре Великом носили. Из всех мужчин один только этот старик был в парике с буклями, прочие, согласно моде, накладных волос не носили, пудрили свои собственные. Как ворон меж попугаев, подумал Митя про черного, странно смотревшегося среди пышных платьев, золоченых камзолов и разноцветных фраков. Только лицо не вороновье, скорее собачье, как у английского мопса: по бокам брыли, нижняя губа налезла на верхнюю, носишко совсем никакой, а глазки быстрые, пуговками.
Перед тем, как царице сделать первый ход, мопс наклонился к ней, зашептал что-то.
– Без тебя, сударь мой, знаю, – ответила она, поморщившись, и пошла пешкой с е2 на е4. – Вы бы, Прохор Иванович, поменьше сырым луком увлекались.
Старик сконфуженно улыбнулся:
– Так ведь знаете, матушка, как в народе-то говорят: «Лук от семи недуг».
Ответа на шутку не последовало, и мопс сник, но от игроков не отошел. Митя и его тоже пожалел. Почтенный человек, сидел бы лучше дома, с внуками, чем шею тянуть, на цыпочки привставать.
Фаворит подумал-подумал и ответил правым конем на лодейное поле. Ага, будет разыгрывать карлсбадское начало. Интересно! Но на государынино выдвижение белого офицера светлейший бухнул пешкой на h5, и стало ясно: никакое это не карлсбадское начало, а просто Зуров ходит не думая, на авось. Что это за игра такая? Митя дальше и смотреть не стал.
В углу что-то стукнуло. Некоторые из придворных обернулись, увидели, что это у курносого калеки упала трость, и тут же утратили интерес к маленькому происшествию. Он, бедный, сам свою клюку (впрочем, замечательно красивую – красного дерева и с золотым набалдашником) поднять не мог, так и сидел неподвижно, только тонкой губой задергал.
Митя хотел подбежать, подать, но папенька удержал за фалду, шепнул испуганно: «Ты что, это ж Наследник!»
Ах вот кто это. Его императорское высочество, сын великой императрицы. Тоже нисколько на свои портреты не похож – на портретах-то он хоть и не красавец, но величавый, важный. Может, раньше и был такой, пока паралич не разбил. Однако что же это ему никто не поможет? Или по церемониалу не положено?
Нет, мопс в черном бесшумно попятился от высочайшего стола, подсеменил к наследнику, нагнулся, подал упавшую трость и почтительно поклонился.
Сидевший посмотрел на доброхота, как показалось, с удивлением, но не поблагодарил и даже не кивнул – наоборот, дернул головой кверху. Славный старик около инвалида не задержался, тут же вернулся на прежнее место – и вовремя. Государыня не оборачиваясь спросила:
– Что, Прохор Иванович, брать мне у князя пушку иль не брать?
– Беспременно брать, ваше величество. А чего ее брать-то? Зурову уж давно сдаваться пора.
– Царицын сын – расслабленный телом, да? – шепнул Митридат папеньке. Тот ответил тоже шепотом:
– Нет, это он от чванности. Ты за игрой следи.
Вот еще.
Митя стал вертеть головой по сторонам, исследовать, что за Малый Эрмитаж такой.
На стене большущая картина: Леда, лежащая в страстном положении с Юпитером во образе лебедя. Другой холст, немногим меньше: дева или, может, дама, в античной хламиде и златом венце, за нею чудесный дворец восточной наружности, на крыше зеленеет пышный сад. Ага, это, надо думать, изображена вавилонская царица Семирамида (правильнее Шаммурамат, поминается у великого Геродота) со своими висячими садами. Понятно.
Куда примечательней был висевший подле окна прибор – бронзовый, круглый. Ух ты, сообразил Митридат, и градусы показывает, и пульсацию атмосферы. Подойти бы, разглядеть получше, да жалко нельзя.
А больше ничего особенно любопытного в зале не было. Ну люстра хрустальная, радужная. Ну мраморные бюсты. Ну паркет с инкрустацией. От покоев, где собирается ближний круг величайшей монархини мира, можно было ожидать чего-нибудь и почудесней.
– Вот вам, Платон Александрович, и мат, – объявила Екатерина, и зрители мягко, деликатно похлопали. – Да не кручинься, душа моя, я тебя после утешу.
Наклонилась, зашептала придвинувшемуся Зурову что-то, по всему видать, веселое – сама мелко смеялась, трясла подбородками. Придворные тут же отодвинулись, а некие из них даже сделали вид, будто рассматривают люстру и лепнину потолка.
Фаворит тоже улыбнулся, но кисло. Молвил:
– Благодарю, ваше величество.
Ах, да что на них смотреть?
Больше всего Мите хотелось изучить диковинных соседей – американского дикаря и женщину с лихими, закрученными кверху усами. Он сделал два шажка назад, чтоб не в упор пялиться, и вывернул шею вправо, где переминалась с ноги на ногу удивительная усачка.
Вот уж чудо так чудо! Ведь анатомо-физиологическая наука утверждает, что особы женского пола, будучи наделены повышенной способностью к произращению волос в макушечно-теменной и затылочной частях краниума, к лицевой волосатости от природы не расположены. Подергать бы ее за ус – не приклеенный ли?
Похоже, и государыне пришло в голову то же.
Она снова, уже во второй раз, глянула на отдельно стоящих: Митридата с папенькой, индейца, мужчино-женщину и (впереди, в позе полкового командира на параде) обер-шталмейстера Льва Александровича Кукушкина, папенькиного с Митей благодетеля.
– Кого нынче привели, Лев Александрович? Чем распотешите? – спросила царица, приглядываясь. – Усы-то у нее настоящие?
Индеец, весь в перьях и стеклянных цветных шариках (вот бы потрогать!), шевельнулся. Не понимает по-нашему, догадался Митя. Думает, может, про него речь.
– Самые что ни на есть настоящие, ваше царское величество! Уж я девицу Евфимию за растительность дергал-дергал, все пальцы исколол. Намертво! – бодро, весело гаркнул Кукушкин. Ему и полагалось говорить весело – такая у Льва Александровича должность: придумывать затейства и кунштюки для увеселения ее величества.
Щелкнул усачке пальцами – приблизься, мол. И сам за ней подкатился, весь кругленький, легкий.
– Да вы, милая, точно женщина? – улыбнулась ее величество, оглядывая чудо природы.
Кукушкин приложил руку к груди:
– Лично проверял, ваше величество. Вся женская кумплектация на месте.
Придворные с готовностью захохотали – видно, ждали от Льва Александровича остроумия.
Засмеялась и императрица:
– Ой ли?
Лев Александрович поднял два пальца:
– Фима, давай.
Женщина громким шепотом спросила:
– Уже заголяться?
Присела, стала подбирать подол юбки. Хохот сделался пуще.
Ослабшая от смеха Екатерина махнула рукой:
– Ну тебя, старый греховодник. Убери свою монстру. Да сто рублей подари. Ох, распотешил…
Обер-шталмейстер поклонился, другой рукой, согнутой за спиной (Мите-то сзади хорошо видно), щелкнул – и сразу подскочили два служителя, утянули усатую Фиму прочь.
Теперь дошла очередь и до Карповых – российская Юнона, еще не доулыбавшись, повела взором с Мити на папеньку. Тот сглотнул, да и у Мити в грудной полости, где сердце, екнуло.
– А из этих кто? – спросила Екатерина. – Большой или маленький? Что они?
Папенька выступил вперед, раскланялся изящным манером, заговорил плавно, мягко, самым лучшим своим голосом:
– Вашего императорского величества покорнейший слуга, отставной конногвардейский секунд ротмистр Алексей Карпов.
И чуть помолчал. Проверяет, не вспомнит ли его государыня, догадался Митя.
Нет, не похоже, чтоб вспомнила. Даже странно – такого красивого, приятного, и не вспомнить? Хотя что ж, она ведь старая уже, шестьдесят шестой год. В преклонные лета, как известно, умственная тинктура замедляет свое обращение, образуя в мозгу узелки и спайки, нарушающие стройность памяти.
– Вот сын мой Митридат, – продолжил папенька, указав на Митю, и тот низко, по-заученному поклонился. – Посредством каждодневных многочасных экзерциций я развил в сем чудо-младенце невиданную остроту ума и ученость. Митридат перемножает и делит любые числа с резвостью непревзойденной. Столь же легко возводит числа в квадрат, извлекает корень, равно как производит и иные математические операции, еще более сложные. А еще, – здесь папенькин голос сделался совсем бархатным, – Митридат превосходнейше овладел тайнами благородной утехи монархов и мудрецов Востока. (Плавный жест в сторону шахматной доски.) И в сей игре ему нет равных, даже и среди признанных мастеров. А мальчику всего шестой годок…
Договорив приготовленную речь до конца, Алексей Воинович снова склонился, да так и застыл в благоговейном изнеможении. Митя вздохнул. Ничего не шестой, это уж папеньку занесло. Через полтора месяца сравняется семь.
– Такой крошка, а знает шахматы?
Touche! Клюнула! Государыня повернулась всем своим грузным телом, отчего нога, покоившаяся на скамеечке, соскользнула на пол.
– Ой!
Екатерина болезненно поморщилась, вскрикнула.
Из дальнего угла, расталкивая дам и кавалеров – будто фрегат, рассекающий волны, – к столу ринулся смуглый человек в расшитом позументами морском мундире.
– Сьто, матуська, нозька болит? – закричал он, смешно коверкая слова. – А вот он я, твой верный Козепуло, и волсебная водитька со мной!
Выхватил из преогромного кармана склянку с ядовито-лиловой жидкостью, бухнулся на коленки, осторожно снял туфлю и стал порхать по распухшей ступне ловкими жирными пальцами – мазать, тереть, мять, приговаривая что-то под нос на непонятном наречии.
– Влез, орех грецкий, – досадливо пробормотал обер-шталмейстер. – Все испортил!
Папенька выпрямился, в отчаянии всплеснул руками:
– Кто этот невежа?
– Контр-адмирал Козопуло, морской разбойник. Наш новейший чудотворец, нынче при государыниной больной ноге состоит. Вишь ты, снадобье у него какое-то особенное. Лучше б его, щетинную морду, турки на кол посадили!
Щеки у адмирала и в самом деле были фиолетовыми от проросшей к вечеру щетины, да и на пирата он тоже чрезвычайно походил. Митя представил грека не в военном камзоле, с пудреными волосами, а в черном платке на голове, в алой, расстегнутой на волосатой груди рубахе, с кривой саблей за поясом – вот была бы картинка! Что ему по морям не плавалось?
– А вот и англичанин, лейб-медик Круис, – ухмыльнулся Кукушкин. – Ну, сейчас будет баталия при Лепанто.
Толпа придворных снова заколыхалась – к столу проталкивался строгий господин в золотых очках. Еще издали, тоже смешно выговаривая слова, но только не мягко, как адмирал, а чересчур твердо, он закричал:
– Изволте немэдленно прекратит! Ваше велычество, вы губите свое августэйшее здоровье, доверяяс этому шарлатану! Я дэлал анализ его so-called эликсир! Это конская моча с самым дешевым матросским ромом!
И схватил сухой рукой грека за плечо, пытаясь оттащить.
– Ну да, лосядиные саки. – Адмирал двинул локтем, и лейб-медик отлетел в сторону. – И сьто? Моя бабка, старая лахудра, есе добавляла туда немнозько оветьих какасек, а я придумал лутьсе – натираю обезьянье… – И моряк употребил слово, которого, по мнению Мити, в царском дворце звучать никак не могло.
– Я ваших медицинских терминов не разумею, – засмеялась Екатерина. – А вы, Яков Федорович, на моего Костю не серчайте. Он хоть в университетах не учился, но в разных странах бывал, все повидал и руки у него мягкие. Ну а вы-то, Аделаида Ивановна, куда морду тычете? Ах, полизать хочет, мое золотце!
Митя вздрогнул и привстал на цыпочки. Слава Богу, последние слова адресовались не какой-нибудь из придворных дам, а жемчужно-серой левретке, усердно облизывавшей императрицыну щиколотку. Вон оно тут как: собаку зовут по имени-отчеству, а адмирала просто «Костей».
– А про нас с индейцем забыли, – шепнул Митя папеньке. – Выходит, Прожект не получился, да?
Тот лишь всхлипнул. Да и индеец хлопал своими глазами-маслинами невесело. Тоже и у него, дикого жителя девственных лесов, на этот день, надо полагать, имелось какое-нибудь особенное упование.
– Вы, сударь, из каких индейцев будете? – спросил Митя тихонько, сначала по-английски, потом по-французски. – Я про ирокезов читал, еще про чирокезов и алгонкинцев.
Вроде вежливо спросил, уважительно, а дикарь почему-то напугался. Отскочил от Мити, пробормотал:
– Big little man!
И еще перекрестился. Вот тебе и дикарь. Папеньку было ужас как жалко. Ведь столько ждали этого дня! Денег одних издержано – на дорогу, да на наряды, да на кормовые, да Льву Александровичу Кукушкину на подарок, чтоб приглашение на малоэрмитажный четверг устроил (хоть и старый знакомец, а тоже ведь отблагодарить надо)!
Собственно, сколько издержано денег, сосчитать было нетрудно, потому что вести счет папенька доверил сыну – сам-то с арифметикой был не очень. Стало быть, так: двадцать восемь рублей тридцать три с четвертью копейки на лошадей, восемь рублей тринадцать с половиной копеек столовых, пятьсот тридцать рублей на платье, сто пятьдесят рублей за бронзовую наяду для Льва Александровича да на четыре рубля одиннадцать копеек прочих расходов, а всего (исчисление было простейшее, и Митя даже лоб морщить не стал) 720 рублей 57 копеек да три полушки. Шутка ли?
Да разве в одних деньгах дело? Папенька своему Прожекту всю душу отдал, сколько раз маменьке во всех подробностях обсказывал, как оно все превосходно в их жизни переменится, когда матушка-императрица Митридатом восхитится и к своей особе его приблизит, а там, глядишь, вспомнит прежнюю симпатию и устремит свой солнечный взор на некоего отставного секунд-ротмистра. Ах, да куда солнцу до этого взора? Оно способно произрастить из семечки травинку, не более, а волшебный взор Екатерины может самую малую травинку вмиг обратить в прегордый баобаб. Маменька слушала эти мечтания и только пунцовела от счастья.
Три с лишком года готовил папенька Митю. Можно сказать, только Прожектом и жил с того самого мгновения, когда обнаружил, что сынок у него не такой, как прочие дети.
До того дня младшенького жалели, считали дурачком. Мите ведь уже четвертый годок шел, а он ни слова не говорил. Губками пошлепывал, шелестел что-то, а никакого членораздельного речения от него не было. Уж и увещевали, и кричать пробовали – помалкивает и только, хотя вроде не глухой, все слышит. Наконец махнули рукой, решили, что, видно, не жилец, приберет его Господь в невеликих годах, а пока пускай себе растет, как хочет.
Как Митюшу самому себе предоставили, тут у него самая интересная жизнь и началась. Больше всего он полюбил сидеть в классной комнате, где старшего брата Эндимиона мосье де Шомон и семинарист Викентий поочередно обучали наукам. Если малыша гнали, он закатывал рев и после долго икал, потому гнать перестали – пускай его сидит. Еще выяснилось, что кроха надолго затихает, если дать том из французской «La Grande Encyclopedic» (ее Алексей Воиновия некогда со столичной службы привез, получил в уплату карточного долга). Глядели взрослые на маленького дурачка – умилялись: уставится на большенную страницу, будто и впрямь читает. Если б им сказать, что Митя на четвертом году жизни и в самом деле читал французскую энциклопедию статью за статьей, том за томом, нипочем бы не поверили.
Но тут надо с самого начала рассказывать – с того самого мига, когда потомственный дворянин Звенигородского уезда Дмитрий Алексеевич Карпов начал свое знакомство с подлунным миром. Сей отпрыск старинной фамилии (в гербе – конское копыто и собачья голова на палке) явился на свет не как обычные пискуны, а в полном молчании и с широко открытыми глазами, которыми, к удивлению лекаря и повивальной бабки, принялся немедленно вращать и хлопать. Что новорожденный молчал, было, пожалуй, не столь и удивительно – очень уж оглушительны были стенания роженицы, измученной безысходными многочасовыми потугами и принужденной подвергнуться жестокой операции чревовзрезания. При отчаянном шуме, производимом несчастной, надежды быть услышанным у новопришельца было бы немного. А вот открытые, ясные глазенки, с первого же мига зажегшиеся ненасытимым любопытством, и в самом деле являли собой феномен в своем роде исключительный.
Другая интригующая особенность проявилась чуть позже, когда на голове младенца отросли волосенки – всюду каштановые, а на темечке седое пятнышко, из которого со временем произросла серебристая прядка. Однако значение этой символической меты открылось много позднее, а поначалу никто ничего такого не подумал. Мало ли что: у одного родимое пятно, у другого веснушки, а у этого на голове белая клякса.
Отец заранее приготовил для второго чада, буде родится мужского пола, превосходное имя Аполлон, однако был вынужден поступиться благозвучным прозванием в пользу обыденного Дмитрия. Так звали тестя, в денежном воспомоществовании которого у отставного конногвардейца в ту пору как раз явилась самая неотложная нужда в связи с некими карточными обстоятельствами.
Крохотный Дмитрий Алексеевич был помещен в колыбельку, построенную умельцем из родительского имения Утешительного (прежней Сопатовки) на манер корабля, и пустился на сем челне в плавание по морю жизни, поначалу тихому и мелководному.
В спаленке на потолке было изображено вращение планет вкруг Солнца. Эту-то картину Мите и суждено было лицезреть в продолжение всего первого года своего земного бытия. Напротив каждого небесного тела русскими и латинскими буквами указывалось его название, так что обжект и его письменное обозначение слились для Мити воедино много ранее, чем сопутствующее тому же предмету устное наименование. Сначала было Солнце ¤ Sol; потом, когда Митеньку первый раз вынесли в сад и показали на желтый жаркий кружок, появилось «сонце», а соединил первое и второе он уже собственным разумением, и то был самый волнующий и таинственный миг в его жизни.
Ужасно хотелось поскорей выучиться ходить, но изверги продержали спеленутым чуть не до года. Зато когда пустили ползать, Митя уже к вечеру научился переступать, держась за стенку, а назавтра ходко ковылял по всему дому, делая все новые и новые открытия.
Что не разговаривал ни с кем до трех лет, так недосуг было. Что интересного мог он услышать от окружающих? От няньки Малаши, когда укладывает в кроватку: «Баю-бай, баю-бай, заберет тебя Мамай». От маменьки, когда утром принесут к ней в спальню – показать: «Усю-сю, Митюшенька, сахарный мой душенька». От братца Эндимиоши, когда забежит в детскую спрятать в верное место, под колыбелькой, рогатку или тряпицу с уворованным у папеньки табаком: «Что, урод, все в пеленки гадишь?» (Вот и не правда. Митя с шести месяцев приучил няньку: как зацокает языком, стало быть, зов натуры. А что она, дура непонятливая, раньше не скумекала, об чем цоканье, так то не его вина.)
Главное Митино приключение той безгласной эпохи было потихоньку забраться к папеньке в кабинет, где книги, или, того лучше, к гостям – под столом сидеть. То-то наслушаешься, то-то нового узнаешь: и про войну с турками-шведами, и про якобинцев, и про московские происшествия. Но во взрослых комнатах тем более языком болтать незачем, иначе сразу подхватят на руки и уволокут назад, к Малаше, по тысячному разу слушать ерунду про Кота Котовича и Бабу Ягу.
Вот когда Митя отвоевал себе право сидеть у братца в классной комнате, тогда и началась настоящая жизнь. Каждый день открытия, пир разума! Мосье де Шомон учил по-французски и по-немецки, да из географии, да из истории, да из астрономии. Викентий – арифметике, да русской грамматике, да Божьему Закону. Жаль, уроки были всего два часа в день, и еще раздражал тупостью Эндимион, сколько времени из-за него попусту пропадало! Про себя Митя называл старшего брата Эмбрионом, ибо по развитию мыслительной функции сей скудоумец недалеко продвинулся от человечьего зародыша.
Вечером, когда дом засыпал (а ложились в Утешительном рано: летом в десятом часу, зимой в восьмом), наступало самое главное время.
Тихонько, на цыпочках, мимо храпящей на сундуке няньки, в коридор; там легкой мышкой на лестницу – и в верхнее жилье, по-французски belle-etage, где кабинет. Под столом заранее спрятаны свеча и тяжелый, не поднимешь, том «Великой энциклопедии». Часов до пяти существуешь по-царски, общаясь с особами, равными тебе разумом, – перед одним благоговейно склонишь голову, с иным, бывало, и заспоришь. В шестом часу назад, спать. Это ведь уму непостижимо, что человеки треть своей жизни, и без того недлинной, на подушке проводят! Зачем столько? Трех часов для телесного отдыха и освежения ума куда как довольно.
Еще и посейчас Митя, бывало, сомневался, не зря ли он в тот осенний день разомкнул уста. Минутный порыв, понуждение чувствительного сердца положили конец тихим радостям безмолвного уединения. Очень уж жалостно было смотреть, как убивается в гипохондрии папенька, который только что вернулся из Петербурга, куда ездил, обнадеженный смертью Киклопа, да несолоно вернулся. День за днем, прямо с утра и до вечера, Алексей Воинович горько плакал, воздымал к небу руки и проклинал жестокую судьбу, обрекшую его прозябать в подмосковном ничтожестве, на две тысячи восемьсот рублей годового дохода, безутешным родителем двух выродков – никчемного балбеса и бессловесного дурачка.
В доме было тихо. Маменька терзалась головными ваперами, братец спрятался на чердаке, чтоб не высекли, дворовые тоже позатаились. И тогда Митя принял великодушное решение: пускай папеньке хоть в чем-то будет облегчение. Пускай утешится по поводу младшего отпрыска, который никакой не дурачок и слова произносить, если пожелает, очень даже умеет.
Сначала, для практикума, попробовал говорить вслух сам с собой. Раньше, конечно, тоже иногда разговаривал в монологическом регистре, но беззвучно, одними губами, а тут обнаружилось, что голос за мыслью никак не поспевает. (Эта скороговорливость и потом осталась, так что не всякий ее и понять мог, особенно если Митя увлечется какой-нибудь интересной мыслью.) Тут еще следовало учесть папенькину бурливость чувств. Произнесенная фраза должна была быть короткой и завершиться прежде, чем Алексей Воинович начнет бурно восклицать и тем испортит всю эффектность. Самое простое – войти и поздороваться, но не по-русски (эка невидаль для трехлетка), а на иностранном языке. И коротко, и впечатлительно.
Вошел в столовую, где у окна рыдал папенька, рассыпав незавитые и даже нечесаные локоны по подоконнику. Сказал, стараясь выговаривать французские звукосочетания в точности как мосье де Шомон: «Bon matin, papa[1]».
Папенька обернулся. То ли не расслышал, то ли решил, что почудилось. Страдальчески поморщился, простонал: «Поди, поди, дитя неразумное!» И рукой на дверь показал, а сам зарыдал еще пуще – вот как от Митиного вида расстроился.
Тогда Митя ему про разумность и неразумие процитировал из Паскалевых «Pensees» (как раз накануне ночью книгу прочел и многие максимы слово в слово запомнил – до того хороши): «Deux exces: exclure la raison, n'admettre que la raison».[2]
Вышло еще эффектнее, чем хотел. Недооценил Митя папенькиной чувствительности – Алексей Воинович, прослушав максиму, закатил глаза и пал в обморок. А когда очнулся, увидел над собой оконфуженное лицо меньшого сына, бормотавшего по-русски, по-французски и по-немецки слова утешения, то воздел руки к небу и возблагодарил Провидение за явленное чудо.
Потом папенька долго ахал и дивился, узнавая, что малыш может и по-латыни читать, и в разных науках сведущ изрядно. Но более всего родителя поразили Митина памятливость и сноровка в арифметических исчислениях. Ну, запоминать интересное – невелико чудо, хоть бы даже и целыми страницами – это он папеньке легко объяснил, а вот про цветные цифры растолковать затруднился, ибо и сам не очень понимал, как в мозгу свершается арифмометрическая механика.
Тут было так: единица – она белая, двойка малиновая, тройка синяя, четверка желтая, пятерка коричневая, шестерка серая, семерка алая, восьмерка зеленая, девятка лиловая, ноль черный. Кто этого не видит, без толку и объяснять, что, когда берешь, к примеру, число 387, оно навроде трехцветного леденца – сине-зелено-алое. Перемножаешь его с числом 129, бело-малиново-лиловым, все цифры вмиг переплетаются в толстую многоцветную косичку, колоры перетекают из одного в другой, и дальше просто: называй образовавшиеся части спектра подряд, вот и выйдет искомое 49 923. Тож и при делении.
Папенька послушал-послушал невнятные разъяснения и вдруг наподобие Архимедеса Сиракузского как закричит: «Эврика!» Подхватил Митеньку на руки и побежал на маменькину половину. Там пал на колени и стал целовать маменьку в живот, прямо через платье. «Что вы делаете, Алексис?» – вскричала та испуганно.
– Лобзаю благословенное ваше чрево, произведшее на свет Геракла учености, а вместе с тем проложившее нам дорогу к Эдему! Воззрите, любезная Аглая Дмитриевна, на сей плод чресел наших!
В тот миг и родился Прожект.
Во времена папенькиного детства много говорили о маленьком музыканте Моцарте, которого отец возил по Европе, показывал монархам и получал за то немалые награды и почести. Чем Дмитрий Карпов хуже немецкого натурвундера? В музыке несведущ? Да кому она у нас в России нужна, сия глупая забава. Свет-государыня хоть оперы с симфониями слушает, но больше для назидательности и привития придворным изящного вкуса, а сама, рассказывают, иной раз и засыпает прямо в ложе. Не нужно никакой музыки! В столице все только и говорили, что о новом увлечении ее величества, шахматной забаве. Многие кинулись изучать умственную игру. Папенька тоже купил доску с фигурами, выучился головоломным правилам – ну как пригодится? Увы, не пригодилось. У царицы и без Алексея Карпова было с кем повоевать в шахматы.
А если предъявить ее величеству небывалого партнера – премаленького мальчишечку, от горшка два вершка? Это будет кунштюк получше Моцарта!
Бледнея от страха разочароваться, звенигородский помещик перечислил своему удивительному отпрыску правила благородной игры, и, разумеется, свершилось чудо, а вернее, никакого чуда не произошло, ибо шахматные премудрости показались поднаторевшему в цветных исчислениях Мите сущей безделицей. В первой же партии трехлеток одержал над отцом решительную викторию, а вскоре обыгрывал всех подряд, давая в авантаж королеву и в придачу пушку.
Отныне в жизни карповского семейства и прежде всего самого младшего его члена все переменилось. Гераклу учености наняли полдюжины преподавателей для постижения всех известных человеческому роду наук, и успехи юного Митридата (так теперь именовали бывшего Митюшу) превосходили самые смелые чаяния счастливого родителя. Раз в месяц нарочно ездили в Москву покупать новые книги – какие только Митя пожелает. Крестьянам и в Утешительном, и в дальней деревне Карповке для того назначили специальную подать, книжную: по полтине в год с ревизской души, либо по две курицы, либо по три фунта меда, либо по мешку сушеных грибов, это уж как староста решит.
Митя в доме стал самый главный человек. Если сидит в классной комнате, все говорят шепотом; если читает книгу, опять же все ходят на цыпочках и разувшись. А поскольку новоявленный Митридат все время либо учился, либо читал, стало в господском доме тихо, шепотно, будто на похоронах.
Нянька Малаша теперь тиранствовать над мальчиком не могла. Не хочет спать – не укладывала, не хочет каши – насильно не пичкала. Очень за это убивалась, жалела. Однажды, когда Митя при всех домашних блестяще сдавал экзамен по немецкому, стрекоча на сем наречии много быстрей учителя, нянька молвила, пригорюнясь: «Ишь как жить-то поспешает. Видно недолго заживется, сердешный». Папенька услыхал и велел выпороть дуру, чтоб не каркала.
Конечно, в новой Митиной жизни не все были розы, хватало и терниев. К примеру, очень докучал братец – завидовал, что «малька» теперь одевали по-взрослому, в кюлоты с чулками, в сюртучки и камзолы. То ущипнет исподтишка, то уши накрутит, то в башмак лягушонка подложит. Пользовался, мучитель, что Митя придерживался стоической философии и брезговал доносительством. Да что с неразумного взять? Одно слово – Эмбрион.
Через год Митридат был готов. Хоть сажай в карету и вези прямо к государыне или даже в Академию де сиянс – лицом в грязь не ударит. Дело медлилось за малым – подходящей оказией. Как чудесного отрока государыне предъявить и заодно себя показать? (Маменьку по понятной причине брать с собой ко двору не предполагалось.)
Оказии ждали еще два года, пока в Москву не пожаловал благодетель Лев Александрович. За это время Митя «Великую энциклопедию» всю превзошел и увлекся интегральными исчислениями, что на папенькин взгляд уж и лишнее было. Алексею Воиновичу ожидание давалось тяжело, как отцу девицы-красы, у которой никак не составится достойная партия, а девка тем временем перезревает, застаивается. Одно дело четырехлетний шахматист и совсем другое – почти семилетний.
А Митя ничего, не томился. Жить бы так и дальше, с книгами да уроками. Папеньку вот только было жалко.
Сколько трудов и надежд положено, сколько преград одолено, а она и смотреть не желает! За папенькин жалкий вид, за изнурительно тесный камзол, за чешущуюся под насаленными волосами голову (а ногтями поскрести ни-ни, про это строжайше предупреждено)
Митя разозлился на толстую старуху, брови насупил. Если б глаза могли источать тепло, подобно тому как солнце ниспосылает свои лучи, прямо подпалил бы неблагодарную, поджег ей взбитую пудреную куафюру!
Тепло не тепло, но некую субстанцию Митин взгляд, похоже, излучил, потому что императрица, еще не отсмеявшись над препирательством грека с англичанином, вдруг повернула голову и взглянула на маленького человека в лазоревом конногвардейском мундирчике в третий раз. Тут-то Митя и отплатил ей, привереде, разом за все: скорчил обидную рожу и высунул язык. На-ка вот, полюбуйся!
Глаза Семирамиды изумленно расширились – видно, во дворце никто ей языка не показывал.
– Сколько лет, говорите, вашему крошке? – спросила она у папеньки.
– Шесть, ваше императорское величество! – вскричал окрыленный Алексей Воинович. – У меня и приходская книга с собой прихвачена, можете удостовериться!
Розовый палец поманил Митю.
– Ну, скажи мне…
Хотела вспомнить имя, но не вспомнила. Папенька сладчайше выдохнул: «Митридат».
– Скажи мне, Митридат…
Не сразу придумала, что спросить. По ласковой улыбке видно было, что хочет задать вопрос полегче.
– Какой нынче у нас год?
– По какому летоисчислению? – быстро спросил Митя, подбираясь к старухе поближе (от нее пахло лавандой, пудрой и чем-то пряным, вроде муската). Не дожидаясь ответа, зачастил. – От сотворения мира по греческим хронографам – год 7303-ий, по римским хронографам – 5744-ый, от Ноева потопа по греческим хронографам – 5061-ый, по римским – 4088-ой, от Рождества Христова 1795-ый, от Егиры сиречь бегства Магометова 1173-ий, от начатия Москвы – 648-ой, от изобретения пороху – 453-ий, от сыскания Америки 303-ий, а от воцарения государыни Екатерины Второй – 33-ий.
Царица руками всплеснула, и все вокруг сразу зашушукались, языками зацокали. Ну а дальше все как по маслу пошло.
Митя немножко поумножал трехзначные числа (Фаворит самолично пересчитал столбиком на салфетке – сошлось); потом извлек квадратный корень из 79 566 (проверить смог только Внук, да и то с третьего раза, все сбивался); назвал все российские наместничества, а про какие особо спросили – даже с уездными городами. Дальше так: обыграл в шахматы обер-шталмейстера Кукушкина (четырех ходов хватило) и черного старика, оказавшегося тайным советником Масловым, начальником Секретной экспедиции (этот играл изрядно, но где ж ему против Митридата?), а напоследок сразился с самой государыней. Тут немножко увлекся, забыл, что папенька учил ее величеству поддаться, и разгромил белую рать в пух и прах. Но Екатерина ничего, не обиделась, а даже облобызала Митю в обе щеки. Назвала «милончиком» и «умничкой».
Еще продекламировал державинскую «Фелицу», стихи глупые, но приятно-трескучие, в завершение же триумфального действа с низким поклоном произнес:
– Льщусь надеждою, что сими скромными ухищрениями сумел отвлечь великую государыню от бремени державных забот. Почту за высшее счастие, если ваше императорское величество и ваши императорские высочества, равно как и ваша светлость (это Фавориту – папенька велел про него ни в коем случае не забыть), в награду за мое доброе намерение ответят на мой поклон прощальными рукоплесканьями.
Глава третья
Смерть Ивана Ильича
Вежливо попрощавшись с лысым братом фандоринской секретарши (тот выщипывал пинцетом фиолетовую, как у сестры, бровь и на уходящего даже не взглянул), Собкор покинул офис 13-а в глубокой задумчивости.
Потыкал пальцем в кнопку вызова лифта и нескоро сообразил, что кабина приезжать не собирается. За время, которое Собкор провел в «Стране советов», скрипучий элеватор успел выйти из строя. Такой уж, видно, нынче выдался день, топать пешком по ступенькам – то вверх, то вниз.
Ладно, спуститься с пятого этажа – дело небольшое, ноги не отвалятся.
Собкор двигался навстречу окну и жмурился – сквозь пыльные стекла светило солнце, погода для ноября стояла удивительно ясная и теплая.
Семь раз отмерь, один раз отрежь, бормотал он себе под нос. Урок, хороший урок на будущее. А то мы все сплеча да наотмашь. Вот ведь по всем признакам гад и брехун, а поближе посмотреть да в глаза заглянуть – живой человек. Если тебе оказано такое доверие, если тебе дана такая власть, ответственней нужно, без формализма. А то ведь там долго разбираться не станут, раз-два и готово. Еще и дети невинные пострадают, как тогда, в «мерседесе». В Содоме и Гоморре тоже, надо думать, были малые дети, которые во взрослых безобразиях не участвовали, а ведь и на них тоже пролил Господь серу и огонь – заодно, до кучи. А кто виноват? Не Бог – Лот. Это он, Божий уполномоченный, должен был подумать о детях и напомнить руководству. Тоже ведь был, можно сказать, собкором. Должность нешуточная. Вот в редакции, перед тем как первый раз в долгосрочку послать, сколько человека проверяли, перепроверяли, инструктировали. Чтоб понимал: собственный корреспондент – глаза и уши газеты, да не абы какой, а самой главной газеты самой главной страны. И то была всего лишь газета, а тут инстанция куда более возвышенная.
Нельзя заноситься, нельзя отрываться от людей, строго сказал себе Собкор. Приговор отменить, это первым делом. Пускай себе живет, раз непропащий человек.
На площадке четвертого этажа расположилась компания бомжей. Двое сидели на подоконнике (на газетном листе бутыль бормотухи, вареные яйца, полуобгрызенный батон), третий уже сомлел – лежал прямо поперек лестницы, раскинув ноги. Глаза закрыты, изо рта свисает нитка слюны, к небритой щетине пристала яичная скорлупа.
Какой он к черту буржуй, подумал Собкор про магистра-президента. Офис без евроремонта, лифт не работает, в подъезде вон бомжи киряют.
– Да здравствуют демократические реформы? – сказал он вслух и подмигнул бедолагам. – Так что ли, мужики?
Лежачий на его слова никак не откликнулся. Один из сидящих, с рыжеватыми волосами и, если помыть, еще совсем молодой, сказал с набитым ртом:
– Чего ты, чего. Сейчас докушаем и пойдем. Кому мы мешаем?
Другой просто шмыгнул распухшим утиным носом, подвинул батон к себе поближе.
Эх, несчастные люмпены. Щепки, отлетевшие от топоров рыночных лесорубов.
– Да мне-то что. Хоть живите тут, – махнул рукой Собкор.
Надо бы порасспросит, как до такой жизни дошли. Наверняка на пути каждого из них встретился какой-нибудь гнилостный гад – обманул, выгнал из дому, лишил работы, подтолкнул оступившегося.
Собкор замер в нерешительности – вступать в беседу, не вступать. Мужики смотрели на него с явной тревогой. Не будут откровенничать, им бы сейчас выпить да закусить.
Ну, пускай расслабляются.
Прошел мимо сидящих. Через спящего алкаша пришлось переступать – очень уж привольно расположился.
В тот самый миг, когда Собкор уже поставил одну ногу на ступеньку, расположенную ниже лежащего, а вторую еще не оторвал от площадки, клошар вдруг открыл ясные, совершенно трезвые глаза и со всей силы ударил Собкора грубым армейским ботинком в пах.
Ослепший от боли Собкор не успел и вскрикнуть. Рыжий и курносый вмиг слетели с подоконника, заломили ему локти за спину, причем оказалось, что оба бродяги почему-то в прозрачных резиновых перчатках, а тот, что притворялся спящим, задрал Собкору брючину и ткнул в голую лодыжку черной трубкой с двумя иголками.
Раздался треск электрического разряда, пахнуло паленым, и в следующую секунду (впрочем, следующей она была только для выпавшего из режима реального времени Собкора) перед его глазами оказался дощатый потолок, с которого свисали лохмотья паутины и клочья отслоившейся краски.
Потолок был наклонный, в углу смыкавшийся с полом. А когда Собкор повернул голову, то увидел сияющий квадрат окна с треснувшим стеклом, услышал откуда-то снизу завывание автомобильной сигнализации и подумал: я нахожусь на чердаке большого дома. Окошко выходит во двор, не на улицу – иначе был бы слышен шум движения.
Дул сквозняк, а холодно не было. Крышу солнцем нагрело, что ли.
Собкор посмотрел в другую сторону. Увидел сверху и чуть сбоку, совсем близко, небритую рожу Яичного. Скорлупы на щеке у него уже не было, но мысленно Собкор назвал разбойника именно так. В руке Яичный держал большой ком ваты, источавший резкий и неприятный запах. Нашатырь. Очевидно, только что отнял от лица пленника. Рыжий и Курносый стояли чуть поодаль.
«Идиоты, нашли кого грабить», хотел сказать им Собкор, но вместо этого только замычал – губы не пожелали размыкаться.
Оказывается, они были залеплены пластырем, а он сразу и не заметил.
К жертве грабителей понемногу возвращалось сознание, и открытия следовали одно за другим. Руки-то скованы за спиной наручниками. А ноги стянуты ремнем. Судя по тому, что сползли брюки, его же собственным.
– С возвращением, – сказал Яичный, оттянув пленнику веко. – Зрачок нормальный, контакт с действительностью восстановлен. Приступаем к прениям. Извольте обратить свой просвещенный взор вот сюда.
Собкор скосил глаза и увидел зажатый в пальцах бандита шприц.
– Тут, коллега, едкий раствор. Игла вводится в нервный узел. Интенсивность и продолжительность болевого синдрома зависят от дозы.
«Интенсивность, синдром», ишь ты, прямо профессор, подумал Собкор.
Яичный дернул его за руку, чуть не вывернув плечевой сустав, и аккуратным, точным движением, прямо через пиджак и рубашку, ткнул иглой в локоть.
Гхххххххх, подавился невыплеснувшимся воплем Собкор и секунд десять корчился, стукаясь затылком и каблуками об пол.
Подождав, пока конвульсии утихнут, Яичный продолжил:
– Это была минимальная доза. В порядке дегустации. Для экономии времени и сил. Моего времени и ваших сил. И чтобы вы поняли: мы не дилетанты, а профессионалы. Вы сами-то профессионал или как?
Собкор вопроса не понял, однако кивнул.
– Ну, значит, умеете оценивать ситуацию. Раунд проигран, информацию из вас мы все равно добудем. Вы знаете, что технические средства это гарантируют, вопрос лишь во времени. Так что, поговорим?
Собкор снова кивнул.
– Ну вот и золотце, – усмехнулся Яичный. – Значит, так. Официальную биографию можете не рассказывать, ее мы знаем. Лучше поведайте нам, уважаемый Иван Ильич Шибякин 1948 года рождения, как складывалась та линия вашей судьбы, что сокрыта от невооруженного глаза. Я спрашиваю, вы отвечаете. Четко, полно, честно. Я обучен определять дезинформационные импульсы по микросокращениям зрачка. Чуть что – получите дозу. Итак. Вопрос номер один. В какой структуре проходили спецобучение? ГРУ?
Собкор кивнул и в третий раз.
– Отлично. Я чувствую, мы поладим, – Яичный потянул за пластырь. – Вопрос номер два. Сколько вас?
Едва рот освободился от липкого плена, Собкор, не теряя ни мгновения, вцепился допросителю зубами в палец. Вгрызся, что было сил. На языке засолонело. Хотел вовсе откусить, но Яичный, выматерившись, ткнул Собкора указательным пальцем другой руки куда-то под скулу, и от этого лицо вдруг одеревенело, челюсти разжались сами собой.
Укушенный налепил пластырь обратно, затряс окровавленной рукой.
Протягивая ему платок, Рыжий сказал:
– Она же предупреждала: вряд ли профи, скорее идейный. Такого на два прихлопа не расколешь. Чего ты вздумал в гестапо играть? Сказано, в Мухановку, значит, в Мухановку. Все выслужиться хочешь, в дамки лезешь?
Яичный скрутил платок жгутом, перетянул раненый палец.
– Нам тут так на так до ночи сидеть, – зло процедил он. – Не тащить же его через двор среди бела дня? Время – субстанция конечная, его беречь надо. Опять же не впустую париться, а дело сделать. Ничего, я всяких колол. И идейных тоже. Пытка – не попытка. Да, товарищ?
Это он уже обратился к Собкору – наклонился к самому лицу пленника, подмигнул, а у самого глаза бешеные. Разозлился, значит, из-за пальца-то.
Собкор говорить не мог, а потому тоже подмигнул. Мысль у него сейчас была одна: пробил час испытания. Нисколечко не боялся. Даже обрадовался, потому что знал – выдержит.
Рыжий сказал:
– Охота тебе. В Мухановке вколем дозу – скворушкой запоет. Все расскажет: и сколько, и кто, и где.
А третий, которого Собкор окрестил Курносым, помалкивал, держал руки в карманах. Слова Рыжего взволновали пленника. А ну как в самом деле накачают наркотиками? Не выболтать бы, о чем не положено знать никому и никогда.
– Охота, – отрезал Яичный. – Я эту гадюку кусачую сейчас без химии поучу уму-разуму, по-афгански.
Он нагнулся, взялся одной рукой за ремень, которым были стянуты щиколотки Собкора, и рванул, намереваясь выволочь узника на середину чердака.
Рывок был такой мощи, что старый, в нескольких местах перетертый ремень лопнул. Яичный едва удержался на ногах, Собкор же проворно встал на колени, потом на корточки, увернулся от рук Курносого и, не тратя времени на то, чтобы распрямиться, метнулся к окошку. Вышиб головой прогнившую раму, кубарем прокатился по теплой, сверкающей бликами крыше и ухнул вниз, в густую тень.
Об асфальт он ударился спиной. Боли и звуков не было, но зрение и обоняние Собкора покинули не сразу. Он судорожно вдохнул запахи двора: сырость, бензин и карбид. В голубом прямоугольнике зажатого меж корпусами неба светило солнце.
Внезапно, очень явственно и отчетливо он увидел себя, молодого, четверть века назад. Рядом стояла жена. Они только что приехали на Остров Свободы, в первую загранку, вышли на балкон и смотрели на океан, на залитую солнцем Гавану. «…Семьсот сертификатов будем тратить на жизнь, а по пятьсот пятьдесят будем откладывать, да, Вань? Накопим, Вань, и купим двухкомнатную на Ленинском или на Академической», – щебетала Люба счастливым голосом. Собкор слушал и улыбался, а вокруг было столько света, сколько никогда не бывает в северных широтах.
Вдруг солнце начало стремительно меркнуть, небо потемнело, а облака сделались похожи на черные дыры. Это конец света, удовлетворенно подумал Иван Ильич. Допрыгались, гады? Ну, теперь вы за все ответите.
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.
Глава четвертая
Амур и Псишея
- Ах, лутьше б умер я, нещастный,
- Нежель сердечну муку длить
- И тщиться пламень сладострастный
- Слезами горькими залить,
– бормотал себе под нос нечесаный господин в засаленном сюртуке, отчаянно гримасничая и размахивая кулаком.
Пиит, с уважением подумал Митя. Внимает зову музы. Однако на всякий случай отодвинулся подальше – еще зашибет в лирическом упоении, ручища-то вон с оглоблю, да и пахло от Аполлонова жреца нехорошо, кислятиной и потом.
Среди собравшихся в сей позднеутренний час в апартаментах светлейшего князя Зурова стихотворец один был обтрепан и не напудрен, все прочие явились парадно, благоухая цветочными ароматами и немецкой туалетной водой.
Снова, как вчера, приходилось ждать, но умудренный опытом Митя уже понимал: придворная жизнь по большей части состоит в ожидании. Сегодня, правда, томились не только Карповы, а все, пришедшие засвидетельствовать почтение великому человеку. Дам почти не было, все больше господа, в том числе преважные, иные в генеральских мундирах, а у некоторых на камзолах такие бриллиантовые пуговицы, что за каждую, наверно, можно по два Утешительных купить. Стояли смирно, в голос никто не говорил, и вообще, как приметил Митя, держали себя здесь много строже, чем давеча в высочайшем присутствии. Сам же себе сей удивительный феномен и разъяснил: там, на четверговом собрании у государыни, что – лестно быть приглашенным, и только, а тут у людей судьба решается. Вот где подлинное вместилище власти, в этих беломраморных комнатах, примыкающих к внутренним царицыным покоям.
Человек с полета собралось, не меньше, и все беспрестанно поглядывали на высокую злато-белую дверь, откуда, должно быть, и следовало появиться Платону Александровичу. Каждый день в десять утра светлейший завивал волосы, попутно принимая просителей и значительных персон, кто приехал в Петербург или же, наоборот, собирался отъехать. Всякий посланник, даже из наипервейших европейских держав, знал: прежде чем предстать перед императрицей, надобно засвидетельствовать почтение Фавориту, иначе милостивого приема не жди. Вот и сегодня вместе с прочими дожидался какой-то восточный вельможа, в парчовом тюрбане, при красной бороде. Пальцы достойно сложены на брюхе, веки приспущены, из-под них нет-нет да и блеснет искорка – приглядывается, высматривает. Интересно, кто таков – перс или, может, бухарец? Вот бы с кем потолковать, порасспрашиватъ, чем попусту время тратить.
Митя с папенькой пришли загодя, в начале десятого, а уже минуло одиннадцать. Что-то заспался князь, но посетители, даже самые развельможные, не роптали. Лишь один пухлый генерал с черной повязкой на глазу все причитал, что кофей простынет. Рядом с Карповыми топтался говорливый старичок со звездой, он и шепнул, что сей заслуженный воин, измаильский герой, научился у турков варить замечательный кофей. Однажды Платон Александрович отведал знаменитого напитка и изволил похвалить, с тех-то пор Михаила Илларионович (так звали героя) почитает за обязанность каждое утро приезжать к светлейшему и собственноручно варить кофе. Ловок, с завистью сказал старичок. Этак в аншефы выплывет, на кофее-то.
Неужто это и есть чудесная придворная жизнь, о которой мечталось папеньке, вздохнул Митя. Сколько за вчера и за сегодня можно бы книг перечесть, интересных дум передумать…
– Не вертись, – шепнул Алексей Воинович. Нагнулся, поправил сыну тупей и тихо, чтоб сосед не слышал:
– Ничего, mon ange, потерпи. Они все просители, а мы приглашенные. Это большая разница.
Руки у папеньки трепетали еще больше, чем вчера. Шутка ли – сам Зуров к себе позвал! Императрица, та подарила сто червонцев и велела завтра ввечеру приходить в Бриллиантовую комнату, в шахматы играть, но сказала это лениво, зеваючи, а вот светлейший, прежде чем последовать за ее величеством в опочивальню, изрек кратко, непререкаемо: «Чтоб завтра на завивке были у меня. Оба».
Всю ночь папенька не спал, метался по гостиничной комнате. То страшился Фаворитовой ревности, то уповал на невиданные милости, то истово бил поклоны перед дорожной иконой. Мите и самому любопытно было – зачем это они князю понадобились? Может, хочет в шахматы поучиться, чтоб царицу обыгрывать? Это бы легче легкого.
Наконец-то! Ручка знаменательной двери дернулась, шелест голосов сразу затих. Все приготовились, умиленно заулыбались.
Однако в залу вышел не светлейший, а высоченный офицер-преображенец с хмурым, мятым лицом. Не взглянув на собравшихся, протопал к золоченому столику, где был сервирован фриштик на одну персону, налил из графина полный бокал вина, стал пить. Кадык у офицера дергался, и в тишине было слышно, как вино с бульканьем льется в глотку.
Старичок шепнул:
– Капитан-поручик Андрюша Пикин, князев адъютант. Забубенная башка, ему б в остроге сидеть. Все разбойнику с рук сходит.
Допив и смачна крякнув, капитан-поручик повеселел. Поправил лихой ус, облизнул красные губы и, звеня шпорами, направился к стоявшим у стены креслам, куда никто доселе присесть не осмеливался. Этот же развалился самым вольным образом, ногу на ногу закинул и еще трубку закурил.
Снова скрипнула дверь, снова сделалось тихо, но и на сей раз то был не князь, а преизящный господин, лицом удивительно похожий на стерлядку, какой Митя с папенькой угощались вчера вечером после малоэрмитажной виктории: такой же задранный кверху острый носик, широченный тонкогубый рот, и даже задом новоприбывший вихлял совершенно на манер рыбьего хвоста.
– Метастазио, Еремей Умбертович, – сообщил полезный старичок. – Секретарь светлейшего. Пойти, поклониться. Сейчас Сам пожалует…
И карповский сосед кинулся к секретарю, только где ему, старому, было протиснуться через иных Соискателей. Господина Метастазио обступили со всех сторон, совали какие-то бумаги, пытались шепнуть что-то на ухо. Он же на месте не стоял – легкой, порхающей походкой шел через залу, и вся толпа, толкаясь, двигалась за ним.
– Он итальянец, да? – спросил Митя вернувшегося ни с чем старичка.
– Проходимец он, – сердито ответил тот, потирая зашибленный локоть. – Его в Милане за шулерство к постыдному столбу выставляли. Давно ли барышень танцулькам обучал по рублевику за час, а ныне кавалер и действительный статский советник. – Сплюнул. – У царя дьяк, у дьяка хряк. Вот кто истинно империей-то правит. Никуда без него, вертлявого, не двинешься.
Сказал и сам напугался, аж рот себе зажал, по сторонам заоглядывался.
Проходимец ли, нет ли, но смотреть на итальянца было интересно. Все-то он, шустрый, поспевал: и с вельможами раскланяться, и выслушивать нескольких просителей сразу, и даме ручку поцеловать.
Вдруг остановился, сказал – чисто, почти без акцента:
– Вы, генерал, первый. Вы, граф, второй. После вы, сударыня, а дальше я укажу, кому…
Не договорил, склонил голову по-собачьи, прислушиваясь к чему-то, внятному ему одному. Стремительно вскинул руку – будто капельмейстер пред оркестром.
– Его светлость Платон Александрович Зуров!
Из-за двери донеслись громкие, неспешно приближающиеся шаги.
Сияющие створки в третий раз скрипнули, и впереди стоявшие согнулись в низком поклоне, так что теперь поверх спин и белых затылков Мите стало все очень хорошо видно.
Ух ты!
На середину залы, потешно переваливаясь, выбежала мартышка в короткой юбчонке и кружевных панталончиках. Увидела склоненные тупеи и давай в ладоши стучать, скалить желтозубую пасть.
А уж потом из-за створки высунулся сам Платон Александрович, да и покатился с хохоту.
– По… похвально, что даму чтите!
Прямо слезы у него из глаз, так смеялся. Преображенец Пикин с кресла вскочил, еще громче князя заржал, Метастазио же ограничился веселой улыбкой.
– Хорошо. В добром расположении пребывают, – обрадовался старичок.
И начался прием.
Светлейший, вышедший к посетителям в китайском халате, сначала закусывал: кушал маслинки, начиненные соловьиными язычками, и щипал шемаханский виноград. Потом ковырял в зубах. Покончив с зубами, взялся за нос, нисколько не смущаясь многолюдства. С утра кожа Платона Александровича золотом уже не искрилась, но впрочем цвет лица у его светлости был свеж, а щеки румяны. Большую часть просителей он слушал скучливо или, может, не слушал вовсе – мысли любимца Фортуны витали где-то далеко. Иной раз по понуждению куафера он вовсе поворачивался к низко кланяющемуся человеку затылком. О чем просили, Мите слышно не было, да и всяк старался изложить дело потише, склоняясь чуть не к самому уху князя.
Одним он не отвечал вовсе, и тогда нужно было пятиться прочь, а непонятливых господин Метастазио брал двумя пальцами за локоть или за фалду и тянул назад: подите, мол, подите. Митя приметил, что несколько раз итальянец что-то нашептывал патрону про очередного искателя, и таких Зуров слушал внимательнее, ронял два-три слова, которые секретарь немедленно записывал в маленькую книжечку.
Папенька предпринял тактический маневр. Взял Митю за рукав и тихонечко, тихонечко переместился влево. Расчет был такой: когда светлейшему кончат завивать правую сторону головы, он повернется другим профилем – и как раз узрит отца и сына Карповых.
Так и вышло. Увидев же Митридата и его родителя, светлейший вдруг оживился, взор из скучающего сделался осмысленным.
– А, вот вы где! – вскричал князь, дернул головой и вскрикнул – забыл про раскаленные щипцы.
– Руки велю оторвать, образина! – рявкнул он на куафера по-французски. – Отойди прочь. А вы, двое, сюда!
Папенька ринулся первым. Подлетел к его светлости соколом, поклонился и замер, как лист перед травой. Митя припустил следом, встал рядом. Ну-ка, что будет?
– Как вас… Пескарев? – спросил Зуров, вглядываясь в красивое лицо Алексея Воиновича, и отчего-то поморщился.
– Никак нет. Карпов, отставной секунд-ротмистр, вашей светлости по Конной гвардии однополчанин.
– Карпов? Ну, не важно. Вот что, Карпов, вашего сына я беру к себе в пажи. У меня будет жить.
– О! Какая честь! – возликовал папенька. – Я не смел и мечтать! Мы немедленно переедем на квартиру, которую вашей светлости будет благоугодно нам назначить.
– Что? – удивился Зуров. – Нет, вам, Карпов, никуда переезжать не нужно. Вы вот что. – Он снова поморщился. – Вы отправляйтесь… ну, в общем, туда, откуда приехали. Без промедления, нынче же. Еремей!
– Да, светлейший? – привстал на цыпочки Метастазио.
– Ты ему дай тысячу или там две за утруждение, пускай его посадят в санки и скатертью дорога. Да гляди у меня, Карпов, – строго молвил Платон Александрович, переходя с помертвевшим папенькой на «ты». – Не вздумай в Петербург возвращаться, тебе здесь делать нечего. А о сыне не тревожься, он у меня ни в чем нужды знать не будет.
– Но… но… Родительское сердце… Совсем дитя… И потом, в Брильянтовую комнату, приглашение ее величества, – залепетал Алексей Воинович бессвязное.
Однако князь его не слушал, а Метастазио уже тянул за фалду.
– Папенька! – закричал Митя, бросаясь к отцу. – Я с вами поеду! Не хочу я тут, у этого!
– Ты что, ты что! – зашептал папенька, испуганно улыбаясь. – Пускай так, это ничего, ладно… Приживешься, понравишься, и о нас вспомнишь. Ты его светлости угождай, и все хорошо будет. Ну, храни тебя Христос.
Наскоро перекрестил сына и не посмел более задерживать, попятился к двери, кланяясь Платону Александровичу.
– Попрощались? – спросил тот. – И отлично. А теперь поди-ка сюда, лягушонок.
Один остался Митя, совсем один среди всех этих чужих, ненужных людей. И как быстро все стряслось-то! Только что был с родителем и ничего на свете не боялся, а тут вдруг обратился сиротой, малой травинкой среди преогромных деревьев.
– Еремей, как он тебе? – Зуров слегка ущипнул Митю за щеку.
– Смотря для какой надобности ваша светлость намерена сего отрока употребить, – ответил итальянец, разглядывая мальчика.
Тот слушал ни жив, ни мертв. Как это «употребить»? Не съесть же? Тут вспомнилось прочитанное из китайской гиштории про злого богдыхана, который омолаживал кожу в крови младенцев. Неужто?!
– Как для какой? – осерчал князь. – Иль ты не знаешь, отчего я утратил сон и дижестицию желудка? Скажи, годится ли он в посланцы любви?
Над головами просителей вылезла косматая башка давешнего пиита.
– Сиятельный князь произнес слово «любовь»? – закричал стихотворец и замахал листком. – Вот обещанная ода, которую желая бы возложить к стопам вашей светлости и за авторство сих вдохновенных строк нисколько не держусь! Дозвольте прочесть?
Зуров не дозволил:
– Недосуг.
Секретарь взял у пиита листок, сунул в немытую лапищу золотой и замахал на толпу: отодвиньтесь, отодвиньтесь, не для ваших ушей.
Подтанцевал обратно к столику, успев по дороге погладить Митю по голове.
– Не мал ли?
– Глуп ты, Еремей, хоть и слывешь умником. Мал золотник да дорог. А я сразу придумал, вчера еще. – Хитро улыбнувшись, Зуров достал из кармана мелко исписанную бумажку. Велел Мите. – Слушай и запоминай.
Стал читать вполголоса, проникновенно:
«Павлина Аникитишна, mon ame, mon tout ce que j'aime![3] Напрасно вы бежите меня, я уже не есть тот, который был. Не беспутной ветреник и не любитель старушьего плотолюбия, каким ты, верно, меня мнишь, а истинный Вертер, коему от нещастныя страсти неутоления жизнь не мила, так что хоть пулю в лоб или в омут головой. А чувствительнее всего мне то, что смотреть на меня не желаешь и когда мимо твоего дома верхами проезжаю, нарошно велишь ставни закрывать. Жестокосердная! Пошто не бываешь ни в балах, ни на четвертках? Уж и она приметила. Давеча говорила, где моя свойственница, а у меня сердце в груди так затрепыхалось, словно крылья бога любви Амура. И то вам подлинно сказать могу, голубушка Павлина Аиикитишна, что я буду не я, если не стану с тобой, как Амур с Псишеей, ибо вы самая Псишея и есть. Помните сии вирши иль нет? „Амуру вздумалось Псишею, резвяся, поймать, спутаться цветами с нею и узел завязать“. Так ведай же, о, Псишея души моей, что узел меж нами завязан волею небес и никоим силам немочно тот узел развязать!
Ton Amour».
Пока читал, прослезился от чувств, промокнул манжетом глаза.
– Ну-ка, премудрый Митридат, повтори. Да гляди, ни слова не выпусти. Сможешь?
Чего ж тут мочь? Митя повторил, не жалко. Светлейший следил по бумажке.
– Ага! Все в точности! Как по-писаному! – взликовал он. – Видишь, Еремей? Буду ей писать, моей душеньке, а письмеца никто не выкрадет, не трясись. Если что – малец сам выдумал, всегда отпереться можно. Старуха мне поверит. Да еще гляди. – Зуров взял Митю за плечи, повернул и так, и этак. – Волосья ему подвить, хитончик пошить, сзади крылышки из кисеи – будет Купидон. Еще можно малый лук золоченый, со стрелами.
Тут Метастазио заволновался, стал шипеть Фавориту в ухо. Митя отошел – пускай себе секретничают, не очень-то и нужно.
Все не мог опомниться от приключившегося жизненного переворота. Куда прислониться? У кого спросить совета?
Побродил по зале, повздыхал и пристроился подле знакомого старичка – все ж таки не совсем чужой, больше часа бок о бок простояли.
– С милостью вас, – сказал тот и присел на корточки, чтоб быть вровень с Митиным лицом. – Кто рано начинает – высоко взлетает. Может, когда-никогда выдастся оказия, и за меня словечко замолвите? Третью неделю паркеты топчу, все никак не протолкаюсь. А дело у меня, сударь мой, вот какое…
И завел что-то про младшего сынка-недоросля, но так долго и подробно, что Митя скоро отвлекся – стал за мартышкой наблюдать. Очень уж затейная была, бестия, пронырливая. Понравился ей чем-то кофейный генерал, застыла она перед ним, уставилась снизу вверх своими блестящими глазенками, морщинистый палец в рот засунула – ну прямо по-человечьи.
– Ой, берегись, Михаила! – весело предупредил Фаворит. – Зефирка у меня влюбчивая. Гляди, не попользуйся девичьей слабостью. Обрюхатишь – жениться заставлю.
Генерал княжьей шутке обрадовался, ответил в тон:
– Так ведь это, Платон Александрыч, от приданого зависит, какое пожалуете. А то и женюсь, ей-богу.
Наклонился к скотине и представил ей пальцами козу. Зефирка застеснялась, генералову руку своей лапкой пихнула, головенку вбок отвернула, а сама на героя глазенками так и стреляет. Все давай смеяться мартышкиной кокетливости. Она того пуще законфузилась, опустилась на четвереньки, попятилась и вдруг как спрячется ближней даме под пышную юбку.
Что тут началось! Дама стоит ни жива ни мертва, только приседает да повизгивает. Публика корчится от хохота, громче всех заливается сам Фаворит.
А Мите даму жалко. Каково ей? Не юбки же задирать, чтоб животное выгнать? И рукой через жесткие фижмы тоже не достанешь.
– Ай, ай, – причитала бедная. – Перестань! Миленькая, Зефирочка! Ай, что ты делаешь!
Хотела к выходу просеменить, но чуть не упала. Видно, мартышка ей в ноги вцепилась – ни шагу не ступишь.
Митя увидал, что у несчастной пленницы по лицу текут слезы, даже мушка со щеки отклеилась, вниз поплыла. Неужто никто не поможет, не заступится? Что ж, тогда на помощь ей придет рыцарь Митридат.
Он подбежал, тоже встал на четвереньки, приподнял край парчового платья и пролез под проволочный каркас.
Там было темно, тесно и пахло звериным запахом – надо думать, от Зефирки.
Хохот из многих глоток, когда лиц не видать, звучал жутковато, будто свора собак осипла от заполошного лая. Ну и пускай их хохочут.
Мартышка скрючилась, обхватив белеющую во мраке полную ногу. Не исцарапает? Нет, обрадовалась избавителю – обняла его за шею, и он полез обратно, стараясь не слишком высоко поднимать юбку от пола.
Митю встретили рукоплесканьями и шутками. Шутки были взрослые, несмешные. Митя умел их распознавать по особенному тону, каким сии mots произносились, и в смысл не вникал – пустое.
– Мал, да удал! Везде побывал, все повидал!
– Одним махом двух нимф услаждахом!
– С новым галантом вас, Марья Прокофьевна!
Право, как дети малые.
Зефирка ручонки расцепила, скользнула на пол, да и замерла, очарованная пряжкой на Митином башмачке. Цветные стеклышки так переливались, так сверкали – заглядение.
Потрогала, подергала, потом вдруг как рванет!
– Отдай!
Куда там. Коварная тварь сунула трофей в зубы и припустила прочь на всех четырех лапах, ловко лавируя меж ног.
– Пиши пропало, – сказал старичок-сосед. – Что пряжка, третьего дня эта поганка у меня с груди звезду Александра Невского уперла! Любит, сволочь, блестящее. Хотел у его светлости попросить, чтоб отыскали, да не осмелился. Жалко, беда! С алмазами была звезда-то…
А Митя взглянул на осиротевший башмак, еще недавно столь нарядный и прекрасный, – слезы брызнули. Ну, проклятый Cercopithecus[4] из семейства приматов, нет такого закона, чтоб у дворянских сыновей пряжки воровать!
И ринулся в погоню – тоже на четвереньках, ибо так обсервация лучше.
Ага, вон ты где, за лаковыми ботфортами! Зефирке игра в догонялки, похоже, понравилась. Она оборачивалась, корчила рожи, в руки не давалась.
От ботфорт к палевым чулкам; потом к старомодным башмакам с высокими красными каблуками; потом под кресло. Чуть-чуть не поспел за юбчонку ухватить, выскользнула. Но дальше прятаться Зефирке было негде: голый паркет, стена, боковая дверь.
Попалась!
Митя поднялся, растопырил руки.
– А ну, дай!
Мартышка вынула пряжку изо рта, сунула под мышку и вдруг отмочила штуку: подпрыгнула, повисла на дверной ручке, и дверь приоткрылась. Подлая воровка шмыгнула в темную щель, исчезла.
Ну нет, шалишь! Митридат Карпов от поставленной цели не отступится.
Митя оглянулся назад – одни спины, никто не смотрит. Стало быть, вперед, в погоню.
Зефирка ждала на том конце большой, с завешенными окнами комнаты. Задрала юбку, махнула хвостом, для которого в панталончиках имелся особый вырез, и побежала дальше – но не слишком споро, будто не хотела, чтоб преследователь совсем отстал.
Так пробежали пять или, может, шесть пустых комнат. Митя их толком не рассмотрел, не до того было. А в невеликой, славно протопленной каморе (в углу поблескивала бело-синими изразцами большущая голландская печь) воровка прыгнула на лавку, с лавки на портьеру, с портьеры под потолок и вдруг исчезла.
Что за чудо?
Митя пригляделся – вон оно что! Печь шла не до самого потолка, там была щель, этак с пол-аршина. Надо полагать, для циркуляции нагретого воздуха.
По портьере лазить человеку невозможно, поэтому со скамьи он вскарабкался на подоконник, оперся ногой на медную ручку заслонки, другой встал на приступку, ухватился за фрамугу, а там уже можно было и до печного верха дотянуться.
Ну вот и встретились, мадемуазель Зефира! В узком, темном надпечье передвигаться получилось только ползком. В носу щекотало от пыли, и мундир с кюлотами, наверно, запачкались, но зато пропажа была возвращена – мартышка без боя вернула пряжку, сама протянула.
Выходило, что она не подлая и не жадная. Оказавшись на печи, угомонилась, дразниться перестала. Может, она вовсе и не бежала от Мити, а к себе в гости звала?
А судя по некоторым признакам, именно здесь, на печи, находилось Зефиркино жилище или, вернее сказать, ее эрмитаж, куда посторонним доступа не было. Когда глаза приобвыклись с темнотой, Митя разглядел разложенные по кучкам сокровища: с одной стороны пол-яблока, несколько коржиков, горку орехов; с другой – вещи поинтересней. Золотая ложечка, большой хрустальный флакон, еще что-то, переливавшееся голубоватыми бликами. Взял в руку – алмазная звезда. Верно, та самая, утащенная у незадачливого старичка. Надо вернуть, то-то обрадуется. Во флаконе темнела какая-то жидкость. Духи?
– Нехорошо, – сказал Митя хозяйке. – А если каждый начнет таскать, что ему нравится? Это у нас тогда как во Франции выйдет – революция.
Зефирка погладила его сухой лапкой по щеке, сунула огрызок печенья – угощайся, мол.
– Мерси. Давай-ка лучше отсюда слезать, не то…
Тут в комнате раздались шаги – вошли двое, а то и трое, и Митя замолчал. Ах, нехорошо. Найдут на печи, да еще с ворованным. Не ябедничать же на Зефирку, тварь бессловесную и к тому же, как выяснилось, нескверную сердцем.
– …Будто мало девок! Никогда не мог понять, почему нужно непременно упереться в какую-нибудь одну! – произнес мужской голос, показавшийся знакомым. – Ведь суть-то одна, вот это, и ничего более. – Раздалось легкое пошлепыванье, будто стучали ладонью по ладони или, скорее, по сжатому кулаку, после чего говоривший продолжил. – Эк что придумали, статс-даму вам подавай! Царскую свойственницу! Да в своем ли вы уме, князь? Блажь, и к тому же преопасная. Предосторожность с мальчонкой вас не спасет. Князь, вы не думаете ни о себе, ни о преданных вам людях!
Метастазио – вот кто это, узнал Митя.
– Оставь, надоел, – ответил второй (уж понятно, кто). – Клянусь, она будет моей, чего бы мне это ни стоило.
– Чего бы ни стоило? – зловеще переспросил итальянец. – Даже, к примеру, положения, высшей власти, наконец, самое жизни? Помните про завещание. Вы в двух шагах от сияющей вершины, а норовите броситься в пропасть! Что вас ждет, если воцарится курносый – об этом вы подумали?
– Ему что, – басисто вступил в разговор третий, неизвестно кто. – Ну, в поместье сошлют или, шишки зеленые, за границу укатит. А за горшки платить нам с вами, Еремей Умбертович. Ma foi,[5] Платон, ну ее к черту, дуру жеманную. Ты не думай, нешто я не понимаю, каково тебе со старухой слюнявиться? Я тебе, сосенки точеные, нынче же из табора такую богиню доставлю – затрясешься. И шито-крыто будет, никто не сведает!
– Молчи, Пикин. Ты дурак, тебе только по шлюхам таскаться. Оба заткнитесь! Мое желание вам – закон. А перечить будете, выгоню прочь. Нет, не выгоню – болтать про меня станете. В медвежью яму кину, ясно?
Загрохотали гневные шаги – один ушел, двое остались. Значит, придется еще ждать. Зефирка положила Мите голову на плечо, сидела тихо.
Внизу помолчали.
– Ну что, Пикин? – медленно произнес секретарь светлейшего. – Сами видите, наш петушок вовсе ума лишился. Дальше ясно: поймают с поличным (уж ловильщики сыщутся) да и взашей. Старуха не простит. Время теряем, Пикин. Вы завтра во дворце на дежурстве, так?
– Так.
– Ну и подмените склянку, как велено. Старуха выпьет и околеет, но не сразу – дня через два. Успеет и завещание объявить, и Внуку скипетр передать. Тогда нам бояться нечего, в еще большей силе будем. Что вы усами шевелите? Или перетрусили, прославленный храбрец?
А ведь «старуха» – это государыня императрица, догадался Митя, и ему стало очень страшно. Околеет? Отравить они ее, что ли, хотят? Как Мария Медичи наваррскую королеву? Ах, злодеи!
– Еремей Умбертович…
– Что это вы, Пикин, в глаза не смотрите? Или забыли про расписку? А про ту шалость? Это ведь каторга, без сроку.
– Ладно пугать, не из пугливых, – огрызнулся преображенец. – Нашел чем стращать – каторгой. Бутылку подменить дело ерундовое, да только вот какая оказия… Пропала склянка-то.
– Что-о?! Как пропала?!
– Ума не приложу. В спальне у меня была, в сапоге. Думал, никто не залезет. А нынче утром сунул руку – пусто.
– Это Маслов, – простонал итальянец. – Он, ворон, больше некому. Тогда непонятно одно: почему вы еще на воле? Или не опознал? Навряд ли. Он у старухи каждый день, не мог не заметить, что склянка точь-в-точь, такая же. А если… Тс-с-с! Что это? Вон там, на печи!
Ax, беда! Выдала Митю несмышленая Зефирка. Надоело ей тихо сидеть, зашебуршилась, заелозила, да и брякнула каким-то из своих сокровищ.
– Мышь.
– Странная мышь, со звоном. Ну-ка, кликните слуг.
– Зачем слуг? Сам взгляну. Я, Еремей Умбертович, ужас до чего любопытный.
Внизу, совсем близко, загрохотало – это Пикин лез любопытствовать. Не торопился, лиходей, да еще напевал хрипловатым голосом:
- Ни крылышком Амур не тронет,
- Ни луком, ни стрелой.
- Псишея не бежит, не стонет —
- Свились, как лист с травой.
В щель просунулась ручища, блеснув золотой пуговицей на обшлаге.
Митя вжался в самую стену, затаил дыхание. Да где там – не укроешься: капитан-поручик шарил обстоятельно, не спеша.
- Парапетам, парапетам, согласием дыша.
- Та цепь тверда, где сопряженно с любовию душа…
Глава пятая
Истребление тиранов
Едва цепь, соединявшая душу Ивана Ильича Шибякина с телом, оборвалась, как сразу же выяснилось, что все обман – никакого конца света не предполагается. Небо немедленно посветлело, облака из черных снова стали белыми, да и солнце передумало гаснуть. Какой там – оно засияло еще пуще, торопясь завершить свой недолгий осенний маршрут.
Когда же на город сошли густые ноябрьские сумерки, Николас Фандорин оторвался от уютно мерцающего экрана, потянулся и подошел к окну.
Одуревшему от программирования взору Москва явилась странно расплывчатой и даже, выражаясь языком компьютерным, глючной. На первый взгляд обычный вечерний ландшафт: разноцветные рекламы, волшебно-светозарная змея автомобильного потока, извивающегося по Солянке, подсвеченные прожекторами башни Кремля, вдали – редкозубье новоарбатских «недоскребов». Но, если присмотреться, все эти объекты имели различную консистенцию, да и вели себя неодинаково. Кремль, церкви и массивный параллелепипед Воспитательного дома стояли плотными, непрозрачными утесами, а вот остальные дома едва приметно подрагивали и позволяли заглянуть внутрь себя. Там, за зыбкими, будто призрачными стенами, проступали контуры других построек, приземистых, по большей части деревянных, с дымящими печными трубами. Машины же от пристального разглядывания и вовсе почти растаяли, от них осталась лишь переливчатая игра бликов на мостовой.
Николас посмотрел себе под ноги и увидел внизу, под стеклянным полом, крытую дранкой крышу, по соседству, в ряд, другие такие же, еще острый верх бревенчатого частокола. Это амбары с солью, догадался магистр истории. Задолго до того, как в начале двадцатого века Варваринское товарищество домовладельцев выстроило многоквартирную серокаменную махину, здесь находился царский Соляной двор. Неудивительно, что в этих каменных теснинах ничего не растет – земля-то насквозь просолена. Тут Фандорин разглядел у ворот Соляного двора часового в тулупе и треугольной шляпе, на штыке вспыхнул отблеск луны. Это уж было чересчур, и Николас тряхнул головой, отгоняя не в меру детальное видение.
Разве можно до такой степени погружаться в восемнадцатое столетие? Время – материя коварная и непредсказуемая. Однажды так вот нырнешь в его глубины, да и не сумеешь вернуться обратно.
Еще раз встряхнулся, энергично, и наваждение рассеялось. Пол снова стал непроницаемым, дубовым, на улице заурчали автомобили, а с верхнего этажа донеслась дерганая карибская музыка – там жил растаман Филя.
Надо сказать, что отношения с местом обитания у Фандорина сложились странноватые. Такой уж это город – Москва. В отличие от Венеции или Парижа, она берет тебя в плен не сразу, при первом же знакомстве, а просачивается в душу постепенно. Этакая гигантская луковища: сто одежек, все без застежек, снимаешь их одну за одной, снимаешь, сам плачешь. Плачешь оттого, что понимаешь – до конца тебе не раздеть ее никогда.
Голос у тысячелетнего Города – в смысле, настоящий, а не обманный, который для гостей столицы – не шум и гам, а тихий-претихий шепот. Кому предназначено, услышит, а чужим незачем. С некоторых пор Ника научился разбирать эти приглушенные речи. А потом, лиха беда начало, приспособился и видеть такое, что открывается немногим. Например, контуры прежних зданий, проступающие сквозь стены новых построек. Парящие над землей разрушенные церкви. Гробы позабытых кладбищ под многолюдными площадями. Даже людей, которые жили здесь прежде. Толпы из разных московских времен скользили по улицам, не пересекаясь и не замечая друг друга. Иногда Фандорин останавливался посреди тротуара как вкопанный, залюбовавшись какой-нибудь незнакомкой в пышной шляпке с вуалью. На долговязого растяпу налетали сзади, обзывали сердитым словом (и поделом обзывали). Опомнившись, Николас виновато улыбался и шел дальше, но все оглядывался, оглядывался – не вынырнет ли снова у витрины «Седьмого континента» силуэт из столетнего далека.
Как-то раз, сдуру, попробовал рассказать про другую Москву жене. Та встревожилась, потащила к психиатру – еле отбился. Что ж, если это было и сумасшествие, Нике оно нравилось, излечиваться он не хотел. Во всяком случае, он псих тихий и никому не докучающий, не то что сегодняшний господин Кузнецов. «Суд удаляется на совещание». Каково? Ладно, а сам-то, сам: президент фирмы добрых советов, подверженный галлюцинациям и тратящий уйму времени на никому не нужные игрушки.
За этим дурацким занятием не заметил, как день пролетел. С загадкой для сержанта в конце концов все устроилось. Придумался такой фокус – пальчики оближешь или, как выражается Валя, абсолютный супер-пупер.
Секретарь разок заглянул в кабинет, наверное, хотел что-то спросить, но Николас замахал на него: уйди, уйди, не до тебя – перед Данилой никак не желала открываться дверь в Бриллиантовую комнату. То и дело звонил телефон, но, судя по тому, что Валя обходился сам, ничего важного. Говорить пришлось всего однажды, с женой.
– Пожар, – сказала Алтын, как всегда, без вступлений и нежных словечек, даже без «здравствуй». – Из Питера позвонили. Там «Возня» горит. Заболел председатель секции по растленке. Нужно выручить. Я из редакции в аэропорт. Забери зверят из сада. Вернусь через три дня. Ты в порядке?
– Да, но…
– Не скучай.
И повесила трубку. Жена у Николаса была ужасно невоспитанная. Он давно к этому привык и не обижался, только иногда, в философические минуты, диву давался – что за диковинную пару они собой представляют: двухметровый рефлексирующий мямля, воспитанный в вест-эндской частной школе, и маленькая, задиристая пантера из бескудниковских джунглей. Налицо несхожесть вкусов, противоположность темпераментов, даже внутренние хронометры у них настроены по-разному – Алтын живет по секундной стрелке, а он ведет отсчет времени на века. Почему молодая, стильная, победительная женщина до сих пор не послала «баронета хренова» (как выражалась Алтын в сердитые минуты, и это еще в лучшем случае) к королеве-матери (еще одно выражение из ее динамичного лексикона), для Фандорина было загадкой, чудом из чудес. Однако спасибо за то, что на свете есть чудеса, и не стоит подвергать их химическому анализу.
Полное название «секции по растленке» было такое: Секция по борьбе с растлением несовершеннолетних при Всероссийском Обществе Защиты Нравственности Юношества (в просторечии «Возня»), одним из учредителей и спонсоров которого являлась газета «Эросс». К этим общественным обязанностям Алтын относилась не менее серьезно, чем к редакционным, и никакого противоречия между обеими сферами своей деятельности не видела. На ехидные Никины замечания отвечала: полноценная сексуальная жизнь нравственности не помеха, а если ты, дожив до сорока лет, этого еще не понял… – и дальше начинались оскорбления.
Забрать из детского сада детей? Однако Николас обещал, что съездит с Валей Гленом в Мюзик-холл. Валя давно занимался современным танцем, но исключительно для собственного удовольствия, а тут вдруг решил попробовать свои силы на профессиональной сцене. В Мюзик-холле шел открытый кастинг для нового супер-продакшна «Пиковый валет», и человек будущего очень нервничал, просил оказать моральную поддержку. Должно быть, затем и в кабинет заглядывал – проверить, не забыл ли шеф про обещание.
Сейчас четверть седьмого. В саду детей держат до восьми, самое позднее до половины девятого. Значит, нужно было торопиться.
Фандорин вышел в приемную.
Глен стоял у окна, выходившего во двор, и что-то сосредоточенно разглядывал. По стеклу плыли неземные красно-синие отсветы. Заинтересовавшись их происхождением, Николас присоединился к своему помощнику.
Колодец двора, расписанный домоуправлением в цвета лунного кратера, смотрелся жутковато, но красиво. Окна сияли, как планеты, а внизу стоял луноход – милицейский автомобиль, гонявший по стенам красные и синие блики. Какие-то люди водили по земле кружками яркого света, и на мгновение из полумрака выхватился нарисованный мелом контур человеческой фигуры.
– Что там такое? – спросил Фандорин.
– Улет, старфлайт, – мечтательно протянул Валя.
– Какой улет?
– Полный. Мужик какой-то взял и улетел. Абсолютно. Послал всех на факофф и улетел. Наверно, вмазал «белого» или стэмпов нализался – от них тоже крылья вырастают.
– Кто-то выкинулся из окна? – спросил дрогнувшим голосом Ника. – Только что?
Живешь обычной, счастливой жизнью, расстраиваешься или радуешься из-за пустяков, а в это время совсем рядом кто-то задыхается от нестерпимой боли или невыносимого одиночества и выносит сам себе смертный приговор…
– Не, давно уже. Часа три. Сначала альтефрау дворовые заголосили, потом приехали флики. Я хотел вам сказать, а вы меня по бэксайду веником.
– Ты что тут про стэмпы плел? – нахмурился Николас, отходя от окна. – Какие еще крылья? Смотри, Валентин, ты мне слово давал. Будешь баловаться с наркотиками – вылетишь в секунду, без выходного пособия.
– То-то с бонанзы соскочу, – съязвил ассистент.
Туше. Что правда, то правда – денег Николас платил своему помощнику мало, да и те с задержками. С другой стороны, Глен работал в «Стране советов» не из меркантильных соображений. Мать-банкирша (Валя называл ее Мамоной) выдавала сынуле на кино и мороженое куда больше, чем Николас зарабатывал в самые хлебные, докризисные времена. Фандорин неоднократно намекал представителю золотой молодежи, что при нынешней конъюнктуре вполне может обойтись и без секретаря, но реакция на подобные демарши была бурной. В голубые дни Валя наливался скупой на слова мужской обидой, а в розовые закатывал, то есть закатывала истерику с рыданиями.
Глен не делал секрета из причины, по которой пять дней в неделю, с одиннадцати до шести, просиживал в приемной офиса 13-а. Причина была романтической и называлась «Любовь». В каком из двух своих качеств Валя был (была?) влюблен(а) в шефа, для последнего оставалось загадкой, ибо Николас ловил на себе томные взгляды ассистента и в голубые, и в розовые дни. Глен обладал чудовищным терпением гусеницы-древоточицы и, несмотря на абсолютную невосприимчивость обожаемого начальника к андрогинным соблазнам, явно не терял надежды рано или поздно добиться своего. Фандорин понемногу привык к утомительным повадкам секретаря – зазывному трепету ресниц, облизыванию якобы пересохших губ, беспрестанному соскальзыванию бретельки с точеного плечика – и перестал обращать на них внимание. В конце концов, с канцелярской работой Валя справлялся превосходно, а на выезде и вовсе был незаменим. Где найти другого такого сотрудника, да еще за столь неубедительную зарплату? В этой логике безусловно присутствовал постыдный элемент содержанства, но Фандорин рассчитывал, что Валина страсть постепенно перейдет в платоническую фазу – ведь сексуальная жизнь человека будущего протекала куда как бурно и без Никиного участия.
Валя укоризненно потупился, ласкающим движением руки провел по своей тонкой шее, любовно обрамленной воротом пятисотдолларового свитера, погладил себя по полированной до зеркального блеска макушке. Он очень гордился идеальной формой черепа и в мужской своей ипостаси выставлял ее напоказ, в женской же предпочитал разнообразие в прическах – в особом шкафу у него висело несколько десятков париков самых невообразимых фасонов и расцветок.
– Ладно вам закидываться. – Глен одним пальцем дотронулся до Никиного плеча. – Захотел человек и улетел. Его прайваси. Мы все как перелетные фогели. Поклюем семечек, выведем птенцов и курлык-курлык, пора в райские страны. Шеф, мы едем в театр или нет? Ай эм coy нервэс, прямо кошмар!
Все он врал про кошмарное волнение. Это стало ясно, когда три десятка претендентов стали отплясывать на сцене, следуя командам режиссера («Ручейком назад! Прыжок! Еще! Теперь поработайте ногами! Девушка в зеленом трико, я сказал ногами, а не задницей! Волну руками! Так! Показали растяжечку!»).
Среди всего этого броуновского движения Глен смотрелся прима-балериной в окружении кордебалета. Его прыжки были самыми высокими, ручеек самым изящным, ноги он закидывал так, что колено сливалось с плечом, а когда режиссер велел «поддать эротики», все, кто сидел в зале, смотрели уже только на новоявленного Антиноя.
При этом Валя еще успевал метать быстрые взгляды на шефа, так что замысел был очевиден: привел для того, чтобы впечатлить. Фандорин вздохнул, посмотрел на часы – через десять минут пора было ехать за детьми.
Режиссер выставил со сцены всех кроме Вали и теперь гонял его одного, так что исход конкурса можно было считать предрешенным.
И следующая группа конкурсантов, и болельщики, и даже посрамленные претенденты не сводили глаз с божественного танцовщика, подбадривали его криками и аплодисментами. Особенно усердствовали девушки. Николас заметил, что некоторые из них с явным интересом поглядывают и на него. Это было лестно. Если в сорок лет на тебя засматриваются нимфетки, значит, ты еще чего-то стоишь. Он расправил плечи, небрежно закинул руку на спинку пустого соседнего кресла.
Одна девчушка, очень худенькая, из-за алого трико похожая на весеннюю морковку, пошептавшись с подружками, направилась к Фандорину. Ну, это уж было лишнее. Невинно полюбоваться младой порослью – это одно, но вступать с нею в переговоры, да еще, возможно, нескромного свойства?
На всякий случай он снял руку с кресла, застегнул пиджак и нахмурился.
– Извините, вы голубой? – спросило дитя, приблизившись.
Зная раскованность московской молодежи, Николас не очень удивился. Просто ответил:
– Нет.
Морковка просияла, обернулась к подружкам и показала им два пальца, сложенные колечком – окей, мол.
– Значит, вы его ботинок? – кивнула она в направлении сцены. – Пришли попсиховать?
Только теперь до Николаса дошла причина девичьей заинтересованности в его персоне. Слово «ботинок» (производное от «батя») на живом великорусском означало «отец».
– Не ботинок, а коллега, – печально молвил он. – Однако не советую вам, милая барышня, увлекаться Валей.
Девчушка схватилась за сердце.
– Так это он голубой? Он не по девчонкам, да?
Николас не сразу придумал, как объяснить окрашенность Валиных пристрастий.
– Он… полихромный. Но, повторяю еще раз, не советую. Наплачетесь.
– Вы, дяденька, советами своими на базаре торгуйте, – ответила повеселевшая барышня. – Хорошие бабки получите.
И пошла себе. Вот уж воистину: устами младенца.
На Покровку, в детский сад «Перипата», Николас домчал быстрей, чем рассчитывал. Всегдашней пробки на бульваре не было – спасибо ноябрю, полудремотной поре, когда замедляется ток всех жизнеформирующих жидкостей, в том числе московского траффика.
Сад был не обычный, казенного образца, а прогрессивный, частный. Некая преподавательница-пенсионерка, устав прозябать на полторы тысячи в месяц, набрала группу в десять детей. Ее соседка по коммуналке, в прошлом художник-график, отвечала за питание. Стихийно возникший штат дошкольного учреждения дополняли остальные соседи: безработная аптекарша и увечный майор-спецназовец, которому доверили спорт и подвижные игры. Платить за детей приходилось немало, но «Перипата» того стоила – даже взыскательная Алтын была детсадом довольна.
Геля сидела в прихожей на галошнице, болтая ногами.
– Явился, – сказала она (научилась суровости у матери). – Между прочим, восемь часов. Костю с Викой уже забрали.
Прислушавшись к воплям, доносившимся из глубины квартиры, Николас парировал:
– Но остальные-то еще здесь.
– А Костю с Викой уже забрали, – непреклонно повторила дочь, но все же чмокнула отца в щеку, и Ника привычно растрогался, хотя поцелуй был всего лишь данью традиции.
– Что же ты не играешь?
– Я не люблю про взятие дворца Амина.
– Какого дворца? – изумился Фандорин.
– Ты что, пап, с Чукотки? – покачала головой Геля. – Амин – это афганистанец, который хотел нас всех предать.
– Афганец, – поправил Ника, мысленно, уже в который раз, пообещав себе поговорить с майором Владленом Никитичем, забивающим детям голову всякой чушью. И потом, что это за выражение про Чукотку? Или побеседую с самой Серафимой Кондратьевной, дал себе послабку магистр, потому что несколько побаивался ветерана спецназа, у которого вместо куска черепа была вставлена титановая пластина.
Минут двадцать ушло на то, чтобы вытащить из боя сына. Эраст дал себя эвакуировать, лишь получив тяжелое ранение в сердце. Николас вынес героя в прихожую, одел, обул. Сознание вернулось к раненому только на лестнице.
Все-таки удивительно, до чего мало близнецы были похожи друг на друга. Геля светловолосая, в отца, а глаза мамины, темно-карие. Эраст же, наоборот, получился черноволосым и голубоглазым.
Из-за имен между супругами разразилась целая баталия – никак не могли между собой договориться, как назвать сына и дочку. В конечном итоге поступили по-честному: мальчика нарек отец, девочку мать. Оба – Николас и Алтын – остались крайне недовольны выбором противной стороны. Жена говорила, что мальчика задразнят, будут обидно рифмовать, про героического прадеда Эраста Петровича слушать ничего не желала. Ника тоже считал имя Ангелина пошлым и претенциозным. Хотя дочке оно, пожалуй, подходило: при желании она могла изобразить такого ангелочка, что умилился бы сам Рафаэль.
В отсутствие Алтын принцип единоначалия в семье Фандориных действовать переставал, начинался разгул анархии и вседозволенности, поэтому уложить детей в кровать Николасу удалось только к десяти. Теперь оставалось прочесть вечернюю сказку, и можно будет поработать над сценарием дальнейших приключений камер-секретаря.
– «Иван-царевич и Серый Волк», – прочитал Ника заглавие сказки и подержал вкусную паузу.
Эраст, мальчик толстый, неторопливый, обстоятельный, подпер голову рукой и сдвинул брови. Угол, где стояла его кроватка, был сплошь увешан оружием и батальными рисунками. Геля приоткрыла губы, одеяло натянула до самого подбородка – приготовилась бояться. На стене у нее было нарисовано окошко с видом на море, поверх рисунка – настоящие занавески с кружевами.
– «В одном царстве, в русском государстве жил-был царский сын Иван-царевич», – начал Фандорин.
– Мальчик? – немедленно перебила Геля. – Опять? То про Мальчика-с-пальчика, то про Емелю. А про девочку когда?
Эраст выразительно закатил глаза, но проявил сдержанность, ничего не сказал.
– Будет и про девочку, – пообещал Фандорин, наскоро пробегая глазами по строчкам – по правде говоря, сказку про Серого Волка он помнил плохо, разве что по картине Васнецова. – Попозже.
– Так нечестно. Пускай сразу про девочку.
– Ну хорошо. И жила там же девочка, звали ее Марья-царевна. Собою пригожа, да мила, да кожей бела…
– А Иван-царевич? – немедленно взревновал сын. – Он что, не пригож?
– Конечно, пригож.
– И мил, и кожей бел, – закончил Эраст.
– Да. – Николас отложил книжку. При таком интерактивном режиме дочитать сказку до конца удавалось редко – приходилось выдумывать на ходу. – Полюбили Иван-царевич и Марья-царевна друг друга, решили пожениться…
– Нельзя, – отрезал Эраст.
– Почему?
– Они брат и сестра.
– С чего ты взял?
– Отчество одинаковое. Иван Царевич и Марья Царевна. Сестры с братьями не женятся, так не бывает.
Николас подумал и нашелся:
– Это же сказка. В сказках, сам знаешь, все бывает.
Эраст кивнул, можно было продолжать.
– Но полюбил Марью-царевну злой волшебник Кашей бессмертный, похитил ее и уволок далеко-далеко, в тридевятое царство, в тридесятое…
Тут перебили оба. Геля заявила:
– Если полюбил, значит, не такой уж он злой.
Сын же подозрительно прищурился:
– Не по-онял. – (Это он из телевизионной рекламы научился так говорить, теперь не вытравишь.) – Какой такой Кащей Бессмертный? Которому мы с Иванушкой-дурачком сначала яйцо разбили, а потом иголку сломали? Он же пал на землю и издох!
– Ну… – не сразу нашелся Фандорин. – Это потом было. Марью-царевну он раньше украл.
– Значит, и рассказывать нужно было сначала про Иван-царевича, а потом уже про Иванушку-дурачка, – проворчал Эраст. – А то так не правильно. Ладно, давай дальше.
Геле на ее замечание про любовь, совершенно справедливое, Николас ничего не ответил, только улыбнулся и погладил по мягким волосам. Она нетерпеливо дернула головой – не до глупостей, мол, продолжай.
– Сел Иван-царевич на доброго коня и отправился на поиски Марьи-царевны. Едет через темные леса, через глубокие моря, через высокие горы, за синие озера. Месяц едет, два, три, и попал в такое место, что ничего там нет, только ветер воет да вороны каркают. Видит – лежит на дороге большой-пребольшой камень, и на нем написано:
«Прямо пойдешь – жизнь потеряешь, налево пойдешь – душу потеряешь, направо пойдешь – коня потеряешь, а назад отсюда дороги нет».
– Может, хватит уже про Иван-царевича? – взбунтовалась Геля. – Теперь нужно про Марью-царевну рассказать. Как она там жила, у Кащея Бессмертного, о чем они разговаривали, чем он ее угощал, какие подарки дарил.
– Почему ты думаешь, что он ее угощал и дарил подарки?
– Ведь он же ее полюбил.
– Да, правильно. – Николас почесал нос. – Ну, в общем, жила она у него не сказать чтобы плохо. Мужчина он был собой видный, еще нестарый, много повидал на своем веку, да и умный. Рассказчик замечательный. Но не могла Марья-царевна его полюбить, потому что…
– Потому что сердцу не прикажешь, да? – подсказала дочь.
Эраст деликатно покашлял:
– Кхе-кхе.
Это означало: не хватит ли про ерунду? Фандорин двинул фабулу дальше:
– Стоит Иван-царевич перед камнем, выбирает, куда ехать. Жизнь ему терять неохота, душу тем более…
– А как это – душу потерять? – заинтересовалась Геля.
– Это самое страшное, что только может случиться. Потому что со стороны совсем незаметно. Вроде человек как человек, а души в нем нет, одна видимость, что человек.
– И много таких? – встревожилась дочка.
– Нет, – успокоил ее Ника. – Очень мало. Да и те не совсем пропащие, потому что, если очень захотеть, душу можно обратно отыскать.
– Мы сказку рассказывать будем? – положил конец схоластической дискуссии Эраст. – Куда же он поехал?
– Направо, конечно.
Геля спросила дрогнувшим голосом:
– А конь? Он же добрый был, ты сам сказал.
И сын насупился: непорядок.
– А коня он с собой не взял, – придумал Ника. – Около камня оставил, пастись.
– Это правильно, – одобрил практичный Эраст. – Можно его на обратном пути забрать.
Тут по законам жанра требовалось подпустить саспенса, и Николас заговорил страшным голосом:
– Пошел Иван-царевич направо и забрел в густую-прегустую чащу. Ух, как там было темно! Под ногами что-то шуршало, над головой шелестели чьи-то крылья, а из мрака светились чьи-то глаза.
– Ой, – сказала Геля и натянула одеяло до самых глаз, а Эраст лишь мужественно стиснул зубы.
– Вдруг на тропинку как выскочит Серый Волк! – продолжал нагнетать Николас. – Зубы вот такие, когти вот такие, шерсть дыбом! Как оскалит желтые, острые клычищи…
Здесь пришлось прерваться, потому что зачирикал дверной звонок. Кто бы это мог быть, в одиннадцатом часу? Может, Алтын передумала ехать на свою растленку?
– Сейчас открою и вернусь, – сказал Ника, поднимаясь.
Нет, это была не Алтын.
На лестничной площадке стоял мужчина в спортивной куртке. Лицо бритое, с упрямо выдвинутой челюстью, глаза маленькие, бойкие. Под мышкой незнакомец держал ложно-кожаную папку на молнии.
– Николай Александрович Фандорин здесь проживает? – спросил он, глядя на долговязого хозяина квартиры снизу вверх.
– Да, это я, – настороженно ответил Николас.
Всякому жителю России известно, что от поздних неожиданных визитов добра не жди.
– Так это я, выходит, к вам, – широко улыбнулся мужчина, словно сообщал необычайно радостную весть. – Из МУРа я, из шестнадцатого отдела. Оперуполномоченный Волков Сергей Николаевич.
Открыл перед носом маленькую книжечку, подержал, но недолго – Фандорин успел лишь прочесть слово «капитан».
– Разрешите войти? Разговорчик есть.
Капитан качнулся вперед, и Николас инстинктивно отступил, давая дорогу.
Переступив порог, оперуполномоченный МУРа жизнерадостно объявил:
– Хреновые ваши дела, гражданин Фандорин. Как говорится, заказывайте белые тапочки.
И оскалил острые, желтые зубы в хищной улыбке.
От этого оскала Николас непроизвольно сделал еще два шага назад, и капитан немедленно завладел освободившейся территорией. Он повертел головой вправо-влево, зачем-то потер пальцем старинное зеркало в раме черного дерева (куплено на Арбате во времена преддефолтного благополучия).
– Венецианское? Вещь!
– Почему венецианское? Русское, московской работы, – пролепетал Ника. – Какие тапочки? Что вы несете?
– Поговорить нужно, – шепнул милиционер, трогая хозяина за пуговицу – такая уж, видно, у него была дурная привычка, за все хвататься руками. – Ага, поговорить.
От этого бесцеремонного хватания, от идиотского шепота Фандорин наконец пришел в себя и разозлился. Не на позднего гостя – на себя. Что за дикость, в конце концов? Почему честный, законопослушный человек должен нервничать из-за визита милиции, хоть бы даже и криминальной?
– Кому нужно? – неприязненно спросил он, снимая с груди руку капитана. – Почему вы пришли без предварительного звонка, да еще в такое позднее…
– Вам нужно, – перебил Волков. – В первую очередь вам. Зайти-то можно?
– Входите, раз пришли.
Николас первым вошел в гостиную. Можно ли позвонить, капитан уже спрашивать не стал. Достал из кармана мобильный телефон – дорогой, побогаче скромного Никиного «сименса» – нажал одну кнопочку.
Коррупционер, решил Фандорин, которому развязный опер ужасно не понравился. Известно, какая в милиции зарплата, на нее такой телефон не купишь. Взятки берет или «крышует» – знаем, по телевизору видели.
– Але, Миш? – забубнил Волков, отвернувшись. – Это я, Серый. Ну че там у вас с трупняком?… Понятненько. И особые по нулям?… Ясно… Хрена, сам на Колобки волокись, я вам не нанялся… Да кручусь пока… Ага, у этого, у кандидата. – Тут он коротко обернулся на Николаса, и тот понял, что он и есть «кандидат». Почему-то от этого невинного слова по коже пробежали мурашки. – Отбарабанюсь – звякну… Ага, давай.
Повертев по сторонам круглой, стриженной под полубокс башкой, капитан спросил:
– Наверно, в загородном проживаете. А тут так, место прописки?
– Почему? – удивился Фандорин. – Здесь и живу. Загородного дома у меня нет.
Эта информация оперуполномоченного почему-то озадачила. Он проворно подошел к двери в кабинет, сунул нос и туда – вот какой бесцеремонный.
– Послушайте, капитан Сергей Николасаич Волков из шестнадцатого отдела, – строго начал Ника, собираясь дать наглецу укорот, но милиционер повернулся к нему, лукаво погрозил пальцем и протянул:
– Хреновата квартирка-то. Не склеивается у нас.
Николас удивился. По московским понятиям квартиру никак нельзя было назвать «хреноватой». Двухсотметровая, в старинном, но полностью реконструированном доме, с высоченными потолками, в свое время она съела изрядный кус английского наследства. Тогда казалось, что это излишество, но, если учитывать последующий дефолт, квартира обернулась единственным толковым вложением капитала.
– Что «не склеивается»?
– Версия. Мрамора нет, ковры не наблюдаются, хрусталь-бронза отсутствуют. Вы что, подпольщик? Как гражданин Корейко?
– Как кто? – моргнул Фандорин, которому в его британском детстве папа сэр Александер не позволял читать советскую беллетристику. – Да что вы себе позволяете? Вторглись в частное жилище, суете всюду нос! Что вам нужно?
Милиционер взял два стула, поставил их один напротив другого. Сел, жестом пригласил садиться и хозяина.
– Ты лучше давай со мной начистоту, – строго сказал он. – Для вашей же пользы. Ксиву видал? Я из шестнадцатого. Это отдел по раскрытию резонансных убийств, понятно? Не «колбасник» какой-нибудь и не из налоговой. Пети-мети по чужим карманам мести – не по нашей части. Колитесь, Николай Александрович, на чем бабки варите. Слово Сереги Волкова – не настучу. Сам их, клопов сосучих, не выношу… Ладно, сейчас я вам одну хреновину покажу, после которой ты со мной стесняться перестанешь, как барышня у гинеколога.
Николас поморщился – метафора капитана Волкова ему не понравилась, как и хамские перескакивания с «вы» на «ты». Но от невнятных речений оперуполномоченного на душе становилось все тревожней. Кажется, завязывалась какая-то мутная, неприятная история.
– А до завтра разговор не ждет?
Он оглянулся на дверь детской. Эраст и Геля, должно быть, заждались продолжения сказки. Так вдруг захотелось послать капитана с его непонятными речами и зловещими шарадами к черту, вернуться в ясный и светлый мир, где нет никого страшней Серого Волка и всегда побеждает справедливость.
Но Волков уже совал в руки какой-то листок, и отделаться от этого дурного наваждения не представлялось возможным.
– Почитайте-ка. А там уж сами решайте, ждать до завтра или не ждать. Ваша жизнь не моя. Ага.
Это была ксерокопия машинописного текста. Не веря своим глазам, Ника прочел:
ПРИГОВОРНИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАНДОРИН, президент фирмы «Страна советов», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению.
– Что за бред? – воскликнул Фандорин. – Где вы это взяли?
– До завтра так до завтра, – злорадно оскалился капитан, забрал листок и сделал вид, что собирается уходить.
Однако сменил гнев на милость, вынул из папки большую глянцевую фотокарточку.
– Из кармана вот у этого гражданина.
На снимке был крупный план мертвого лица: широко открытые глаза, нимб из растекшейся по асфальту крови. Гримаса для трупа необычная – довольная и даже словно бы торжествующая. Николас охнул.
– Знакомого увидали? – весь подобрался Волков.
– Да… Этот человек был у меня сегодня. На работе.
– Знаю. У него в кармане лежала реклама вашей фирмы. Во сколько?
– Где-то около трех. Что… что с ним произошло?
– Имя, фамилию знаете? – перешел на шепот милиционер, словно боялся спугнуть добычу.
– Чью, его? – тупо переспросил Фандорин. – Кузнецов, э-э-э, вот имя-отчество не запомнил. Что-то самое обычное. Иван Петрович, Сергей Александрович… Не помню. Только вряд ли он назвался настоящим именем. Что с ним случилось?
– Почему «вряд ли»?
– Не знаю, так мне показалось. Объясните же, наконец, как он погиб? И что значит этот идиотский приговор?
Капитан разочарованно протянул:
– Правильно вам показалось… Проницательный вы человек, гражданин Фандорин. Нипочем не стал бы он вам свое настоящее имя называть… Как погиб, спрашиваете? С крыши спарашютировал. Дома номер один по улице Солянке, тут близехонько.
– Так это был он!
Николас вспомнил луноход в кратере и очерченный мелом контур на асфальте.
– Я видел милицейскую машину из окна. У меня там офис!
– Знаю. Зачем он к вам приходил? О чем говорил?
– Честно говоря, я так и не понял, что его ко мне привело. Вел он себя странно… По-моему, у него произошла какая-то личная драма. Возможно, заболела жена или даже умерла. А может, бред больного воображения. Он был явно не в себе… Но мне и в голову не пришло, что, выйдя от меня, он сразу же покончит жизнь самоубийством!
Хорош советчик, препаратор душ, горько сказал он себе. Не разглядел, что перед тобой человек на краю бездны. Ему, может, всего-то и хотелось услышать живое слово участия, а ты ему: «У вас совесть есть? Отнимаете от дела занятого человека!» Главное, чем занятого-то? Господи, как стыдно!
– Ага, самоубийством, – хмыкнул капитан. – Со скованными за спиной руками. И на лодыжке ожог от электрошокера.
Достал еще одну фотографию: перевернутый на живот труп, руки сзади сцеплены наручниками. Николас задержался взглядом на черных от крови пальцах покойника и содрогнулся.
Волков убрал страшные снимки, снова уселся. Теперь сел и Фандорин, чувствуя, что дрожат колени.
– Вот что, Николай Александрович, давай по-честному. Сначала я тебе всю правду. Потом ты мне. Лады?
Николас потерянно кивнул. Голова у него сделалась совершенно пустая, и, вопреки расхожей идиоме, мысли в ней не путались – их просто не было.
– Про убийство гендиректора ЗАО «Интермедконсалтинг» читали? – деловито спросил оперуполномоченный. – Такого Зальцмана? Его фугаской бухнули. На даче.
– Нет, не помню… Я не особенно интересуюсь криминальной хроникой. Знаете, у нас ведь бизнесменов часто убивают.
– Это точно, да и три месяца уже прошло… – Волков снова полез в папку. – Вот, нашли при осмотре мусорной корзинки в его кабинете. Видно, получил по почте, решил, что чушь собачья, да и выкинул. Гляньте-ка.
Фотография смятого листка бумаги. Машинописный текст:
ПРИГОВОРЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ ЗАЛЬЦМАН, генеральный директор Закрытого акционерного общества «Интермедконсалтинг», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению.
Николас хотел сглотнуть, чтобы протолкнуть застрявший в горле комок, – и не получилось.
– Ну про то, как завалили Зятькова, из «Честного банка», ты не мог не слыхать. Кипеж по всем СМИ был.
Да, ту историю Николас помнил. Во-первых, потому что при крахе банка с симпатичным названием лишились всех своих сбережений хорошие знакомые. А во-вторых, больно уж зверское было убийство. Вместе с банкротом во взорванной машине ехали семилетняя дочь и ее одноклассница – Зятьков вез подружек в зоопарк.
– Вот тебе еще чтение.
На стол лег новый снимок: точно такой же листок, как два предыдущих.
ПРИГОВОРВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЗЯТЬКОВ, председатель правления «Честного банка», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению.
– Что… все это значит? Николас расстегнул пуговицу на воротнике – со второй попытки, потому что плохо слушались пальцы.
– Если честно, хрен его знает, – простодушно улыбнулся оперуполномоченный. – Но главная версия у нас такая. Кто-то решил очистить общество от кровососов и капиталистических тиранов. Какие-нибудь съехавшие с резьбы коммуняки, ветераны интернационального долга. Сам знаешь, какая у нас страна: половина нервных, половина психованных, да по половине от каждой половины когда-никогда обучались народ мочить.
Фандорин хотел возразить против столь чудовищного преувеличения, но вместо этого, еще раз взглянув на фотографию, воскликнул:
– Это же терроризм! Самый настоящий! Непонятно кто, основываясь черт знает на каких сведениях, выносит невинным людям смертные приговоры и приводит их в исполнение! В России такого не бывало с царских времен! Об этом должна кричать вся пресса! В Думе нужно учредить специальную комиссию! А никто ни сном, ни духом!
– Это специально, чтоб паника не началась, по-нашему «резонанс». Шестнадцатый отдел именно такими делами и занимается, которые могут всенародный шухер произвести. Покойники-то, сами видите, люди непростые, буржуины буржуинычи, или, выражаясь интеллигентно, бизнес-элита. Принято решение вести розыск, как говорится, без участия общественности. А то начнется: красно-коричневая угроза, трали-вали. Политика. Ладно, не мое дело. Я сыскарь. Носом в землю уткнусь и нюхаю, есть след или нету. Короче, создана объединенная оперативно-следственная группа. Называется: «Дело Неуловимых Мстителей». Это я придумал, – похвастался капитан, но Николас юмора не оценил, потому что вырос на иных меридианах и с советской приключенческой киноклассикой знаком не был.
– Неуловимых? – повторил он упавшим голосом. – Их что, никак невозможно поймать? Но за что мне-то мстить? Я ведь никому ничего дурного не сделал. Какой-то театр абсурда…
– Что театр, это точно, – согласился Волков. – Вернее, цирк. Тут заколдованный круг получается. Вроде бы мстители эти сами подставляются: перед тем, как накрячить очередного буржуя, приговор высылают. Ставь засаду и бери их голыми руками, так?
– Так, – немного воспрял духом Фандорин.
– А вот шиш. Из-за того, что звону в прессе нет, мы узнаем про новое приключение неуловимых, когда налицо имеется трупак, мелко фасованный и в очень удобной упаковке. Приговоренные – люди серьезные, таких на фу-фу не возьмешь. Они привыкли, что обстоятельные пацаны грохают без предупреждения, а тут какая-то лохомудия: «гад и обманщик», «приговаривается». Зальцман выкинул приговор в корзинку – я вам говорил. Хорошо в пятницу вечером, уборщица не успела прибраться. У Зятькова бумажка эта неделю валялась, если не больше. Жене показывал, говорил – гляди, сколько чеканутых на свете развелось. Хотел выбросить, да супруга не дала. Себе оставила, подружек веселить. Повеселилась… Ни мужа, ни дочки, ни «мерса» за сто штук баксов, ни, между прочим, шофера, с которым, как установило расследование, мадам Зятькова состояла в сексуально-половых отношениях. – Волков коротко хохотнул. – В обоих случаях бумажки с приговором попали в руки следствия случайно. Запросто может быть, что и у других наших висяков по богатым, которые больше не плачут, тоже отсюда ноги растут. – И веселый капитан неожиданно пропел. – «Мертвые с косами вдоль дорог стоят. Дело рук красных дьяволят».
– Но… при чем здесь я? Как видите, я не миллионер, никого не эксплуатирую. У меня в фирме всего один сотрудник!
– Что за фирма? – прищурился оперуполномоченный. На чем бабки стругаете?
Чуть смущаясь, Николас объяснил про свой уникальный бизнес. Что люди сплошь и рядом попадают в трудные или нестандартные ситуации, рады бы получить квалифицированный совет, да часто не у кого. А между тем, нет ничего ценнее вовремя данного правильного совета… Объяснял, ежась под пристальным взглядом детектива, и сам чувствовал, как глупо все это звучит.
– Ясно, – сказал капитан, когда Ника умолк. – Правду говорить не хотите. Нехорошо, Николай Александрович. Вроде договаривались по честному.
– Послушайте! – Николас встрепенулся. Кажется, мозг начинал оттаивать от первоначального шока, и возникла первая гипотеза, пускай нелепая. – Если это какие-нибудь осколки коммунистического режима, может, они обиделись на название моей фирмы? Усмотрели в нем издевательство над… ну, не знаю, идеалами Октября. Наверное, можно установить, кто был этот человек, который бросился… то есть, которого сбросили с крыши?
– Если бы, – вздохнул Волков. – У парашютиста нашего ни особых примет, ни документов, ни мобилы. Отпечатки пальцев взяли, сдадим в лабораторию. Бумажки оформлять целый геморрой, а проку не будет. Татухи нет – значит, не сидел. И так видно, что не уголовный.
– Да, по типу он скорей похож на советского номенклатурщика невысокого ранга. Но кто мог его убить и почему?
Милиционер встал, спрятал последнюю фотографию в папку, вжикнул молнией.
– Наверно, свои. А почему – тайна двух океанов, спросите чего полегче. Может, предал интересы пролетариата. Кто их, уродов скособоченных, разберет. Однако уроды не уроды, а свое дело знают. И тут вырисовывается загадочка поинтересней. – Он придвинулся к Николасу вплотную и посмотрел прямо в глаза, для чего капитану пришлось подняться на цыпочки. – Что же у них с вами-то, гражданин Фандорин, облом вышел? Исполнитель мертв, а вы живы. Зря вы со мной ваньку валяете. Ей-богу зря. Как бы вас самого в удобной упаковке не расфасовали. Мне-то что, я переживу. Ваша проблема.
И двинулся к двери, напевая песенку кота Леопольда: «Неприятность эту мы переживем».
Ника переполошился:
– Постойте! Вы не можете так меня бросить! Я же не олигарх, у меня телохранителей нет!
– У нас тоже их напрокат не дают, – бросил через плечо оперуполномоченный. – В УБОПе, правда, есть отдел защиты свидетелей, но вы же свидетелем быть не желаете. Рассказали бы правду-матушку, а? Очень уж зацепочка нужна.
Оглянулся на Николаса, немного подождал.
– Не расскажете. Ну, хозяин – барин. А надумаете – вот номер.
Сунул визитную карточку, сделал ручкой и был таков. Через секунду хлопнула входная дверь, Фандорин остался один.
Пытаясь унять дрожь во всем теле, прошелся по гостиной. Хотел выпить виски и даже налил, но тут вспомнил про сына с дочкой.
Стоп. Трястись от страха будем потом, когда дети уснут.
Растянув губы в улыбке, отправился в детскую. Что за сказку он рассказывал? Ах да, про Серого Волка. А где остановился? Черт, не вспомнить. Ну, будет ему сейчас за забывчивость.
Сказку досказывать не пришлось – хоть в этом вышла Николасу амнистия. Близнецы, не дождавшись возвращения сказочника, уснули, причем Геля перебралась к брату в кровать и положила золотистую голову на его плечо.
Эта поза выглядела до того взрослой, что Фандорин вздрогнул. Права Алтын, специалистка по вопросам пола! Нужно расселить их по разным комнатам. Пятый год жизни – как раз период первичного эротизма. И уж во всяком случае не следовало нести чушь про любовь между братом и сестрой!
Но в следующий миг он увидел свисающую из под одеяла руку Эраста с крепко зажатой игрушечной шпагой и устыдился своей взрослой испорченности. Бросил детей в темном лесу, перед разинутой пастью страшного волка, а сам ушел и долго не приходил. Вот Геля и кинулась к брату за защитой.
Николас осторожно разжал пальцы сына, вынул шпагу. Вышел на цыпочках, судорожно стиснув пластмассовое оружие.
Чушь, какая чушь! «Гад и обманщик»? «Приговаривается к истреблению»?
Один день похож на другой, и от этого кажется, что жизнь обладает логикой и смыслом. Так, должно быть, полагает и улитка, греющаяся на рельсе железной дороги. А потом невесть откуда налетит огромное, черное, лязгающее, от чего нет спасения… За что, почему – есть ли что-нибудь пошлее и глупее этих вопросов? А ни за что, а ни почему. Так природа захотела, почему – не наше дело.
Слава богу, дома не было жены, и никто не видел постыдного Никиного метания по комнатам, не слышал бессвязных и жалких причитаний.
Чтобы положить конец истерике, он выпил три неразбавленных виски, и на помощь пришел мудрый алкогольный фатализм: чему быть, того не миновать, а побарахтаться в любом случае стоит. Решив, что утро вечера мудренее, Фандорин лег в кровать, для верности проглотил еще две таблетки успокоительного, и ему сразу же приснился успокотельный сон. Будто он умер, но в то же время как бы и не умер. Лежит этакой спящей красавицей в хрустальном гробу и посматривает вокруг. Там, снаружи, гроза, сверкают молнии, дождь колотит по прозрачной крышке, но замечательная усыпальница уютна и надежна. Беспокоиться ни о чем не нужно, идти никуда не нужно, и вообще делать ничего не нужно, потому что любое действие нарушает гармонию. Эта мысль показалась сонному мозгу Николаса гениальным в своей величавой простоте открытием. Уже полу проснувшись, он все продолжал додумывать ее, вертеть так и этак.
Нам только кажется, будто с нами что-то происходит и что мы перемещаемся во времени и пространстве. Нет, мы, то есть Я, – единственная фиксированная точка во всем мироздании. Вокруг может твориться что угодно, но моя незыблемость гарантирована, улыбался еще не открывший глаза Фандорин. Хрустальный гроб – отличный образ, подумал он, потягиваясь. Но тут за окном действительно грянул гром, задребезжали залитые дождем стекла, и под напором ветра распахнулась форточка. Первое, что пришло в голову испуганно вскинувшемуся Николасу, – не переоценил ли он прозрачность и прочность такой необычной гробницы.
Глава шестая
Утраченный рай
Сейчас, сейчас растопыренная пятерня подденет за ворот или за рукав, и тогда сей тесный закут воистину обернется для Митридата Карпова усыпальным склепом. Совершенно невозможно представить, чтобы два изверга, злоумышляющие против самое великой императрицы, оставили в живых свидетеля своего душегубства. Прикидываться малолетним несмышленышем бесполезно – итальянец видел, как Митя перед светлейшим красовался, чудесами памятливости блистал.
Зефирка сердито заворчала, цапнула и прижала к груди какое-то из своих сокровищ, но этого ей показалось мало, и мартышка укусила настырную ручищу за палец.
Гвардеец чертыхнулся, но руки не отдернул, вот какой храбрый.
– Крыса! – пропыхтел он. Ну, я тебе… Схватил Зефирку за ногу, выволок к свету. Та жалобно заверещала, блеснул зажатый в лапке хрустальный флакон.
– Шишки смоленые! Глядите, Еремей Умбертович, – загоготал Пикин. – Никакой не Ворон склянку стащил, а иная птица, сорока-воровка! Зря напугались. Ну-ка, что там у ней еще за добыча.
Митя и дух перевести не успел – загребущая рука потянулась к нему сызнова.
Охваченный ужасом, он подпихнул ей навстречу все, что лежало в надпечье: и съестные запасы, и свою пряжку, и старичкову звезду.
Звезда-то его и спасла.
– Ото! – Пикин с грохотом спрыгнул на пол. – Давайте делить добычу, ваше превосходительство. Пряжку вам, печенье с яблоком, так и быть, тоже, а Сашку Невского мне. Алмазы повыковыряю, закладчику снесу, вам же польза будет – часть долга уплачу.
Жалко стало Мите старичка, а что делать?
– Маленькая какая, будто игрушечная или детская, – рассеянно пробормотал Метастазио (про пряжку – больше вроде не про что). – Ладно, все хорошо что хорошо кончается. К делу, Пикин. Этими камешками вы с долгами не расплатитесь. А вот если нынче все исполните в точности, то мы квиты. Как только у старухи ночью начнется мигрень и рвота, получите все свои векселя и расписки. А когда вступит в силу завещание, я вам новый кредит открою, на десять тысяч.
– На пятьдесят, – сказал бравый преображенец. – И еще мало будет, Шишкин корень. Если курносый останется с носом (ха, каков каламбур!), вы с Платоном всю Россию в карман положите.
Затопали к выходу. Слава Богу, ушли. Можно было вылезать.
Вечером ужинали у императрицы в Бриллиантовой комнате, в самом что ни есть ближнем кругу. Сама государыня, августейший Внук без супруги, Фаворит, две старые и очень некрасивые дамы да адмирал Козопуло.
Еще были начальник Секретной экспедиции Маслов и страшный зуровский секретарь, но эти сидели не за столом, а на табуреточках: первый позади императрицы, второй с противоположной стороны, за спиной у князя. Оба держали на коленках по бювару, стопке бумаги, чернильницу с пером – чтоб враз записать, если ее величеству или его светлости придет на ум какая-нибудь государственная или просто значительная мысль.
Правда, за весь вечер такого ни разу не случилось. Наверно, из-за адмирала. Он трещал без умолку, сыпал рассказами и прибаутками, но неинтересными – всякая история заканчивалась тем, как кто-то навалил в штаны, или протошнился на каком-нибудь высоком собрании, или прелюбодействовал с чужой женой и прыгал нагишом в окно. Одним словом, всегдашние взрослые шутки. Как им только не наскучит?
А государыне нравилось. Она до слез смеялась адмираловым историйкам, особенно если попадались нехорошие слова, несколько раз даже их повторила. И все остальные тоже хохотали…
Екатерина тут была совсем не такая, как давеча, в Малом Эрмитаже. Одета попросту, в свободное платье и белый тюлевый чепец. Лицо размягченное, простое.
– Хорошо, – говорила. – Только здесь душой и разнежишься.
На Митин взгляд, место для душевного отдохновения было странное. В стеклянных шкапах торжественно сверкали имперские регалии: большая и малая корона, скипетр, златое яблоко, прочие коронные драгоценности. По стенам были развешаны шелковые и парчовые штандарты. Тут бы навытяжку стоять, при полном парадном мундире, а ей, вишь ты, отдохновенно. Должно быть, у государей душа не от того отдыхает, от чего у обычных смертных.
– Право, отрадно. – Императрица привольно потянулась. – Будто двадцать лет долой. Уж прости, дружок, – обратилась она к Внуку, – что твою Лизаньку сюда не зову, больно свежа да хороша. А так рядом с моими старушками я могу чувствовать себя красавицей. – И, со смехом, взвизгнувшей левретке. – Ах, прости, милая Аделаида Ивановна, про тебя забыла. Нас тут с тобой две красавицы.
Собачка рада вниманию, хвостом виляет, а царица лукаво Фавориту – да не на «вы», а просто, по-домашнему:
– Горюй, Платоша. Сегодня первый красавец не ты, а вон тот премилый кавалер. – И на Митю показала. – Играйся, ангел мой, играйся. После, глядишь, и я с тобой поиграю.
Диспозиция у Митридата Карпова была такая: его определили ползать по полу, где специально разложили цветные кубики и расставили деревянных солдат. Спасибо, конечно, за внимание, но все же взрослые невыносимо тупы. Какие кубики, какие солдатики, если они вчера уже видели, что разумом он ни в чем им не уступает?
Однако если б Мите вместо младенческих забав даже приготовили более увлекательную игрушку – хотя бы те же логарифмические таблицы – ему нынче все равно было не до развлечений. К деревяшкам он и не прикоснулся, все не мог отвести глаз от некоего хрустального флакона, стоявшего подле государыни. Тот самый иль не тот? Подменил Пикин или не сумел?
По случаю постного дня на столе были только рыба и фрукты, да и то всю рыбу съел один Козопуло, прочие к еде почти не притрагивались. Наверно, знают, что тут не разъешься, и заранее поужинали, сообразил Митя. Пили же по-разному, и для всякого было заготовлено свое питье: перед царицей кроме флакона был еще графин со смородиновым морсом, Фаворит пил вино, адмирал – английский пунш гаф-энд-гаф, великий князь довольствовался чаем, старухи потягивали наливку, Маслов и итальянец сидели так.
Два раза рука Екатерины тянулась к роковой склянке, и Митя коченел от ужаса, но в последний момент предпочтение отдавалось морсу.
Как, как рассказать ей про смертельную опасность?
Весь день Митю продержали в Фаворитовых покоях. Дел никаких не было, но и не сбежишь – у дверей крепкая охрана, без особого позволения не выпустит. Он думал, вечером расскажет, когда в Брильянтовую комнату поведут, но повел его не кто иной, как самый главный злоумышленник Еремей Метастазио. Митя так его боялся, что аж жмурился. Итальянец спрашивал про какую-то безделицу, а он и ответить толком не смог.
И за ужином секретарь нет-нет, да и поглядывал на Митридата, вроде бы рассеянно, но внутри от этих черных глаз все так и леденело. Оказывается, не выдумки это, про черный глаз-то. У кого душа черная, у того и взгляд такой же.
– А все же выпью настоечки, – сказала решительно государыня. – Хоть и пятница, да грех небольшой. Опять же церковь не воспрещает, если для здоровья польза. Ведь ваша настоечка полезная, Константин Христофорович? Полюбила я ее, всю внутренность она мне согревает.
– Осень полезная, васе велисество! – немедленно заверил грек. – И благословлена митрополитом. Покази-ка язык, матуська. Если розовый – пей смело.
Семирамида высунула язык, и все с интересом на него воззрились, а Митя даже на цыпочки привстал. Язык, к сожалению, был хоть и шершаво-крупитчатый, но совершенно розовый. Беды, похоже, было не избегнуть.
– Мозьно. Бокальсик, дазе два, – разрешил Козопуло и тут же налил настойки.
Митю будто толкнула некая сила. Он с криком бросился к столу и толкнул ее величество в локоть. Бокал полетел на пол, обрызгав царицыно гродетуровое платье.
– Ax! – вскричала Екатерина, а начальник Секретной экспедиции с неожиданным проворством прыгнул со своей табуреточки к Мите и крепко схватил его за ворот. Императрица ужас как рассердилась.
– Маленький дикарь! Сердце так и зашлось. Вон его отсюда, Прохор Иванович!
Маслов потащил нарушителя чинности за ухо к двери. Было больно и обидно, Митя – хотел крикнуть про отраву, но в этот самый миг встретился глазами с господином Метастазио. Ух как жуток был этот яростный, изничтожающий взгляд! А потом секретарь посмотрел ниже и судорожно дернул шейный платок, будто не мог вздохнуть. Увидел, понял Митя. Туфлю без пряжки увидел. Догадался…
Кое-как досеменил до двери, влекомый масловской рукой, беспощадной терзательницей уха. Вдруг раздался отчаянный вопль государыни, и железные пальцы Маслова разжались. Сберегатель престола кинулся к своей повелительнице.
– Что с ней? Смотрите! Ей плохо! – кричала Екатерина, указывая на пол.
Там, в разлившейся рубиновой лужице, лежала левретка Аделаида Ивановна, беззвучно разевая пасть и дергая всеми четырьмя лапами.
– Яд! – громовым голосом возопил Маслов. – Настойка отравлена! Умысел на жизнь государыни!
Императрица так и обмякла. К ней ринулись, опрокидывая кресла.
– Это хоросяя настойка! – бил себя в грудь Козопуло. – Я пил, матуська-царица пила! Никогда нисего!
Вдруг тайный советник вернулся к Мите, схватил за плечи.
– Пошто бутыль разбил? – вкрадчиво прошептал он. – С малолетской дури или знал про отраву?
Тихо прибавил:
– Ты мне правду скажи, мне врать нельзя.
Глаза у губастого старика были матовые, без блеска. Тут бы все ему и рассказать, но Митя оплошал – зачем-то взглянул на Метастазио, да и впал в оцепенение под неотрывным василисковым взглядом заговорщика.
– Знаешь что-то, вижу, – шепнул Маслов. – Добром скажешь или в экспедицию свесть? Не погляжу, что маленький…
Тут донесся слабый голос:
– Где он? Где мой ангел-хранитель? Что это вы, Прохор Иванович, ему плечики сжимаете? Иди сюда, спаситель мой. Мне и России тебя Господь послал!
И ослабла хватка черного старика, разжалась.
После памятного вечера в Брильянтовой комнате Фортуна подбросила Митридата Карпова выше высокого. Из пажей светлейшего князя Зурова, у которого этаких мальчишек разного возраста числилось до двух дюжин, сделался он Воспитанником Ее Величества, единственным на всю империю – такое ему было пожаловано отличие. Были и другие награды, более обыкновенные, но тоже завидные. Во-первых, вышло Мите повышение по военной службе: прежде он числился по конногвардейскому полку капралом сверх штата, а теперь стал штатным вахмистром, что равнялось чину армейского капитана. Во-вторых, папеньке за труды по воспитанию чудесного отрока был послан орден святого Владимира и пять тысяч рублей серебром. Однако соизволения на то, чтоб папенька с маменькой приехали (про Эндимиона Митя, памятуя затрещины и раздавленных лягушат, не просил), получено не было. «Я тебе буду вместо матушки, а Платон Александрович вместо батюшки, – ответила Екатерина. – Родителям же твоим в утешение какую-никакую деревеньку подарю из новых, из польских. Там земли да мужиков много, на всех хватит». Митя к тому времени уже ученый был, знал, что это она Фаворита расстраивать не хочет, ибо князь Зуров не терпит подле самодержицы красивых мужчин. Иные семейства своим смазливым отпрыскам на этом даже ухитрялись карьеру строить. Отправят ко двору этакого юного красавца, покрутится он денек-другой, помозолит глаза светлейшему – глядишь, дипломатическим курьером пошлют, или в армию с повышением, а одного, очень уж хорошенького, даже посланником к иностранному двору отправили, только б подальше и на подольше.
В общем, остался Митя один-одинешенек сиротствовать, а верней, как выразился остроумец Лев Александрович Кукушкин, сиропствовать — многие этак томиться пожелали бы.
Воспитаннику отвели близ высочайших покоев собственный апартамент с окнами на Дворцовую площадь. Приставили штат лакеев, назначили учителей, за здоровьем бесценного дитяти досматривал сам лейб-медик Круис.
Жилось Мите с роскошеством, но не в пример стесненней, нежели в Утешительном.
Подъем не когда пожелаешь, а затемно, в шесть, как пробьет дворцовый звонарь: долее никто спать не смей – ее величество изволили пробудиться. Утреннее умывание такое: чтоб Митридату легче сонные глазки разлепить, слуга ему протирал веки губкой, смоченной в розовой воде; потом драгоценное дитя под руки вели в умывальню, где вода, качаемая помпой, сама лилась из бронзовой трубки, да не ледяная, а подогретая. Своей рученькой он только зубы чистил, смыванием же прочих частей тела ведали два лакея – один, старший, всего расположенного выше грудей, второй – того, что ниже.
Одежда и обувь для императрицыного любимца были пошиты целой командой придворных портных и башмачников всего в два дня. Наряды, особенно парадные, были красоты неописуемой, некоторые с самоцветными камнями и золотой вышивкой. Заняло все это богатство целую комнату, именовавшуюся гардеробной. Жалко только, самому выбирать платье не дозволялось. Этим важным делом ведал камердинер. Он знал в доскональности, силен ли нынче мороз да какое у Митридата на сей день расписание, и желания не спрашивал – подавал наряд по уместности и оказии. Переодеваться для различных надобностей приходилось не меньше семи-восьми раз на дню.
Как оденут – передают куаферу чесать волосы, мазать их салом и сыпать пудрой.
Потом завтрак. Готовили в Зимнем дворце плохо, потому что государыня на кушанья была непривередлива, больше всего любила вареную говядину с соленым огурцом, и еще потому, что ее величество никогда не бранила поваров – боялась, что какой-нибудь отчаянный обидится да яду подсыплет. Вот повара и разленились. Кашу давали пригорелую, яичницу пересоленную, кофей холодный. В Утешительном Митю питали хоть и не на серебре, но много вкусней.
Дальше начинались уроки, для чего была отведена особая классная комната. Помимо интересного – математики, географии, истории, химии – обучали многому такому, на что тратить время казалось досадным.
Ну, верховая езда на британском пони или фехтование еще ладно, дворянину без этого невозможно, но танцы! Менуэт, русский, англез, экосез, гроссфатер. Ужас что за нелепица – скакать под музыку, приседать, руками разводить, каблуком притоптывать. Будто нет у человека дел поважнее, будто все тайны натуры уже раскрыты, морские пучины изучены, болезни исцелены, перпетуум-мобиле изобретен!
А занятия изящной словесностью? Кому они нужны, эти выдуманные, никогда не бывалые сказки? До четырех лет Митя и сам почитывал романы, потому что еще ума не нажил и думал, что все это подлинные истории. Потом бросил – полезных сведений из литературы не получишь, пустая трата времени. Теперь же приходилось читать вслух пиесы, по ролям: «Наказанную кокетку», «Гамлета, принца Датского», «В мнении рогоносец» и прочую подобную ерунду.
После обеда обязательные развлечения – игра на бильярде и в бильбокет. Но прежде дополнительные уроки по неуспешным дисциплинам. Таковых за Митридатом числилось две: пение и каллиграфия. Ну, если человеку топтыгин на ухо наступил, тут ничего не сделаешь, а вот с плохим буквописанием Митя сражался всерьез, насмерть. Почерк и вправду был очень нехорош. Буквы липли одна к другой, слова сцеплялись в абракадабру, строчки гуляли по листу как хотели. Писать-то ведь учился сам, не как другие дети, которые подолгу прописи выводят. Опять же рука за мыслью никак не поспевала.
Однажды, когда Митридат, пыхтя, скреб пером, портил чудесную веленевую бумагу, вошла императрица. Посмотрела на детские страдания, поцеловала в затылок и поверху листа показала, как следует писать, – начертала:
«Вечно признательна. Екатерина». Учитель велел нижние каляки отрезать, а верхний край, где высочайшая запись, хранить как драгоценную реликвию. Митя так и сделал. Отправил бумажку с ближайшей почтой в Утешительное.
Злодеев, которые подсыпали в графинчик с адмираловой настойкой отраву, пока не сыскали. Рассказать бы матушке-царице все, что слышал на печи, да жуть брала. А если Метастазио отпираться станет (и ведь беспременно станет!), если потребует доносильщика предъявить (обязательно потребует!)? Что угодно, только б не смотреть в черные, пронизывающие глаза! От одного воспоминания об этом взгляде во рту делалось сухо, а в животе тесно. Митя слышал, как Прохор Иванович Маслов докладывал ее величеству о ходе дознания: мол, его людишки с ног сбиваются и кое-что нащупали, но больно велика рыбина, не сорвалась бы. Еще бы не велика! Может, дотошный старик сам докопается, малодушничал Митя.
Великая монархиня звала своего маленького спасителя «талисманчиком» и любила, чтоб он был рядом, особенно когда решала важные государственные дела. Любила повторять, что ей сего мальчика само Провидение послало, что это Господь побудил малое дитя разбить смертоносный бокал. Бывало, задумается повелительница над трудным решением и вдруг бросит на воспитанника странный взор, не то испытующий, не то даже боязливый. Иной раз и мнение спрашивала. Митя сначала гордился таким к себе уважением, а потом понял – ей не разум его нужен, а нечто другое. Не вслушивалась она в прямой смысл-сказанного, а тщилась угадать в звуке слов некое потаенное значение, будто вещает не маленький придворный в бархатном камзольчике, а дельфская пифия.
К примеру, на послеполуденном докладе было. Государыня сидела разморенная, прикрыв глаза. То ли слушала, то ли нет. Сзади – камер-фрейлина, перебирает пальчиками у ее величества в волосах. Как найдет насекомое, давит ногтем о плоскую золотую коробочку, вошегубку. Митя был на обычном месте, низенькой скамеечке, читал Линнееву «Философию ботаники».
Камер-секретарь, претолковый молодой человек, хоть и очень некрасивый (кто ж красивого на такую должность пустил бы?), зачитывал депеши.
– В истекшем 1794 году в городе Санкт-Петербурге народилось 6750 человек, умерло 4015.
Императрица открыла глаза:
– Сколько ж прибавилось?
Камер-секретарь стал шевелить губами, а Митя, не отрываясь от чтения:
– Две тыщи семьсот тридцать пять.
– Плодятся – стало быть, сыты, ненапуганы и жизнью довольны, – кивнула Екатерина, снова смежила веки.
Докладчик читал дальше:
– Из Америки пишут. Против индейцев, обеспокоивших Кентукскую область, выслан корпус добровольнослужащих, который и разбил их совершенно.
Митя вспомнил саженного индейца. Представил, как тот крадется в ночи к ферме белого поселянина. В руке у него боевой топор, за спиной колчан со стрелами. Куда как страшно! Молодцы добровольнослужащие.
– Оттуда ж. Неприятное известие с острова Гваделупа. Французы в начале октября принудили англичан сдаться на капитуляцию и отправиться в Англию, обещав в продолжение войны не служить уже больше против французской республики.
Царица нахмурилась – не любила французов.
Камер-секретарь заметил, стушевался:
– Тут еще, того хуже…
– Ну же. – Государыня покачала головой. – Знаю я тебя, иезуитская душа. Самую пакость на конец приберег. Проверяешь, гневлива ли. Не гневлива, не опасайся.
Тогда молодой человек тихо прочел:
– Французы взяли город Амстердам…
– Да что ж это, Господи! – ахнула Екатерина. – Когда ж на них, проклятых, укорот сыщется?
Вдруг повернулась к Мите и спрашивает:
– Что делать, душенька? Объединиться с Европой против якобинцев, или пускай они и дальше промеж себя режутся, друг дружку ослабляют? Скажи, дружок, отчего эти голодранцы всех бьют? Ведь и ружей у них не хватает, и пушек, и мундиров нет, и в провианте недостача? Что за напасть такая?
И смотрит на него с надеждой, словно ей сейчас некая великая истина откроется.
А Митя рад принести благо человечеству. Линнея отложил, постарался говорить попроще и не тараторить, чтоб до нее как следует дошло:
– Это они оттого регулярную армию бьют, что у французов теперь равенство, и солдат не скотина, которая вперед идет, потому что сзади капрал с палкой. Свободный воин маневр понимает и знает, за что воюет. Свободные люди всегда и работать, и воевать будут лучше, чем несвободные.
Хотел хоть немножко подвигнуть Фелицу к пониманию того, что невозможно на исходе восемнадцатого столетия большую часть подданных содержать в постыдном рабстве.
А она в ответ:
– Как верно! Вот уж воистину устами младенца! – И секретарю. – Пиши указ: следующий рекрутский набор произвесть не из крепостных крестьян, а из вольных хлебопашцев, ибо рожденные свободными к воинскому ремеслу пригодны больше.
Остолбеневшего Митю в щеки расцеловала, подарила лаковые сани с царского каретного двора. Вот оно каково властителям-то советовать – хотел добра, а вышло зло.
Или еще случай был.
Раскладывала государыня пасьянс-солитэр, пребывала в мечтательном настроении.
– Ах, – говорит, – мой маленький птенчик, отчего это старому мужчине, хоть бы даже и шестидесятилетнему, незазорно жениться на молоденькой, а зрелой даме того же возраста повенчаться с мужчиной двадцати шести или семи лет почитается невозможным?
И опять смотрит с надеждой, вздохнуть боится.
Подумав, Митя ответил так:
– Это, удумаю, оттого, ваше величество, что от шестидесятилетнего старичка все-таки еще могут дети произойти, а у шестидесятилетней бабушки приплода быть не может.
Женятся-то ведь, чтобы население преумножать, иначе зачем бы?
Кстати и факт подходящий вспомнился.
– Однако науке известны и исключения. Я читал, что в 1718 году в мексиканском вице-королевстве некая Мануэла Санчес шестидесяти трех лет забрюхатела и произвела на свет мертвого младенца женского пола весом семь фунтов три унции и два золотника, сама же померла от разрыва детородных органов.
Императрица карты швырнула, велела выйти вон, у самой слезы из глаз. А что такого сказал?
Правда, потом вышла следом в коридор, приласкала, назвала «простой душой» и «деточкой». Многие это видели, и Митин «случай» засиял еще ярче.
При дворе уж и без того много говорили о чудесном ребенке и особом расположении к нему матушки-царицы. Само собой, явились и просители. Один камергер ходатайствовал, чтоб его приглашали на малоэрмитажные собрания. Поклонился фунтом бразильянского шоколаду. Вице-директор императорских театров, пришедший хлопотать за дозволение к постановке некоей игривой пьесы, похоже, не ожидал, что прославленный Митридат окажется настолько мал. Вручил заготовленные дары не без смущения: полфунта виргинского табаку и новейшее изобретение от дурной болезни – прозрачный капушончик из пузыря африканской рыбы. Табак Митя отдал камердинеру, шоколад съел сам, а растяжной капушончик выказал себя незаменимой вещью для опытов с нагреванием газа.
Понемногу Митридат обвыкался в огромном дворце, который строчка за строчкой, страница за страницей раскрывал перед ним книгу своих бесчисленных тайн. Конечно, не всю, а лишь малую ее часть, ибо постичь сей огромный каменный фолиант во всей его необъятности навряд ли было под силу смертному человеку, хоть бы даже и самому дворцовому коменданту. Проживи сто лет под гордыми сводами – и то всего не узнаешь. После заката Версаля на всей земле не было чертогов великолепней и просторней этих.
Для изучения дворца Митя предпринимал экспедиции: сначала в ближние пределы – в соседние залы, в висячие сады, на хоры. Потом все дальше и дальше. Со временем выяснилось, что Зимний полон не только прекрасных картин с изваяниями, а также всяких несчитанных богатств, но еще и роковых опасностей. У дворца явно была своя потайная жизнь, своя живая душа, и душа недобрая, желающая новичкам зла и погибели.
На седьмую ночь после Митиного вселения приключилось необъяснимое, зловещее событие. Лежал он ночью в необъятной высоченной кровати, на которую можно было вскарабкаться только по лесенке, и смотрел на бронзовую люстру. Не то чтобы смотрел – чего на нее смотреть, когда она уже вся в доскональности изучена, – просто пялился вверх, а там, наверху, как раз и располагалась люстра. Спать не хотелось. Государыня требовала, чтобы ребенка укладывали в десять, и читать ночью не дозволяла, якобы от этого здоровью вред. Он пробовал объяснить, что ему для зарядки энергией довольно и трех часов, но царица, как обычно, толком не слушала. Так что хочешь – не хочешь, а лежи, думай.
Тяжеленная люстра изображала Торжество Благочестия: само Благочестие в образе бородатого старца располагалось посередине, а по краям вели хоровод певцы с кимвалами и арфами.
Лежал, размышлял о том, как преобразовать правосудебное устройство, чтобы судьи судили честно, властей не боялись и от истцов с ответчиками подношений не брали. Задачка была не из простых, не для ночного ума, и Митя сам не заметил, как задремал, но, видно, ненадолго и некрепко. Проснулся оттого, что показалось, будто скрипнула дверь. Потом услыхал легкий шорох – как бы рвется что-то. Похлопал глазами, пытаясь сообразить, что бы это могло быть. На бронзовом круге люстры тускло мерцал отсвет заоконного фонаря. Вдруг блик шевельнулся – сначала покачался, потом двинулся книзу, с каждым мигом разрастаясь и ускоряясь. Не столько уразумев, сколько почувствовав, что люстра падает, Митя выкатился из под одеяла на пол. Зашиб локоть, но, если б промедлил еще пол-мгновения, упавшая махина оставила б от него кучку фарша и переломанных костей. От удара у кровати подломились толстые ножки, а ложе в середине треснуло пополам.
После, когда стали разбираться, выяснилось, что лопнули волокна веревки, на которой опускают бронзовое чудище, чтоб зажигать свечи. Лакея, который к светильникам приставлен, государыня сгоряча велела за небрежение прижечь клеймом и сослать в Сибирь, но после сжалилась, приказала только немножко посечь и отдать в солдаты.
Митя тогда не очень-то и напугался – отнес за счет дурного нрава Дворца, от которого можно ожидать всякой каверзы. Но прошла еще неделя, и дело предстало в совсем ином свете.
К тому времени экспедиции по изучению каменного исполина достигли подвала, где находились кладовки и кухни. Провизия, равно как и ее приготовление, Митридата не интересовали, но за винным погребом обнаружилось любопытное местечко – старый, выложенный камнем колодец, очень возможно, что оставшийся еще от прежней постройки. Раньше, пока не провели трубы, из него, наверное, брали воду для кухонных надобностей, теперь же он стоял заброшенный. Колодец был неглубокий, до воды не дальше полу сажени (земля то в Петербурге топкая, до почвенных вод всегда близко). С четырех сторон – каменные ступеньки, чтоб поваренку сподручней наклониться, бадейкой на палке зачерпнуть воды.
Раз колодец простаивал без пользы, Митя решил приспособить его для химического опыта – выращивания кристаллов медного купороса. Место холодное, без ненужных испарений. Спустил на веревках две стеклянные банки с пересыщенным раствором, в одной обычная нитка, в другой шелковая. Раза по три на дню бегал проверять – не появились ли кристаллы.
23 февраля, в пятницу, с утра, в первой банке начался процесс. На суровой нитке явственно посверкивали синие крупицы. Ура!
Митя спустил банку обратно. Свесился, чтобы поднять вторую, но тут чья-то сильная рука схватила его за фалду, другая подцепила за воротник и швырнула головой вниз. Краем глаза он успел заметить зеленый рукав с красным обшлагом, а в следующий миг плюхнулся в черную ледяную воду.
Вынырнул в темноте, задыхаясь и отплевываясь. Стал барахтаться. Пробовал кричать, и в каменном квадрате крик отдавался гулко, но на кухне нипочем не услыхали бы – далеко, да и шумно там. Кабы не веревки, на которых были подвешены склянки, в два счета пошел бы ко дну, ибо, хоть Митя и превзошел математическую науку, понял строение материи и изрядно знал по философии, плавать не умел – недосуг было научиться.
Да и веревки, в которые он намертво вцепился, спасли бы его ненадолго. Через минуту-другую пальцы закоченели, стали разжиматься. Счастье великое, что вице-кох за вином шел и писк из колодца услыхал, иначе непременно опечалил бы Митридат Карпов родителей и матушку-государыню.
Вице кох мальчонку вытащил, первым делом надавал подзатыльников – не лезь куда не ведено, – а после дал хлебнуть вина, раздел, шерстяной варежкой натер и в два фартука укутал. Митя на несправедливые подзатыльники и ругань не обиделся. Поцеловал драчуну за спасение руку, объяснять ничего не стал.
Потом, укутанный уже не в фартуки, а в медвежье одеяло, лежал у себя в спальне, производил умственный анализ случившегося.
Тут уж на злобность дворца грешить не приходилось, налицо был человеческий умысел. Кто-то хотел истребить государынина воспитанника и только чудом не преуспел в своем намерении.
А мудреного анализа и не понадобилось.
У кого зеленый с красным мундир? У Преображенского полка.
Митя дернул за звонок, велел камер-лакею узнать, какой сегодня караул во дворце. Оказалось, точно, Преображенский. Командир – капитан-поручик Пикин. Как Митя это имя услыхал, снова его затрясло, но уже не от холода. Стал дальше размышлять, вспомнил и про упавшую люстру.
Наскоро оделся – сам, без камердинера. Прокрался в кордегардию, где журнал караульных дежурств. Подождал у двери, пока сержант отправится посты проверять, и заскочил внутрь. Кто неделю назад, 16 февраля, тоже в пятницу, дежурил? Так и есть: капитан-поручик Андрей Пикин. Зря, выходит, лакея в солдаты отдали. Да и ночной скрип объяснился. Прокрался злодей в спальню, подрезал ножиком или еще чем волоконца на веревке, да и был таков, а остальное тяжесть люстры довершила.
Вон оно что! Не успокоился господин Метастазио, предприимчивый человек. И не успокоится, пока не изведет со свету опасного свидетеля.
Видно, не в себе Митя был, не услышал приближающихся шагов, а когда дверь открылась, бежать было поздно.
Вошли Пикин и сержант-преображенец, совсем еще юнец.
– Глядите, Бибиков, – весело сказал капитан-поручик, – какой у нас гость. Сам Митридатус Премудрый. Ты что тут делаешь? Слыхал, чего с любопытной Варварой приключилось? А? – Оглядел обмершего Митю своими шальными глазищами. – Мне сказывали, ты в колодец нырял? За царевной-лягушкой? Ну, шишки-семечки, в рубашке ты родился. Таким в карты везет. Надо тебя обучить. То-то вдвоем всех чистить будем, а?
И заржал, душегуб. На роже ни тени, ни облачка, и от этого было всего страшней. Митя взвизгнул, проскочил у сержанта под локтем, понесся со всех ног неведомо куда.
Это только так говорится, что человек несется неведомо куда, на самом-то деле всякий, даже с огромного перепугу, сразу соображает, куда ему бежать спасаться. Знал про то и Митридат, даже сомнения не возникло.
Есть человек, для того и приставленный, чтобы беречь государыню и пресекать заговоры против августейшей персоны. Человек известный – тайный советник Маслов, начальник Секретной экспедиции. И давно следовало ужас перед Еремеем Мстастазио преодолеть, во всем Прохору Ивановичу признаться. Ужас, он только цепенит и воли лишает, а от погибели никогда и никого не спасал. Что кролику трепетать, взирая на разинутую пасть удава? Ведь хищного змея кроликово бездействие не отвратит от плотоядного замысла.
Проживал тайный советник близехонько от дворца, на Миллионной улице. В гости к Прохор Иванычу по доброй воле никто не хаживал, но место его обитания всему Петербургу было отлично известно. Это надо из бокового подъезда выскочить, пробежать мимо полосатой караульной будки и нырнуть во двор напротив. Там, в желтом казенном доме, бдит Секретная экспедиция, при ней и квартира начальника.
Маслов выслушал всхлипывающего мальчика внимательнейшим образом, ни разу не перебил, а только кивал да приговаривал:
«Так, та-ак», – и чем дальше, тем живей. Недоверия, которого Митя больше всего страшился – мол, напридумывал малолеток небылиц, – Прохор Иванович не явил вовсе, да и, судя по лицу, не очень-то рассказу удивился. Скорее обрадовался.
Заходил по тесному, сплошь уставленному запертыми шкафами кабинету, потирая сухие белые руки. Побормотал что-то под нос, покивал сам себе.
– Ты вот что, превосходный отрок, – говорит, – ты мне помоги матушку спасти и злодеев изобличить, ладно? Тогда и я сумею тебя от тех же самых извергов уберечь.
– Как же я могу вам помочь? – поразился Митя. – Я ведь маленький.
Тайный советник обнял его за плечо, усадил рядом с собою на диванчик, заговорил тихо, душевно:
– Ты хоть и невелик, а разумней многих больших. Посуди сам: вот знаем мы с тобой правду, только ведь этого мало. Не поверит нам матушка, потому что тут замешана дражайшая ее сердцу персона.
– Мне-то, конечно, не поверит, – горячо сказал Митя. – Я для нее что, кукла затейная, китайский болванчик. Но уж вам-то, своему охранителю!
Прохор Иванович подпер вислую щеку, пригорюнился.
– Увы. И мне, своему верному псу, тоже не поверит. Про кого другого – да, но только не про ближних подручников свет-Платошеньки. Я ей и вправду что пес: на чужих бреши, а своих не замай. Даже если сумею я в матушку сомнение заронить, дальше-то что будет?
– Что?
– А то, что явится к матушке известная особа, много красивей лицом, чем старый Прохор Маслов, запрется с ее величеством в спаленке и сыщет резоны, после которых нас с тобой вышвырнут из Зимнего, как нашкодивших кутят. И никто тогда не помешает нашему приятелю Еремею Умбертовичу довести свое злонамеренье до конца.
– А может, не сумеет светлейший сыскать резонов? Я приметил, что ума он несильного.
– Мал ты еще, – вздохнул тайный советник. – Матушка хоть и великая царица, а тоже баба. И ум князю Платону на том ристалище вовсе не понадобится.
– Что же делать? – пал духом Митя. – Неужто пропадать?
– Пропадать незачем. – Голос Маслова построжел. – Ты делай все в точности, как я скажу, и складно выйдет.
– Если смогу… – дрогнул Митин голос. Неужто не избежать очной ставки со страшным итальянцем? Как бы от мертвящего пламени черных глаз язык не присох к гортани…
– Ничего, сможешь. Если жить хочешь.
Прохор Иванович прищурил и без того маленькие глазки, пожевал губами и от этого сделался еще больше похож на старого, облезлого мопса.
– От светлейшего надо по ломтику отрезать, – молвил он тихо-претихо, будто рассуждая вслух сам с собой. – Первый ломтик – капитан-поручик Пикин. Через него доберемся до секретаря. А после прикинемся, что самого светлейшего нам не надобно. Мол, заморочили ему, бедному, голову лихие прихлебатели, а он, конечно, ни сном ни духом… Если будут у меня доказательства твердые, то отопрется от итальянца Платон Александрович, выдаст с потрохами, уж я-то его, голубя, знаю.
Тайный советник подумал еще, но теперь молча. Снова кивнул:
– Нужно от Пикина признание. С него и начнем, ибо из всех он – персона наименее значительная.
– Не будет он себя оговаривать! – вскричал Митя. – Зачем ему?
– Не зачем, а почему, – назидательно сказал Маслов. – Причину, по которой Андрейка Пикин мне всю правду скажет, я тебе сейчас покажу. Пойдем-ка.
Из кабинета он повел своего маленького сообщника в другую комнату, немногим просторней, однако обставленную с некоторой претензией на уютность: у стены примостилась козетка, и даже с вышитыми подушечками, в углу висело тускловатое зеркало, а подле стола с кокетливо гнутыми ножками стояли два кресла – одно деревянное и неудобное, зато другое мягкое и покойное, похожее на глубокую раковину.
– Тут у меня гостиная для приватных бесед с высокородными особами, нуждающимися в отеческом вразумлении, – хитро улыбнулся Прохор Иванович, да еще подмигнул. – Дорогого гостя, а бывает, что и гостью, сажаю с почетом. – Он указал на кресло поудобней. – Сам же довольствуюсь сим скромным стулом и ни за что его не променяю на то мягкое седалище.
– Почему? – удивился Митя, попрыгав на пружинистом сиденье. – Тут гораздо лучше.
– Это как посмотреть.
Тайный советник нажал рычажок, спрятанный в ручке деревянного стула, и из подлокотников гостевого кресла вдруг выскочили два металлических штыря, сомкнувшись перед Митиной грудью. Вскрикнув от удивления, он вынырнул из-под них на пол и отполз от бешеного кресла подальше.
– К чему это?
– А к тому, душа моя, что взрослый человек, в отличие от ребенка, освободиться из сих стальных объятий никак не может. Я же еще и ремешками пристегиваю – наверху и у ног, чтоб без дрыганья.
– И что же дальше?
– А дальше вот что.
Маслов повернул рычажок еще раз, и кресло вместе с квадратом паркета поползло вниз. Однако утопло в дыре не целиком – верхняя половина спинки осталась торчать над полом.
– Ух ты! – подивился Митя. – Но зачем нужно это инженерное приспособление?
– Сейчас покажу. Посмеиваясь, Прохор Иванович взял гостя за руку и повел из комнаты в узкий коридорчик, оттуда по винтовой лестнице в подвал. За железной дверью располагалось безоконное помещение с голыми каменными стенами. Посередине торчал деревянный помост, на котором Митя увидел нижнюю часть спустившегося сверху кресла.
От стены отделилась сутулая тень – длиннорукий человек в засаленном камзоле, со сплетенными в косицу желтыми волосами.
– Здравия желаю, ваше превосходительство! – гаркнул он оглушительным голосом. – А кресло-то пустое! Нет никого! Это как?
В руке у громогласного Митя разглядел плетку с семью хвостами и поежился. Вон оно что…
– Это экзекутор, – объяснил Маслов. – Имя ему Мартын Козлов, а я зову его Мартын Исповедник. Орет он оттого, что глух как пень. Это для секретных дел качество преполезное.
Повернулся к экзекутору и тихо сказал, явственно шевеля губами:
– Проверка, Мартынушка, проверка. Работа ближе к вечеру будет.
– А-а, – протянул длиннорукий и кивнул на Митю. – Это кто, родственник ваш?
– Внучок, – не моргнув глазом, соврал советник и потрепал Митю по волосам. – Иди пока, Мартын, отдыхай.
Подвел Митю к помосту, стал показывать.
– Гляди, сиденье с кресла снимается. Вот так. Потом с попавшей в сей силок особы стягиваются портки или же задирается платье, это уж смотря по принадлежности пола. И начинается работа. Я увещеваю в верхней комнате, словами, и с надлежащей вежливостью, ибо персоны-то все непростые, благородного звания. А Мартын увещевает снизу. Иной раз, – Прохор Иванович подмигнул, – и согрешишь, если баба нестарая да в обмороке сомлеет. Спустишься, снизу на нее поглядишь. Больше ни-ни, упаси Господь. Ну рукой погладишь, это бывает.
– Их вон той плеткой секут, да? – боязливо показал Митя на страшное семихвостое орудие.
– Когда разговор легкий – к примеру, с дамой по сплетническому делу – то прутиком. Если же надо от человека ответ на важный вопрос получить, то, бывает, и семихвосткой. Покается твой капитан-поручик, как на исповеди.
Митя вспомнил, как Зефирка преображенца за палец цапнула, а тот решил, что крыса, и все равно нисколько не испугался, руки не отдернул.
– А если не расскажет? Пикин, он знаете какой.
Спросил больше для порядка. Сам-то, конечно, понимал, что расскажет Пикин, никуда не денется. Один раз, тому три с лишком года, Митю тоже высекли. Братец Эндимион подстроил: разбил каминные часы, а свалил на маленького, благо тот еще пребывал в безмолвии. Митя хотел снести муку стоически, как Муций Сцевола, да не вышло – орал от боли благим матом. Так то розги были, и секли легонько, по-детски, а тут вон как. Все на свете расскажешь.
– Ну, а если ему моченой в соли семихвосточки мало будет, – сладко сказал Маслов, – то у Мартына для таких молчунов еще тисочки есть знатные, на чувствительные отростки фигуры. Такому кобелю, как Пикин, в самый раз будут. Запоет соловьем.
При чем тут тисочки и почему Прохор Иванович назвал преображенца кобелем, Митя не понял. Если ругаются, то обычно говорят про плохого человека «пес» или «собака». Если совсем осерчают – «сука».
– Сначала мы с Мартыном его в мягкость введем, – объяснял далее тайный советник. – Ты пока в тайнике посидишь. Видал в гостиной зеркало? Оно с той стороны пустое, и преотлично все видно. А как Пикин дозреет, крутить начнет да юлить, я тебя кликну. Освежишь ему воспоминания. Не робей. – Начальник Секретной экспедиции щелкнул Митридата по носу. – Им, голубчикам, теперь не до того будет, чтоб с тобой квитаться. Только не струсь.
Легко сказать «не струсь». Стоя в каменном закутке за зеркалом, Митя чувствовал себя не как привык – маленьким взрослым среди больших детей, а крошечной щепочкой, которую закрутил-завертел злой водоворот. Сколько ей, бедной, ни тщиться, самой из сей пучины не выбраться и ее неведомых законов не познать.
Когда тайный советник наконец ввел в гостиную вытребованного капитан-поручика, Митя уже весь извелся. Прохор Иванович хвастал, что к нему никто опаздывать не смеет, загодя являются, а Пикин посмел – чуть не на полчаса припозднился.
– Вот и славно, драгоценный Андрей Егорыч, что вы к старику заглянули, не побрезговали, – фальшиво добродушным голосом приговаривал Маслов, ведя гостя к креслам.
– К вам, ваше превосходительство, попробуй не приди – в цепях приволокут, – ответил злодей.
Через стекло было хорошо видно, как блеснули в беззаботной улыбке белые зубы.
– Ну уж так-таки в цепях. Наговаривают на меня злые языки, – хохотнул начальник Секретной экспедиции. – В цепях ко мне государственных преступников водят. Вы разве из их числа?
Пикин дерзко глянул на тайного советника сверху вниз.
– Государственный преступник – фигура непонятная. Бывает, что сегодня ты преступник и на тебя охота, а завтра, глядишь, все поменялось: охотники, что тебя атукали, сами в железах.
– Про охотников это вы интереснейшую аллегорию привели, господин капитан-поручик. – Маслов за рукав повел офицера к нужному креслу. – Присаживайтесь, нам найдется, об чем потолковать.
Гвардеец поклонился:
– Благодарю. Но при столь высокой особе сидеть не смею.
– Так я сам тоже сяду. Прошу покорно запросто, без чинов. Сами видите, не в кабинете принимаю, в гостиной. Стало быть, вы для меня гость. Пока что.
Последние слова были произнесены совсем другим тоном, и бровки Прохора Ивановича грозно сдвинулись. Однако Пикин и тут не испугался.
– Все же с вашего позволения постою, – ухмыльнулся он. – Я ведь нынче в кордегардии копчусь. Всю задницу отсидел.
– Нет уж, садитесь, весьма обяжете!
Маслов схватил преображенца за обе руки, стал усаживать насильно, будто чрезмерно радушный хозяин.
Сейчас тебе отсидевшую задницу-то разомнут, злорадно подумал Митя. Будешь знать, как люстры рушить да детей в колодец кидать.
Упрямый капитан-поручик садиться, однако, не желал, и из-за этого у них с Прохором Ивановичем образовалось подобие танца – так и топтались, так и кружились на месте.
Вдруг Пикин подхватил старика под мышки и швырнул в мягкое кресло.
– Сам сиди, старый черт! Наслышан я про твое угощенье! Митька Друбецкой мне рассказывал, как ты его учил про царицу не злословить!
Маслов хотел подняться, но бесшабашный капитан-поручик двинул его кулаком в лоб – его превосходительство плюхнулся в кресло.
Что ж это делается! Митя сбоку видел обоих: и скалящегося Пикина, и осовело хлопающего глазами тайного советника. Ах, наглец!
– Ты меня попомнишь, – сказал гвардеец, пошарил руками по креслу и нашел спрятанные за спинкой ремни. – Вот так, ваше превосходительство. И ножки пожалуйте… Где, шишки еловые, механизм-то? Должно быть, тут.
Подошел к деревянному стулу, потыкал туда, сюда и обнаружил-таки рычаг.
Вжик! На груди Прохора Ивановича сомкнулись стальные полосы.
Щелк! Кресло медленно поползло под пол. Тут до Мити дошло, что сейчас может воспоследовать. Мартын-то не поймет, чья ему спускается филейность. Как начнет охаживать!
– Засим остаюсь покорный вашего превосходительства слуга, – шутовски поклонился оглушенному Пикин. – Не смею далее обременять своим присутствием. Служба.
Развернулся и с заливистым хохотом выбежал прочь – вот какой отчаянный.
Внизу что-то свистнуло, щелкнуло, и Прохор Иванович вдруг очнулся.
– А-а-а! – заорал он истошным голосом. – Марты-ын, сволочь, сгною!
Снова свистнуло.
Тут начальник экспедиции уже не крикнул – подавился криком.
Ах, беда! Ведь Мартын этот глухой. Ему что кричи, что не кричи.
Митя вылетел из потайной конурки, побежал по винтовой лестнице вниз. Вопли стали приглушенней.
Вбежал в сумрачный подвал, успел увидеть, как Мартын Исповедник смачно, с потягом, вытянул по белому в красную полоску арьеру. Мучимая часть тела свесилась в седалищное отверстие и была вся на виду.
– Дядя Мартын! – Митя вцепился палачу в жилистую руку. – Нельзя! Это Прохор Иваныч!
Экзекутор оглянулся:
– А-а, внучек. Ты только погляди на него, срамника. – Мартын зашелся в странном, клекочущем смехе. – Ишь, сладострастник!
Палец кнутобойца указывал на гузно его превосходительства. Повыше нахлестанного места, где копчик, виднелась малая картинка: красный цветок навроде ромашки.
– Это у них мода нынче такая, у похабников, – объяснил Мартын, вытирая лоб. – Тутуеровка называется, от пленных турков пошло. Есть ходоки, которые для привлечения женского пола прямо на срамном уду тушью узоры накалывают. А этот не иначе как содомит. У них вся краса в гузне. Тьфу! Славно я его приласкал, по его любимой плепорции!
И загоготал, очень довольный шуткой.
– Ты погоди, малый, мне работать надо. Пока Прохор Иваныч шнуром не дернет, бить положено.
Ка-ак размахнется, ка-ак ударит! Сверху уже не вопль – хрип несется.
С потолка действительно тянулся тугой шнур, но только дергать за него наверху было некому.
Митя повис на руке с плеткой.
– Ты что? – удивился экзекутор.
– Это не тот, это сам Прохор Иваныч и есть, – тщательно шевелил губами Митя. – Ошибка вышла!
– Маточки-светы! – перепугался Мартын. – А я-то охаживаю во всю силу! Ишь, думаю, упрямец какой, хотел уж за тиски браться! Ой-ой-ой! Пропал, совсем пропал! Заметался, закружился.
– Ваше превосходительство, я сейчас! Я уксусом целебным! А после лампадным маслицем, – причитал мучитель, таща медный тазик.
Дальше Митя смотреть не стал. Повернулся, побрел восвояси. Понимал – стыдно будет тайному советнику после случившегося мальчонке в глаза смотреть.
Но Пикин-то, Пикин!
В тот же вечер был маскарад по случаю дня рождения ее императорского высочества благоверной государыни великой княжны Марии Павловны, которой недавно сравнялось девять лет. Празднество намечалось пышное, с размахом, на что имелись свои причины. Дочка наследника с начала зимы тяжко хворала свинкой, все уж думали, не выживет, но уберег Всевышний. Еще несколько дней назад была слабенькая, отчего и с праздником вышла задержка, а теперь уже вовсю бегала и даже ездила кататься. Государыня, сердечно любившая резвушку, придумала особенную затею: Лесной Бал. Когда Мария Павловна совсем помирала, августейшая бабка спросила у нее, желая ободрить, – что, мол, подарить тебе, душенька, на день рождения (а сама уж и не чаяла, что внучка доживет). «Лесную зверушку ежика», – молвила ее высочество слабеньким голосом. Эту историю при дворе рассказывали не иначе, как утирая слезы.
И вот теперь Таврический дворец обратился в лесное царство. Стены парадной залы были сплошь покрыты еловыми и сосновыми ветками, кресла задрапировали на манер пней, из-за обклеенных настоящей корой колонн высовывались чучела медведей, волков, лисиц, а для входа гостей приспособили боковой подъезд, ради такой оказии обращенный в огромного ежа. Еж щетинился деревянными иглами в сажень, стеклянные глаза светились огоньками, а дверь была устроена у лесного жителя в боку.
Когда привезли великую княжну и она увидела чудесного зверя, то захлопала в ладоши и завизжала от восторга. Ее высочество была в наряде ягодки-земляники: красное платьице, на обритой головке изумрудный венец. Приглашенным было ведено вырядиться лесной фауной либо флорой: грибами, зверями, лешими, русалками и прочими подобными фигурами. Пренебречь не дозволялось никому, даже иностранным посланникам, которые расценили затеваемое торжество не в сентиментальном, а в политическом смысле, и явились: прусский посол в виде груздя, британский – соболя, шведский – дровосека, неаполитанский – зайца, а больше всех постарался баварский, нарядившись прегордым дубом. После в реляциях своим правительствам отписали, что сия аллегория несомненно знаменует торжество Леса (то есть лесной державы России) над своим давним соперником Полем, сиречь Польшей.
Митю камердинер нарядил мужичком-лесовичком. Пудру с волос смыл, приклеил бороденку. В остальном же наряд был незатейливый, крестьянский: лапоточки, плисовые порты, белая рубаха с подпояской. В руке полагалось нести лиственничную ветку, грозить ею всем встречным и даже бить – иголки мягкие, не оцарапают.
Бить он, конечно, никого не стал и вскоре будто ненароком обронил ветку на пол. Походил среди гостей, поглазел на наряды, в очередной раз подивился недоумству взрослых. Настроение было тоскливое.
Еще тошнее стало, когда услыхал сзади шепоток:
– А я вам говорил, ваше сиятельство, никакой он не ребенок, а ученый вавилонский карла, и лет ему никак не меньше пятидесяти. Глядите, вон на макушке прядка седая – недокрасил.
О, невежественные, пустоязыкие, скудоумные!
Дальше – хуже.
Подлетел Фаворит, нагнулся, зашептал. Глаза сумасшедшие.
– Здесь она, моя Псишея! Доложили – ее карета подъехала. Три недели носа ко двору не казала, а тут не посмела государыню огорчить! Письмо не забыл?
– Помню, – буркнул Митя.
– Молодец. В конце так присовокупи. – Князь зашелестел в самое ухо. – «Нынче ночью жди. Как постылая заснет, приду. Ни замки, ни стены не остановят». Поди, нашепчи ей. И смотри: если что – кишки размотаю.
– Да кому ей-то? – жалобно вздохнул несчастный Митридат. – Я ведь и знать не знаю, какая особа имела счастие вызвать сердечный интерес вашего сиятельства.
– Графиня Хавронская. Павлина Аникитишна, Павлинька.
Зуров выговорил это имя нежно, словно пропел.
– Видишь клавесин и арфу? Сейчас будут музицировать. Сначала Наследник споет романс в честь дочери, а потом запоет она, моя сладкоголосая русалка.
Митя обреченно направился к возвышению, где уже поставили украшенное оранжерейными ландышами кресло для государыни, для именинницы – стульчик в виде зеленой мшистой кочки.
Наследник был наряжен Лесным Царем – в короне из шишек, в мантии из бобровых хвостов. Пел он прескверно, но зато прочувствованно и очень громко. Самозабвенно разевал широкий редкозубый рот, так что во все стороны летели брызги слюны. Никто его, бедного, не слушал. Придворные болтали, шушукались, а царица переговаривалась с румяной русалкой: перевитые кувшинками волосы распущены, на простом белом платье приклеены блестки, изображающие рыбью чешую.
Едва смолкли последние аккорды и певец без единого хлопка сошел с возвышения, Екатерина громко сказала:
– Ну что, скромница, порадуй нас, спой мою любимую.
Русалка поднялась, сделала реверанс ее величеству и вышла к клавесину.
Это, выходит, и была пассия Платона Александровича, так что надлежало приглядеться к ней получше.
Митя не считал себя вправе оценивать женскую красоту, ибо не достиг еще уместного возраста, однако смотреть на графиню Хавронскую безусловно было приятно. Округлое, в форме сердечка лицо, губки бутоном, ясные серые глаза с предлинными ресницами, розовейше-белейшая кожа – все было диво. Да одних волнистых, обильных волос хватило бы, чтоб даже во сто крат менее прекрасную лицом особу сочли привлекательной.
Павлина Аникитишна запела про сизого голубочка, который стонет день и ночь, ибо от него миленький дружочек улетел надолго прочь, и тут очарование ее нежной красоты и мягкого голоса сделалось почти невыносимым – прямо-таки затруднительным для мерного дыхания, ибо от восторга воздух застывал в горле и не желал наполнять грудь.
Графине хлопали долго и даже кричали «Браво!». Когда она вернулась на прежнее место, Митя подобрался ближе, встал за спинкой царицыного кресла.
От пения Павлина Аникитишна распунцовелась еще пуще, глаза наполнились сиянием, но ресницы сдерживали этот пламень, скромно затеняли его. Красавица ни на кого не смотрела, внимала словам Екатерины, потупив взор.
– Улетел твой милый дружочек, улетел, – ласково выговаривала ей императрица. – Да не надолго, а навсегда, не вернешь. Поплакала уже, погоревала, будет. Что ж себя заживо хоронить? Полно, матушка, глупствовать. После, когда станешь старая, будешь локти кусать. Мою свойственницу всякий возьмет, выбирай любого жениха. А не хочешь замуж, – Екатерина наклонилась к скромнице, с лукавой улыбкой шепнула, – так заведи себе сердечного дружка. Никто не осудит, ведь пять лет вдовствуешь.
Ужас до чего сейчас было жалко великую монархиню. Не знает, бедняжка, какого аспида пригрела на сердце. Еще и сама, святая простота, содействует его злоядному умыслу. Послушает красавица совета, призадумается про сердечного дружка, а тут как раз посланник к Псишее от Амура.
– Благодарю за доброе участие, ваше величество, – тихо молвила графиня. – А только не нужно мне никого. Ежели бы только вы исполнили давнюю мою просьбу и дозволили удалиться в деревню, я была бы совершенно…
– Ну нет! – Екатерина сердито шлепнула прекрасную даму веером по руке. – Я дурству не потатчица! Еще после мне, сударыня, спасибо скажете!
Митя увидел, как из-под пушистых ресниц Павлины Аникитишны сбегают две хрустальных слезинки, и прослезился сам.
Нет, не было его мочи участвовать в Фаворитовом окаянстве.
Выбежал в вестибюль, где скидывали шубы припозднившиеся гости. По лестнице поднялся на галерею. Там было хорошо, темно. Устал Митридат от света – во всех смыслах сего слова. Отчего папенька так алкал этого Эдема? Что в нем хорошего? Семилетнего человека, и того не могут оставить в покое.
Залез на широкий подоконник, прижался пылающим лбом к холодному стеклу. Внизу горели факела и разноцветные лампионы, подъезжали и отъезжали кареты, посверкивали оледеневшие иглы чудо-ежа.
Митя спрыгнул на пол, в скорбной задумчивости прошелся по безлюдной галерее.
Никакая она, оказывается, была не безлюдная.
Из следующей оконной ниши донеслись шорохи, шепот, частое дыханье.
Кавалер с дамой – тоже забрались на подоконник и возятся, любезничают.
– Ах! – пискнул женский голосок. – Тут кто-то есть!
Зашелестели шелка, на пол спрыгнула барышня в наряде лисички, но только изрядно помятом и истерзанном. Ойкнула, прикрыла лицо руками, побежала прочь. Только Митя все равно ее узнал – из государыниных фрейлин, как бишь ее, остзейская фамилия.
Потом на пол слез ухажер, топнул ботфортами, подтянул пояс, обернулся.
Пикин! В мундире, при шпаге – видно, едва сменился с дежурства.
Это уж было чересчур. Что за роковой день!
Митя задрожал всем телом, попятился, но поздно.
– Шишки медовые! – промурлыкал капитан-поручик, протягивая длинную руку. – На ловца и зверь.
Больше ничего говорить не стал, схватил мужичка-лесовичка за кушак, рывком вскинул на подоконник и как дернет раму! С улицы дунуло ледяным ветром, снежной трухой.
– Дяденька Пикин, пустите! – взвизгнул Митридат самым постыдным, щенячьим образом. – Что я вам сделал?
– Пока ничего, воробей, но скоро сделаешь мне много хорошего, – радостно сообщил гвардеец, влезая на подоконник с ногами. – Благодаря тебе я спишу половину долга.
Раскрыл окно широко, взял свою жертву покрепче, раскачал.
– Дознаются! – воззвал Митя к разуму злодея. – Прохор Иваныч поймет!
Пикин раскачивать мальчика перестал, неумного подумал.
– Не докажет. Лазил постреленок по окну, да сорвался. Ну, лети, воробышек.
И с этим напутствием швырнул царского воспитанника вниз – прямо на острые ежовы иглы.
Но немного не рассчитал силу преображенец – очень уж легок был метательный снаряд и пролетел чуть дальше, чем следовало.
Смертоносная щетина мелькнула перед самым лицом вопящего Митридата, не зацепила. Он вне всякого сомнения все равно убился бы насмерть о гранитные ступени, если б не чудо – уже второе за сей кошмарный день, если вспомнить спасение из колодца.
По ступенькам поднималась гаргантюанских размеров дама: куафюра у нее была вся в веточках, увенчанная картонным соловьем, а широчайшее платье a la panier[6] являло собой вид цветущей поляны. На эту-то поляну Митя и рухнул. Исцарапался о ветки шиповника и ивовые фижмы, порвал рубаху, но не разбился, а лишь прокатился по лестнице, от брошенный пружинистым кринолином. Спасительница отрока стояла ни жива ни мертва. Платье лишилось всей своей правой половины, и теперь дама в панталонах цвета «смущенное целомудрие» была похожа на обнаженную наяду, выглядывающую из-за куста. Ее крик, разразившийся секунду спустя, был душераздирающ, и оглушенный падением, переставший что бы то ни было понимать мальчик сломя голову ринулся прочь и от этого вопля, и от деревянного ежа, и от всей сияющей огнями громады дворца.
Сам не помнил, как пробежал через сад и вылетел из ворот. Приходить в себя начал от холода. Еще сколько-то пометался туда-сюда по заснеженной площади, вконец продрог и сообразил: деваться некуда, нужно идти назад, а там броситься в ноги матушке-государыне и все-все ей рассказать. Пускай или поверит и защитит, или рассердится и отошлет к папеньке с маменькой. Последнее еще, может, и лучше.
Зябко обхватив себя за локти, потрусил назад к воротам.
– Куда? – рыкнул на него часовой. – А ну кыш!
– Я Митридат, царский воспитанник, – начал объяснять Митя, но солдат только выругался по-матерному.
– Ишь, мочалку прицепил, паскуденок!
Сдернул с Митиного подбородка фальшивую бороду и отвесил такую затрещину, что чудо-ребенок кубарем полетел в сугроб.
Помотал головой, прогоняя ушной звон. Не сразу понял, что обратной дороги нет.
Побежал к другим воротам, где солдат был добрее: просто посмеялся выдумке про воспитанника, да замахнулся, а бить не стал.
И то – какой из лапотного оборванца Митридат и императрицын любимчик? Курам на смех.
Прыгая на месте, чтоб вовсе не замерзнуть, Митя попробовал применить лучшее из всех оружий – разум. Однако чем больше размышлял о приключившейся нелепице, тем отчаянней представлялось положение.
Бежать в Зимний, домой? Так туда тем более не пустят. На дальних дворцовых караулах, мимо которых не пройти, часовые – злее собак. Сколько раз видел, как они зевак тычками да прикладами гоняют.
Ждать, пока закончится маскарад, и подбежать к кому из знакомых? Так ведь это сколько еще торчать на холоде. Пожалуй, дух испустишь.
Недоступный дворец сиял чудесными огнями, ветер доносил звуки небесной музыки – видно, начались танцы. Там, за оградой и черными деревьями сада, был истинный Эдем. Обретаясь внутри сего райского вертограда, неблагодарный Митридат не ценил своего счастья, теперь же неземные врата замкнулись, и изгнанник остался наедине с ночью, злым северным ветром, ледяной моросью. Идти некуда, но и стоять нельзя – погибнешь.
Бывший небожитель, гонимый ненастьем, дрожал и всхлипывал, уныло бредя прочь от Эдема медленной стопой.
Глава седьмая
Большие надежды
Это просто буря, сказал себе Николас, протирая глаза. Просто дождь вперемешку со снегом, просто северный ветер, и затянувшейся теплой осени конец.
Приснившееся откровение про хрустальный гроб оказалось на ясную голову совершеннейшим идиотизмом, но утро и в самом деле явило себя помудреней ночного паникерства. Николасу пришла простая и продуктивная мысль, от которой страх и растерянность – нет, исчезнуть не исчезли, но по крайней мере локализовались.
Ты ведь специалист по советам, сказал себе Фандорин. Представь, что к тебе пришел человек с такой вот сложной проблемой. Что бы ты ему присоветовал?
И мозг сразу сбросил балласт эмоций, заработал быстро и деловито.
Во-первых: на милицию, которая не может защитить приговоренного к смерти налогоплательщика, мы надеяться не будем. Разбитной опер с подозрительно дорогим мобильником доверия не вызывает. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот основополагающий принцип российской жизни, который следовало бы включить в конституцию, чтобы не создавать у населения ненужных иллюзий.
Во-вторых: зацепка, по которой тосковал капитан Волков, кажется, все-таки есть.
Откуда мнимый Кузнецов взял адрес фирмы? В объявлении был дан только контактный телефон – не «Страны советов», а главного редактора газеты «Эросс». Алтын пообещала, что сама будет отсекать всех неперспективных, и, хоть кое-кому из «эроссиян» удавалось хитростью или по случайности прорваться через этот кордон, но большинство сумасшедших и извращенцев все же отфильтровывалось еще в редакции. Однако Кузнецов прорвался. Каким образом?
Николас набрал номер мобильного телефона жены.
– Я, – раздался в трубке знакомый хрипловатый голосок.
Сколько раз Фандорин говорил жене, что она разговаривает по телефону совершенно недопустимым образом! Ну что это в самом деле: вместо «алло» или на худой конец «слушаю» – грубое «я», а в ответ на вежливое «добрый день» – по-хамски кургузое «добрый»?
– Ну, как ты там? Как погода в Питере? – начал издалека Николас. – У нас вот с утра гроза.
У Алтын нюх как у спаниеля, поэтому главный вопрос нужно было задать как бы между прочим, не привлекая к нему внимания.
– Короче, Фандорин, – оборвала жена. – Я веду заседание. Что-нибудь с детьми?
– Нет.
– С тобой?
Он вздрогнул. Неужели почувствовала?
– Нет-нет, все отлично, – поспешно уверил ее Николас.
– Чего тогда?
О, несентиментальная правнучка хана Мамая, противница бессодержательных нежностей и милой воркотни! Ни разу Ника не слышал от нее слова «люблю», хотя в том, что любит, непонятно за что, но любит, сомнений не возникало. Если б перестала – только бы он ее и видел, ушла бы и не оглянулась.
– Ну, живее рожай, – поторопила Алтын. Испугавшись, что она по своему обыкновению просто возьмет и отсоединится, Николас зачастил:
– Слушай, ты мне вчера прислала такого классного клиента. Некий Кузнецов, помнишь? Хотел тебя за него поблагодарить.
– Ты что, Фандорин, из скворечника упал? – отрезала Алтын. – Буду я с твоими психами ля-ля разводить. Их Цыца фильтрует.
«Цыцей» она называла свою референтшу Цецилию Абрамовну. Выходит, звонить в Питер не следовало. Мог бы и сообразить, что Алтын сама не станет отвечать на звонки каждого встречного-поперечного, это было бы уж слишком самоотверженно.
Мужчины не умеют меняться так часто и так радикально, как женщины, подумал Фандорин, глядя на попискивавшую частыми гудками трубку. За шесть лет знакомства Алтын сбрасывала кожу и полностью преображалась по меньшей мере четырежды. С началом любовных отношений превратилась из маленького, злобного ежонка в страстную, нежную гурию (эх, вот время-то было, не вернешь). Потом, родив (разумеется, двойню – она никогда не признавала полумер и компромиссов), пополнела и поширела, так что трудно было узнать в ней прежнюю тонкую, подвижную Алтын, превратилась в сильную, красивую и плодовитую самку. Говорила, что главная функция женщины – рожать и воспитывать, что нет на свете никакого дела важнее этого. Ушла из своей прежней газеты – бесповоротно, ничуть не жалея. Когда Никин компаньон, тогда еще не свихнувшийся на божественном, затеял создавать масс-медиальный концерн (было в ту пору у русских олигархов такое хобби) и предложил фандоринской жене возглавить эротический еженедельник, Ника был уверен, что Алтын с негодованием откажется. Она неожиданно согласилась, и он испугался, что ей с этим громоздким, малоприятным делом не справиться.
Справилась, преотлично справилась. И семью от бедности спасла, и инвестора обогатила. «Эросс» оказался единственным жизнеспособным звеном скороспелой и столь же скоро рассыпавшейся масс-медиальной империи. Но Алтын снова переменилась, и опять до неузнаваемости. А когда с женой происходила очередная метаморфоза, в ней менялось все: внешность, комплекция, манера говорить и одеваться, привычки – причем абсолютно ненарочитым, естественным образом.
Что ж, Цыца так Цыца.
Выпить кофе, отвезти детей в сад, потом в редакцию.
Усопший холдинг Никиного благодетеля в период своего расцвета состоял из дециметрового канала «Супер-ТВ», общественно-публицистической «Консервативной газеты» (развернутой на базе районной многотиражки «Юный зюзинец»), гламурного журнала «Трутень» (в прошлом ежемесячника «Трудодень») и досугового еженедельника «Эросс». Последний унаследовал помещение и большую часть штата от отраслевой газеты «Социалистическое атоммашстроение», купленной по дешевке в одном пакете с «Трудоднем» и «Зюзинцем». В ту пору соучредитель «Страны советов», являвшийся по совместительству владельцем множества других фирм и предприятий самого непредсказуемого профиля, загорелся идеей формирования общественного мнения и готов был потратить несколько десятков миллионов на обзаведение необходимым масс-медиальным инструментарием. Но со временем он утратил общественно-политические амбиции, да и эпоха неконтролируемых экспериментов с общественным мнением пошла на убыль, так что компоненты холдинга оказались предоставлены сами себе: можешь – плыви, не можешь – тони.
Как уже было сказано, на плаву остался один «Эросс». Возможно, причина живучести легкомысленного издания состояла в том, что эрос и живучесть – близкие родственники и, более того, вообще невообразимы друг без друга, но скорее всего газету спасла неиссякаемая энергия и волчья хватка шеф-редактора Мамаевой. Именно она придумала название и концепцию: мол, существует некая страна Эроссия, которую населяют особые люди эроссияне, отличающиеся от россиян раскованностью, отсутствием комплексов и жизнелюбием. Алтын была искренне убеждена, что, выпуская свою неприличную газету, не просто добывает деньги, а еще и делает благое дело – развивает в соотечественниках терпимость и творческое начало. Газета была цветная, шестнадцатиполосная: десять страниц текста и шесть страниц рекламы. Последние в редакции любовно именовались «кормушками», а каждая из содержательных полос была занята своей тематической рубрикой. Кроме уже поминавшейся «Палочки-выручалочки», посвященной мужским интимностям, был ее женский антипод, «Аленький цветочек». В разделе «Я вам пишу» трудились два бесстыжих журналюги, обломки обанкротившейся «Консервативной газеты», которые сочиняли задушевные письма от читателей. Рубрика «Грезы любви» печатала зажигательные фантазии эроссиян (в отличие от задушевных писем, подлинные). Еще в газете были страницы «Спецрепортаж», «Пошалим», «Что делать?» (в смысле, при сексуальных расстройствах), две фотогалереи – «Мистер Эроссиянин» и «Мисс Эроссиянка» и популярнейший скандалодром «А вы слыхали?», где печатались пикантные небылицы из жизни звезд шоу-бизнеса, с которыми еженедельник постоянно судился, засыпаемый исками о клевете (исход процесса, да и сам компромат обговаривались между сторонами заранее).
Николас пришел не вовремя: весь творческий состав редакции сидел на планерке. Там же находилась и референтна, отсутствующего шеф-редактора – стенографировала ход обсуждения. Особенной необходимости в протоколировании не имелось, но старательная Цецилия Абрамовна специально научилась стенографии, чтобы лучше соответствовать своей должности, и теперь стенографировала все подряд. К тому же в отсутствие начальницы заняться ей было нечем, а сидеть без дела она не привыкла.
Заместитель главного редактора приветливо улыбнулся просунувшемуся в дверь Николасу и спросил:
– Меня?
– Нет, мне бы Цецилию Абрамовну. Но ничего, я подожду за дверью, пока вы закончите, – смутился Фандорин и был, конечно же, немедленно усажен за длинный стол. Слава богу, планерка подходила к концу.
Все в редакции знали Нику и приветливо ему заулыбались, только звезда и гордость «Эросса», блистательная Аманда Лав, метнула на него презрительный взгляд и отвернулась. Одинокая волчица, она не состояла в штате и сотрудничала с редакцией исключительно из любви к острым ощущениям, готовя спецрепортажи по всякой секс-экзотике. Аманда славилась не только вдохновенным пером, но еще и невероятной журналистской самоотверженностью – то завербуется госпожой в мазохистский салон, то поедет по просторам страны с шоферами-дальнобойщиками, то вступит в клуб зоофилов. Фандорин знал, что презрительный взгляд роковой женщины был адресован ему как мужу главной редактрисы, с которой у Аманды недавно произошел конфликт. Действуя на свой страх и риск, героиня экстремальной журналистики подготовила сенсационный материал по редкому виду извращения, копрофилии, для чего внедрилась в некий тайный кружок и даже умудрилась сделать там фотографии скрытой камерой, но Алтын статью не пропустила из эстетических соображений. Бедная Аманда, ради искусства подвергшая себя тягчайшим испытаниям, устроила шумный скандал из-за цензурного беспредела и «татарского ига», грозилась уйти в конкурирующие издания «Сладка ягода» или «Будуар», но, конечно, не ушла – там класс не тот и гонорары пожиже.
Однако Аманда была скорее исключением, в редакции преобладали люди тихие и интеллигентные, не первой молодости. Многие из них достались Алтын в наследство от «Социалистического атоммашстроения» и осваивали новую специальность на ходу. Например, ведущий игровой рубрики «Пошалим» Сексуалий Лоханкин (псевдоним, конечно) в прежние времена занимался рационализаторами и новаторами производства, а пожилая девушка Ляля Друян перепрофилировалась из ведущих «Детского уголка» в эксперты по вневагинальным практикам. Как раз ее материал сейчас и обсуждался.
– Игорь Иванович, – говорила Ляля плачущим голосом, обращаясь к заместителю главного редактора. – Никак у меня не складывается с анальным сексом. Я и так пробовала, и этак – не встает, и все тут.
Николас покраснел и покосился на соседей, но те, привычные к производственной терминологии, сидели со скучающим видом, а Игорь Иванович добродушно сказал:
– Не встает в этот номер, поставим в следующий. Там с местом попросторней.
Цецилия Абрамовна поняла ерзанье Фандорина не правильно – успокаивающе показала на часики: потерпите, мол, уже скоро.
Это была ухоженная дама пенсионного возраста или, как говорила она сама, «периода полураспада». Закончив филологический факультет, всю жизнь проработала в «Атоммашстроении» корректором и привыкла относиться к газетному тексту как к набору непонятных слов – были бы правильно написаны. Раньше ей встречались одни мудреные термины, теперь другие, только и всего. Но глаза у Цыцы были уже не те, и Алтын, за суровым обликом которой скрывалось жалостливое сердце, взяла старушку к себе в референтен. А может быть, дело было вовсе не в жалости, а в безошибочном начальническом чутье, потому что ассистентка из Цецилии Абрамовны получилась просто золотая. Будучи женщиной одинокой, домой с работы она не торопилась, отличалась неукоснительной исполнительностью, а на телефонные звонки отвечала, как истинная леди – это придавало «Эроссу» респектабельности и шика. В начальнице Цыца просто души не чаяла, и Алтын отвечала ей взаимностью. Проблемы фандоринского семейства референтша воспринимала как свои собственные, из чего можно было заключить, что Алтын с ней чрезмерно откровенничает, и еще хорошо, если только о детях. Впрочем, к Николасу Цыца благоволила и называла «Никочкой».
– Да, Никочка, как же, – сказала она, когда после планерки они пили в приемной чай. – Вчера «Страной советов» интересовались восемь человек. Сейчас, у меня все застенографировано. – Она надела очки, достала блокнот с каракулями. – Ну, один был явно сумасшедший – лаял в трубку, говорил, что он человек-собака. Потом звонила дама. Пустая особа. Просто скучает, поболтать хочется, а сама пенсионерка – значит, хорошо заплатить не сможет. Алтын Фархатовна велела таким отказывать. Так, мужчине, который не назвался, я посоветовала обратиться к врачу-сексологу. У человека жизненная драма. Семьдесят два года, заслуженный работник культуры, женился на двадцатипятилетней, а здоровье уже не то. Я ему говорю…
– Цецилия Абрамовна, – мягко перебил ее Фандорин. – Расскажите мне, пожалуйста, только про тех, кому вы дали наш адрес. Сколько их было?
– Двое. Один молодой человек, который измучился, не зная, открывать ему счет в евро или оставить долларовый. Я дала ему и ваш адрес, и телефон. Не звонил?
– Нет. Но я вряд ли смог бы ему помочь, я ведь не специалист по валютным рынкам. А второй кто?
– Очень приличный мужчина, в возрасте. Сказал, что у него сложная, просто безвыходная проблема, что помочь ему может только маг, кудесник. Я говорю, Николай Александрович как раз и есть именно маг и кудесник, что берет он дорого, но своих денег стоит. – Цыца горделиво посмотрела на Николаса, ожидая похвалы за коммерческую смекалку. – Еще сказала, что вы работаете только с очень обеспеченными, солидными людьми и мелочами не занимаетесь. Что бизнес у вас процветает, что вы завалены работой и что вы – один из наших главных поставщиков рекламы. Правильно я сделала?
Фандорин содрогнулся.
– Вы ему дали адрес фирмы?
– Конечно, дала, не беспокоитесь. Он сказал, что за деньгами не постоит, если ему помогут. Интеллигентный человек, солидный. Представился честь по чести.
– Кузнецов? Николай Иванович? – безнадежно спросил Николас, вспомнивший-таки имя и отчество «парашютиста».
Цецилия Абрамовна рассмеялась, словно Ника остроумно пошутил.
– Нет, не так романтично.
– А что романтичного в имени «Николай Иванович Кузнецов»? – удивился Ника.
– Ваше поколение совсем не помнит героев войны, – укоризненно покачала сединами Цаца. – Ну как же, легендарный Николай Кузнецов, который убивал фашистских генералов. Помните «Подвиг разведчика»? И еще был очень хороший фильм с Гунаром Цилинским, «Сильные духом». Не смотрели?
Нет, Николас не смотрел этих фильмов, но в груди неприятно похолодело. Ах, как не прав был сэр Александер, что не давал сыну знакомиться с произведениями советской масс-культуры. Такое ощущение, что именно оттуда, из вчерашнего дня России, для Ники малопонятного и таинственного, шипя выползала гробовая змея, чтоб цапнуть его своими смертоносными клыками.
– Вот, – сказала Цецилия Абрамовна. – У меня записано. 10 часов 45 минут. Илья Лазаревич Шапиро.
Николас встрепенулся. Шапиро – фамилия распространенная, но все-таки не Кузнецов! Однако тут же потух. Никакой он не Шапиро. Просто услышал певучие интонации в голосе Цецилии Абрамовны и решил назваться еврейским именем – чтоб расположить к себе.
– А что вы такой печальный? Неужели тоже не появился? Не расстраивайтесь, он обязательно придет. Серьезный человек с серьезной проблемой – это было слышно по голосу.
Поблагодарив, Николас понуро двинулся к выходу. Увы, зацепки не получилось.
Зазвонил телефон.
– Редакция газеты «Эросс». Добрый день, я вас слушаю, – сказала Цаца своим замечательно респектабельным голосом.
Фандорин обернулся, чтобы кивнуть ей на прощанье, и вдруг увидел, как по маленькому дисплею на телефонном аппарате одна за другой пробегают маленькие цифры, складываясь в семизначный номер. Определитель!
О чем референтка разговаривала со звонившим, Николас не слышал – так шумно в ушах запульсировала кровь.
Когда же Цаца со словами «Всего вам наилучшего» положила трубку, он спросил, показывая на аппарат:
– Хорошо работает?
– Превосходно, иногда даже иногородние номера определяет. Понимаете, Никочка, повадились звонить хулиганы. Але, говорят, запишите объявление в газету. И дальше сплошные неприличности, даже матом. Я написала заявление в административно-хозяйственный отдел, чтобы мне поставили аппарат с определителем, и в два счета вычислила голубчиков. Оказались шалопаи-восьмиклассники.
– А заглянуть во вчерашние звонки вы можете?
– Вы хотите сами позвонить Илье Лазаревичу? Зря, по-моему, это будет несолидно. Но сейчас посмотрю, минуточку.
Она потыкала пальцем в какие-то кнопочки.
– Вот. 10.45. Вам видно?
И повернула аппарат, чтобы Нике было удобнее списать номер. Первые цифры 235 – это, кажется, район Ленинского проспекта.
– У вас в компьютере должна быть база данных абонентов Московской телефонной сети, – срывающимся от волнения голосом сказал Фандорин. – Давайте посмотрим, что это за номер.
– Давайте.
Пользование компьютером Цецилия Абрамовна постигла одновременно со стенографией и была рада возможности продемонстрировать свои навыки. Лихо загрузила программу, набила искомый номер, и через несколько секунд на мониторе появился результат: «Шибякин, Иван Ильич. Улица академика Лысенко, д. 5, кв. 36».
– Ну вот, – расстроилась Цаца. – Ничего похожего. Должно быть, определитель ошибся на какую-нибудь одну цифру, это с ним бывает.
– Похоже на то. Но я все же спишу.
Может быть, определитель и в самом деле ошибся. А вдруг нет? Что если это и есть конец ниточки, ухватив за который, можно размотать весь клубок?
Выйдя из редакции, Фандорин сосредоточенно размышлял: сообщать капитану Волкову о своем открытии или нет.
Решил – рано. Лучше сначала наведаться по этому адресу и попытаться выяснить, что за квартира и что за Шибякин. Как он выглядит? Вдруг там жил щуплый мужчина средних лет в мешковатом костюме, с залысинами на висках и голубыми навыкате глазами? Или, может быть, вышеописанного субъекта там видели, знают, могут опознать? Милиция, конечно, тоже способна выполнить эту несложную работу, но вряд ли она проявит столько тщания и расторопности, сколько человек, приговоренный к смерти.
Даже если адрес окажется совершенной пустышкой, отрицательный результат – тоже результат. Предположим, определитель не правильно вычислил какую-нибудь одну цифру. Пускай коллеги капитана Волкова не только проверят связи Ивана Ильича Шибякина, но еще и наведут справки обо всех абонентах, чей номер похож на указанный. Работа, конечно, кропотливая, но не такая уж сложная. Если они, действительно, хотят выловить этих «Неуловимых» – не из-за Николаса Фандорина, конечно, а из-за своих «резонансных» гендиректоров да председателей правления – пускай потрудятся. Ну, а если все же выяснится, что покойный визитер жил в квартире № 36…
Николас почувствовал, как его охватывает чувство, знакомое всякому исследователю истории и сочинителю компьютерных игр, – охотничий азарт; один из самых сильных стимуляторов, известных просвещенному человечеству.
И осадил себя: не увлекайся, не забегай вперед.
Улица академика Лысенко располагалась на месте дореволюционной Живодерной слободы, в 60-е годы минувшего столетия превратившейся в район фешенебельной советской застройки.
Выйдя из машины перед домом № 5, Фандорин огляделся по сторонам, ежась под холодным ветром, который сдул последние остатки благопристойности с деревьев, и теперь они были совсем голые, как покойники на прозекторском столе. Некстати (а может быть, наоборот, очень кстати) подвернувшаяся метафора несколько сбила в Николасе ажитацию. Это не квест, сказал он себе. Проиграешь – рестарта не будет.
Дом был из тех, которые в социалистические времена считались престижными: четырнадцатиэтажный, светлого кирпича, с большим козырьком над подъездом. Но теперь рядом выросло новорусское шато, с башенками и пузатыми купеческими балюстрадками, точь-в-точь кремовый торт, и бывшие номенклатурные хоромы сразу потускнели, превратились в бедного родственника – даже, пожалуй, не родственника, а голодного Гавроша, заглядывающего в витрину булочной.
Ничего, сказал Ника ложно-ампирному нуворишу. Придет срок, и ты тоже облупишься и сникнешь, потому что новая элита переселится за город, где чистый воздух и можно отгородиться от неблагополучных сограждан забором.
Подъезд дома № 5 был закрыт: Надеясь, что какая-нибудь альцгеймерная старушка записала в уголочке код, Фандорин присел на корточки, стал осматривать исцарапанную дверь. За этим занятием его и застала подошедшая к подъезду матрона с двумя сумками.
– Вы к кому? – спросила она, но не воинственно, а скорее с любопытством – все-таки вид у Николаса был приличный, неворовской.
– В тридцать шестую, – сказал он. – Да вот в подъезд никак не попаду.
Открывать матрона не спешила.
– К Шибякину?
– Да, к Ивану Ильичу, – небрежно кивнул он.
Ответ был правильный. Триумфального писка, какой бывает в квестах, когда переходишь на следующую ступень, не прозвучало, но сезам открылся.
– Что ж он вам код не сказал? – покачала головой аборигенка, вешая одну из сумок на крючок и набирая код. – Как жена умерла, совсем плохой стал, на себя непохож. Отощал, ходит как бомж, глаза полоумные. Спасибо, я сама. (Это в ответ на жест, предлагающий помочь с сумками.) Я под ним живу. Тут он протек на меня, зашла к нему – ужас что такое. Пыль, мусор, тараканы бегают. Бедная Любочка, видела бы она. Так вела дом, такая была аккуратистка. Вы его знакомый?
Услышав про умершую жену, Николас сглотнул. Неужели попадание? Нет, это было бы слишком просто!
– Да, мы с Иваном Ильичом вместе работали, – пробормотал он.
– В «Правде»? Вы тоже журналист?
– Вроде этого.
Шибякин работал в коммунистической газете «Правда»? Все один к одному! Пока поднимались в лифте, соседка не умолкала ни на секунду, но ничего ценного больше не сообщила – сетовала на времена. Жаловалась, что раньше в вестибюле и фикусы были, и стенгазета висела, дежурили вахтеры, а теперь полное безобразие. Уважаемые люди ходят с авоськами, донашивают ондатровые шапки с десятилетним стажем, а половину квартир скупили всякие хачики, заставили двор иномарками.
– Да что двор, – закончила свой плач социалистическая Ярославна, выходя на восьмом. – Что со страной сделали! Взять хоть вашу газету. Разве такой она была?
– Не говорите, – лицемерно вздохнул Фандорин. Сердце у него с каждым мгновением стучало все чаще.
На девятом этаже он долго стоял перед коричневой дверью с приклеенными медными цифрами 3 и 6. Когда-то они, должно быть, смотрелись импозантно, но металл потускнел, покрылся пятнами.
– Это был Найк Борзов, поклявшийся нашим радиослушательницам в вечной любви, – доносился из-за двери разбитной девичий голосок. – А теперь наша реклама…
Под задушевный дуэт, певший про «Мастер Дент, сеть стоматологии», Николас несколько раз нажал на кнопку.
Как и следовало ожидать, никто не откликнулся, только радио перешло на прогноз погоды. Дождь, северный ветер, ночью заморозки.
Ну, собственно, все. Половина работы за шестнадцатый отдел сделана. Теперь вызвать Волкова, пусть приезжает со следователем, понятыми или как там у них это заведено.
Николас подергал ручку – скорее механически, от задумчивости.
В двери что-то щелкнуло, и створка подалась внутрь, как и положено в домах советской постройки. Ника где-то читал, что на сей счет в свое время была издана специальная инструкция НКВД: делать входные двери только открывающимися внутрь, чтоб было легче вышибить при аресте.
У Фандорина возникло явственное ощущение дежавю, будто он уже видел прежде, как с тихим скрипом приоткрывается дверь, словно заманивая в пустую квартиру. Собственно, это и было дежавю. Он столько раз deja vu[7] эту сцену в кино – как человек толкает предположительно запертую дверь, а та вдруг подается, зловеще пискнув петлями. И еще возникло необъяснимое чувство: будто ничего удивительного в этом факте нет, будто дверь и должна была открыться. Удивительным, показалось другое – из щели на полутемную лестничную площадку заструился электрический свет. Это днем-то?
Николас так и застыл, сжимая холодную ручку. Войти не решался, лишь пытался заглянуть в щель. По законам Голливуда, внутри должен обнаружиться труп хозяина, но трупа не было – это он знал точно. То есть, был, но не в квартире 36, а в милицейском морге.
Азарт азартом, но закон нарушать нельзя. Фандорин толкнул дверь еще чуть-чуть. Коридор как коридор, только по полу почему-то разбросаны ботинки. Ладно, нужно звонить Волкову.
Тут лязгнула соседняя дверь, и Николас в панике шмыгнул в осиротевшую квартиру, захлопнув за собой дверь. Поди-ка объясни, кто ты такой и почему стоишь перед приоткрытым входом в чужой дом!
Первым делом, еще не оглядевшись, а лишь заметив выключатель, погасил свет. Прижался к кожаной обивке ухом.
На лестнице зашаркали неторопливые шаги. Остановились – совсем рядом, в каком-нибудь метре. Пронзительно задребезжал дверной звонок, и Фандорин только сейчас понял, какую чудовищную и, может быть, даже непоправимую глупость он совершил.
– Иван Ильич! – позвал раздраженный старческий голос. – Откройте же! Я слышал, как вы хлопнули дверью. Иван Ильич!
Снова звонок – длинный, потом серия коротких.
– Это черт знает что такое! У вас всю ночь орало радио! Какие-то дикие, неандертальские песни! Я все понимаю, сочувствую и так далее, но так тоже нельзя! Иван Ильич!
И тише, сердито:
– Совсем спятил. Хоть психовозку вызывай…
Снова шаги, но удаляющиеся. Гул подъезжающего лифта.
Слава Богу, уехал. Уф!
Нужно было поскорей уносить ноги. Просто выйти, прикрыть дверь и позвонить Волкову. А говорить, что по собственной – дурости влез в квартиру, незачем. Только лишние подозрения навлечешь.
Стоп. А отпечатки пальцев на ручке с внутренней стороны? Брался он за нее или нет, когда захлопнул дверь? Не вспомнить. Если брался, необходимо протереть платком. А вдруг сотрешь какие-нибудь важные отпечатки? Тут, наверное, лучше ничего не трогать.
Лишь теперь вспотевший от напряжения Николас осмотрелся по сторонам и увидел, что в квартире и без него все уже потрогали, да еще как!
Кто-то вывернул содержимое галошницы, побросал на пол верхнюю одежду с вешалки, выпотрошил антресоли.
В комнатах было и того хуже: все перевернуто вверх дном, диван, кресла и стулья распороты, сорваны подоконники, книги свалены грудой, кое-где выломан паркет и даже обои местами содраны. И над всей этой Хиросимой, залитой ярким электрическим светом, ликующе болботал звонкий голосок с характерной московской протяжкой:
– Привет всему прогрессивному человечеству на волне «Отвязного радио»! Слушаем, премся, отмокаем!
Ника нашел приемник под распоротой подушкой, хотел укрутить звук, но опять вспомнил об отпечатках и вместо этого выдернул штепсель из розетки.
Сразу стало легче, и включилась голова.
Обыск был вечером или ночью – во всяком случае, в темное время суток, иначе зачем свет? Один человек не смог бы столь тщательно прочесать немаленькую квартиру – на кухне вон даже все квадратики линолеума отодраны. Вывод номер два: действовала группа. Искавшие не церемонились – знали, что хозяин не придет. Вывод номер три: вероятнее всего, они его и убили.
Радиостанцию тоже выбрали они. Вряд ли господин Шибякин «перся» от такой музыки. Это они включили, чтоб веселей искалось. Вывод номер четыре: люди молодые, явно не коммунистической генерации. Как там пел капитан Волков? «Дело рук красных дьяволят»?
И еще. Радио включили на полную громкость, не опасаясь, что соседи придут скандалить или вызовут милицию. Уходя, не погасили свет и не заперли дверь. Оно конечно, большого смысла заметать следы не было – хозяин убит, труп рано или поздно опознают, но все же такая наглость впечатляла. Эти люди ничего не боятся! Что они тут выискивали? Нашли или нет?
Прошелся по разгромленным комнатам. Поднял фотографию с разбитым стеклом. На ней был вчерашний посетитель, но только гладкий, упитанный, с довольной улыбкой на круглой физиономии. Рядом стояла женщина: мелкие кудряшки перманента, двойной подбородок, массивные золотые серьги. Одним словом, типичная пара хомо советикусов. В прежние годы в европейской толпе таких было видно издалека – по одежде, по настороженно-жадному выражению лиц. Вымерли, как динозавры. Канули в Лету. Вроде и черт бы с ними, скатертью дорожка, а тоже ведь кусок отечественной истории, живые судьбы.
На разбитом телевизоре тарелка со следами гречневой каши. Ника представил одинокого человека в запущенной – квартире, знававшей лучшие времена: как он стоит над плитой, готовя свой убогий завтрак, и не знает, что это последняя трапеза в его жизни.
Из письменного стола торчали вывороченные ящики, пол вокруг был сплошь засыпан старыми квитанциями, коммунальными книжками, еще какими-то бумажками. Груда старых вырезок из «Правды», рядом канцелярская папка с тесемками – видимо, в ней они и хранились. Николас присел на корточки, зашуршал газетной бумагой. Ничего примечательного – статьи и статейки обычного для советской прессы содержания. Из Гаваны, Ханоя, Дамаска, прочих экзотических мест. И всюду подпись: «И.Шибякин, спец. корр.» или «И.Шибякин, соб. корр.». Тут же копия приказа десятилетней давности об увольнении по сокращению штатов.
Так, ладно.
Пакет с надписью «Люба». В нем фотографии той же женщины, в разных возрастах: с косичками, с косой, с распущенными волосами, с бабеттой, с короткой стрижкой, с химическими кудряшками. Свидетельство о браке. Свидетельство о смерти – хм, оказывается, Шибякин вдовеет уже целых полтора года. Выдержка из истории болезни и копия медицинского заключения на нескольких страницах. Еще анализы, акты, рецепты.
Фандорин вздохнул, почтительно положил пакет на стол. Как грустно видеть обрывки чужой жизни – сломанной, незадавшейся.
Выпрямился. Заметил в углу над телевизором полочку. Никак икона?
Подошел – точно. Новодельная литография: суровый Лик Господень и подпись славянской вязью: «Се, Бог наш суд воздает и воздаст. Исайя, 35:4».
Удивился набожности бывшего корреспондента «Правды» только в первый момент. Потом напомнил себе, что нынешние российские коммунисты совсем не похожи на былых большевиков: ни тебе атеизма, ни интернационализма. Графу Уварову и обер-прокурору Победоносцеву они пришлись бы по душе.
Трогательно было еще и то, что лихие люди, разгромившие квартиру, на пол икону не сбросили. На полке, конечно, пошуровали (Фандорину с высоты двухметрового роста было видно потревоженную пыль), но от кощунства воздержались. Что ж, в России нынче и бандиты все сплошь богомольные – на шее крест носят, церквам колокола дарят. Прямо как в Сицилии.
Однако пора было возвращаться в рамки законопослушности.
Николас набрал номер, обозначенный на карточке оперуполномоченного, и после первого же сигнала в трубке раздался голос капитана:
– Аюшки.
Фандорин суть объяснил коротко, не вдаваясь в дедуктивные подробности, – просто сказал, что установил личность убитого и находится в его квартире, где кто-то уже успел побывать с обыском. Куда многословнее были извинения по поводу незаконного вторжения в жилище гражданина Шибякина. Николас даже честно рассказал, как испугался соседа, но Волкова то ли не заинтересовали эти подробности, то ли он в них не поверил. Так или иначе, претензий предъявлять не стал.
– К черту детали, Николай Александрович. Я еще вчера понял, что вы человек серьезный. Оперативно, ничего не скажешь. Как говорится, снимаю шляпу. Диктуйте адрес и телефон, сейчас подскочу. Я мигом.
В ожидании капитана Николас сначала стоял у окна, потом поднял перевернутый стул, сел. Решил больше ничего не трогать и по комнатам не ходить – и так уже насвоевольничал предостаточно…
Шибякина, пусть он и убийца, было жалко. У человека умерла жена, и он свихнулся от горя – такая любовь поневоле вызывала уважение. Он говорил: тяжелая, неизлечимая болезнь. Какая?
Снова взял в руки пакет с надписью «Люба». В нем тоже порылись, но не слишком старательно – похоже, наскоро перелистали бумажки, да и сунули обратно. Любителей «Отвязного радио» история болезни и смерти мадам Шибякиной не заинтересовала, а для Ники после вчерашнего разговора со вдовцом и просмотренных фотографий эта самая Люба стала реальным, почти знакомым человеком.
Рекламка частной клиники «Клятва Гиппократа» с обведенньм фломастером слоганом «Для нас нет неизлечимых болезней!»; вырезанные из газет и журналов объявления знахарей и целительниц – безмолвная хроника постепенного сошествия в ад. Что же с ней все-таки стряслось?
Николас взял мелко исписанные листки, озаглавленные «Посмертный эпикриз Л. П. Шибякиной 1949 г. р.». Пояснительный подзаголовок:
«Составлен по письменному запросу супруга покойной И. И. Шибякина в дополнение к истории болезни.» Ну и почерк у медиков, нарочно что ли их обучают этой вавилонской клинописи, чтобы не прочли непосвященные?
Многих слов расшифровать не мог, а из тех, что разобрал, половины не понял, там сплошь шли специальные термины. Заболевание Л.П.Шибякиной было не из экзотических – лейкоз. Непосредственной причиной смерти, как сообщалось на третьей странице, стала острая сердечно-легочная недостаточность на фоне двухсторонней пневмонии, как следствия крайнего ослабления организма. Однако на этом записи не кончались. Того же цвета шариковой ручкой, вплотную к финальному «летальный исход наступил в 4.30 утра», было приписано: «Девять дней. Люба, где ты? Сорок дней. Люба, почему ты мне не снишься?»
Фандорин вздрогнул, подошел к окну, чтобы на записи падало больше света.
Это был другой почерк, хоть тоже мелкий и корявый – если не вчитываться, казалось, что продолжается текст медицинского заключения. Еще одна история болезни, теперь уже душевной.
Сострадательно вздыхая, Николас читал скорбный поток сознания. Судя по всему, вдовец делал приписки с интервалами, в разные дни, но поначалу дат не ставил – они появились лишь в самом конце.
«Гады жиреют, а тебя нет. Люба, приснись!!! Люба, я больше не могу. Люба, я сумасшедший, я разбил телевизор, там был гад, он снова врал. Люба, Люба, Люба, Люба, Люба, Люба, Люба, Люба (и так четыре строчки подряд). Сегодня год. Весь день ходил, смотрел, видел тебя три раза: в трамвае, потом в машине и в витрине. Почему уехала, почему растаяла? Приснись, умоляю! 9 июня (число подчеркнуто двумя линиями). Спасибо, Люба! Все понял, все сделаю. Мне отмщение и Аз воздам! 13 августа (подчеркнуто тремя линиями). Я не один!!!»
На этом записи кончались.
В общем, все было ясно. Ровно через год после смерти жены бедному Ивану Ильичу наконец приснилась безмерно обожаемая Люба и, подобно тени отца Гамлета, потребовала возмездия – отомстить за нее и прочих жертв обмана «гадам», которые «жиреют». Ничего удивительного, именно к такому сновидению безумец себя подсознательно и готовил. Главная загадка тут в последней фразе. Что означает:
«Я не один!!!»? Очевидно, то, что у мстителя нашелся единомышленник. Или единомышленники. Кто? Это уж пусть выясняют криминалисты, теперь им и карты в руки.
До конца серой казенной страницы, прочерченной линейками, оставалось пустое место, а между тем в сцепленном скрепкой «эпикризе» имелся еще один листок.
Николас заглянул в него, увидел столбик из слов и цифр.
Стал вчитываться – бумага так и затрепетала в его руках.
О, неведомые погромщики, безразличные к чужим болезням и несчастьям, не из-за этого ли списка устроили вы свой варварский и, кажется, безрезультатный обыск?
СУХОЦКИЙ,
Президент АО «Клятва Гиппократа»
Приговор – 9 июня
Вручено – 11 июня
Исполнено —
ЛЕВАНЯН,
Генеральный директор ООО «Играем и выигрываем»
Приговор – 25 июня
Вручено – 28 июня
Исполнено —
КУЦЕНКО,
Директор АО «Фея Мелузина»
Приговор – 6 июля
Вручено – 6 июля
Исполнено —
ЗАЛЬЦМАН,
Генеральный директор ЗАО «Интермедконсалтинг»
Приговор (указ.) 14 августа
Вручено – 15 августа
Исполнено – 16 августа
ШУХОВ,
Председатель совета директоров агентства «Клондайк»
Приговор (корр.) – 22 августа
Вручено – 23 августа
Исполнено —
ЗЯТЬКОВ,
Б. председатель правления «Честного банка»
Приговор (указ.) – 10 сентября
Вручено – 13 сентября
Исполнено – 19 сентября
ЯСТЫКОВ,
Председатель совета директоров АО «ДДА»
Приговор (указ.) – 11 октября
Вручено – 13 октября
Исполнено —
ФАНДОРИН,
Президент фирмы «Страна советов»
Приговор (корр.) – 8 ноября
Вручено —
Исполнено —
Николас в волнении взъерошил волосы. Ну и документ!
Так, так, спокойно. «Клятва Гиппократа» – понятно. Та самая фирма, которая обещала вылечить больную и обманула. Приговор ее руководителю Сухоцкому вынесен на следующий день после того, как Шибякину приснился роковой сон.
Фирма «Играем и выигрываем» известна всем – зомбирует телезрителей настырной рекламой игровых автоматов, сулит баснословные выигрыши. Явное надувательство, об этом и в газетах пишут.
Про «Фею Мелузину» Николас тоже читал и видел рекламы в глянцевых журналах. Это сеть косметических клиник, которые якобы творят истинные чудеса: возвращают женщинам молодость, делают дурнушек хорошенькими, а хорошеньких превращают в ослепительных красавиц – разумеется, за сумасшедшие деньги. Естественно, с точки зрения Шибякина глава этого широко разрекламированного предприятия – явный «гад и обманщик».
Про Зальцмана рассказывал капитан Волков – это бизнесмен, которого взорвали на даче. «Интермедконсалтинг»? Ну понятно, понятно.
«Клондайк» – агентство по трудоустройству за рубежом, обвесило рекламными щитами и баннерами все автострады. Панама? Вполне возможно. В этой сфере предпринимательства аферистов сколько угодно.
Зятьков из «Честного банка». За истребление этого деятеля многие обманутые вкладчики, наверное, поаплодировали бы «мстителям», если б не взорванные в машине дети.
«ДДА» – это круглосуточные аптеки «Добрый доктор Айболит». Сеть развернулась недавно, первый опыт создания в России чего-то вроде американских драгсторов: и аптека и кафетерий. Очень удобно и современно. Чем аптеки-то Шибякину не угодили?
Ну и, наконец, последний фигурант списка, чья судьба занимала Николаса больше всего. Как попал в эту камеру смертников, догадаться нетрудно – спасибо шикарной рекламе в «Эроссе». Что ожидает президента фирмы «Страна советов» дальше, вот в чем вопрос.
Впрочем, при повторном чтении интригующего документа вопросов возникало много. Почему, начиная с четвертого приговора после слова «приговор» появляются скобки, а в них или «указ.», или «корр.»? Что значат эти сокращения? Почему приговоры Сухоцкому, Леваняну и Куценко, по времени самые ранние, не исполнены до сих пор, а Зальцман и Зятьков казнены без промедления? Животрепещущий вопрос: считается ли у «Неуловимых», что Фандорину приговор уже вручен, или нет?
Николас прижался лбом к холодному стеклу, рассеянно глянул вниз и увидел, как у бровки останавливается «жигуленок» с мигалкой.
Милиция! Наконец-то!
Из машины вылез оперуполномоченный Волков. Задрав голову, посмотрел на дом. Что это он один – без экспертов, без фотографа? Странно.
Капитан достал телефон, стал набирать номер.
Ах да, он же не знает кода. Должно быть, звонит сюда, в квартиру.
Фандорин осмотрелся, чтобы найти аппарат, и увидел, что тот валяется на полу, разобранный на части. Умники даже туда залезли, а прочитать бумаги не удосужились.
Нужно было спускаться вниз. Даже если бы телефон и работал, подъездного кода Николас все равно не знал.
Не выпуская из рук драгоценного листка, он вышел на лестницу.
Пока ждал лифта, думал: в списке многое непонятно, но главное – теперь милиция будет знать, на кого идет охота. А значит, будем надеяться, сумеет их защитить.
К двери подъезда они с Волковым подошли почти одновременно, только Николас изнутри, а оперуполномоченный снаружи.
Где-то тут должна была находиться кнопка, открывающая замок. Лампочка не горела, и Фандорин стал шарить ладонью по стене.
Хотел крикнуть: «Сейчас, минутку!»
Не крикнул.
Сквозь тонированное стекло (очевидно, остатки былой номенклатурной роскоши) было видно, как капитан, глянув в маленький блокнотик, уверенно тыкает пальцем в кнопочную панель.
Знает код? Но откуда?! Дверь открылась внутрь, загородив остолбеневшего магистра створкой. Не заметив Фандорина, капитан прошел мимо и легко взбежал по ступенькам к лифту. Окликать его Николас не стал. Подождал, пока лифт уедет, и опрометью выскочил из подъезда.
С места газанул так, что чуть не поперхнулся двигатель.
Хорошие дела! Ай да оперуполномоченный! Раз знал код, то, выходит, и адрес знал. Зачем тогда прикидывался?
Вывод напрашивался нехороший. Уж не заодно ли господин Волков с ночными посетителями квартиры № 36? Не связан ли он с убийцами сумасшедшего Ивана Ильича?
А что, если он вообще никакой не милиционер? Может, он убийца и есть. Потому и приехал сюда один. Чтоб исполнить приговор над предпринимателем Н.А.Фандориным, а?
Но милицейский «жигуленок»? Служебный телефон на карточке?
Вождение автомобиля в городе Москве – отличная психотерапия, лучше любого транквилизатора снимает нервный стресс, вытесняя его другим, менее острым и привычным. Поневоле отвлекаешься от любых, даже самых тревожных мыслей, когда нужно все время вертеть головой, следя не столько за соблюдением правил, сколько за соседними машинами, и автоматически концентрируя внимание на опасных особях – джипах и «мерседесах», имеющих обыкновение перестраиваться из ряда в ряд рывком, без сигналов.
Снова, как каждый день, произошло обыкновенное чудо, маленький триумф счастливых случайностей – Николас доехал до офиса без аварий.
Велел Вале (у которой нынче была жизнь в розовом свете) ни с кем не соединять, заперся в кабинете и положил перед собой похищенный листок.
Поездка по автодорожным джунглям пошла Фандорину на пользу. Вернулась способность спокойно размышлять.
Итак, пока факты, без гипотез.
Первое. Ненависть «Неуловимых мстителей» (глупое название, но пусть пока остается за неимением другого) вызывают две категории предпринимателей: бизнесмены от медицины и поставщики особенно агрессивной и предположительно лживой рекламы.
Второе. 13 августа Шибякин обнаруживает, что он «не один», и сразу же начинаются убийства. Очевидно, его сообщник или сообщники – люди дела и к тому же обладают профессиональными террористическими навыками. Как-то не очень сочетается с инфантильной мотивацией смертных приговоров. «Гад и обманщик»? Детский сад какой-то.
Или психлечебница. Хотя двусмысленный капитан Волков, конечно, прав: в сегодняшней России с оружием и взрывчаткой умеют обращаться многие, и среди них сколько угодно явных и неочевидных психов, жертв афганского и чеченского синдромов.
Наконец, факт третий и главный. Убито шесть человек. Пятеро – жертвы террора: взорванный на даче Зальцман, потом Зятьков с двумя детьми и шофером. Шестой – один из «мстителей», сброшенный кем-то с крыши.
Теперь сформулируем самые существенные вопросы, возникающие в связи с вышеизложенным, и попробуем найти ответ на каждый.
Существенных вопросов обнаруживается ровным счетом три.
Первый – личный. Успел ли Шибякин известить своего сообщника (или сообщников) о приговоре, вынесенном владельцу «Страны советов»? Не станем скрывать, что этот вопрос из трех занимает нас больше всего.
Вопрос второй, детективный. Кто убил Шибякина и какую роль в этой истории играет Волков?
Вопрос третий, гуманитарный. Как предупредить остальных приговоренных об угрожающей им опасности, если милиции доверять нельзя?
Ах, какая замечательная, духоподъемная штука – системный подход! Любая головоломная ситуация, если разобрать ее на компоненты, оказывается не такой уж сложной и вполне разрешимой, так что не врет реклама «Страны советов». Зря, господа мстители, вы включили Николаса Фандорина в число «гадов и обманщиков»!
Постойте, постойте. Но ведь, уходя, Шибякин сказал: «Суд удаляется на совещание»! Не значит ли это, что утверждение приговора было отложено? А обсуждения состояться не могло, потому что вскоре после отбытия из офиса 13-а «судья» на себе проверил, с каким ускорением движется к земле свободно падающее тело.
От неимоверного облегчения, знакомого, вероятно, лишь тем немногим людям, кто был приговорен к смерти, а потом помилован, Николас даже замурлыкал оптимистичную песню с компакт-диска «Хиты советской эстрады»: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». И сразу вспомнил про Достоевского – как тому заменили расстрел каторжными работами, и он в сыром каземате Алексеевского равелина громко распевал от счастья.
Теперь и про детективную составляющую головоломки думать стало легче. Точного ответа, конечно, не вычислишь – слишком мало фактов, но более или менее правдоподобную гипотезу вывести можно. Например, такую. Кто-то из получивших приговор (Зятьков, Зальцман и сам Николас исключаются, стало быть один из пятерых остальных), вопреки предположениям капитана Волкова, отнесся к этой бумажке серьезно и принял меры предосторожности. Этот «кто-то» не только гад и обманщик, но еще и криминальный тип, который привык себя защищать. Провел собственное расследование, каким-то образом вычислил Шибякина и рассчитался с ним по-своему. Очень вероятно, что в поисках ему помогал капитан Волков, член оперативно-следственной группы по делу «Неуловимых мстителей». По нынешним временам ничего экзотического в сотрудничестве милиционера с бандитами, увы, нет. Впрочем, чума на них на всех. Пусть разбираются в своих делишках сами.
И последний вопрос, гуманитарный. Нужно известить пятерых приговоренных об угрожающей им опасности. Если дедуктивная гипотеза верна, один из них и так это знает, ну а остальные?
А вот теперь, когда вопросы сформулированы и на каждый нашелся ответ, можно было действовать.
Первым делом Николас позвонил оперуполномоченному. Сухо извинился, что не смог дождаться – возникло срочное дело. Волков держался гораздо уважительней, чем вчера. Похоже, быстрота, с которой глава фирмы «Страна советов» установил личность убитого, произвела на капитана сильное впечатление. На «ты» переходить не пытался, лишних вопросов не задавал и даже поблагодарил за помощь следствию, лицемер. Никакой он, разумеется, не киллер, а просто нечист на руку. Из-за таких, как он, милиционеров и обзывают «мусорами» – еще со времен МУСа, Московского Уголовного Сыска.
Затем Фандорин позвал Валю и велел ей узнать адреса компаний «Клятва Гиппократа», «Играем и выигрываем», «Фея Мелузина», «Клондайк» и «Добрый доктор Айболит». На это понадобилось десять минут, в течение которых расторопная Валентина успела заодно добыть номера телефонов и факсов руководства.
– Только с «Клятвой Гиппократа» абзац, – сообщила она Нике, поправляя кожаный ремешок на лбу (Валя сегодня была в обличье индейской скво: две косички, расшитая бусами куртка, замшевые рейтузы с бахромой, ручной работы мокасины). – Лавочку прикрыли. Их вождь отъехал за большую воду.
– Убит?! – ахнул Фандорин, зная, что на сленге глагол «отъехать» означает «умереть».
– Да нет, реально отъехал. Кинул всех и нажал на искейп. Еще летом. То ли в Америке колбасится, то ли на Багамах.
Уж не приговора ли напугался, подумал Николас. Или, может быть, господину Сухоцкому просто повезло: вовремя сбежал и тем спас себе жизнь.
Остальным четверым Фандорин написал письмо следующего содержания:
«Уважаемый г-н (Леванян, Куценко, Шухов, Ястыков),
(Такого-то числа) Вы получили странный документ, в котором неизвестные лица объявляли Вам смертный приговор. Скорее всего Вы отнеслись к этой бумажке как к чьей-то глупой шутке. Но, смею Вас уверить, эти люди не шутят. Двое предпринимателей, которым были присланы аналогичные извещения, уже убиты. За подтверждением можете обратиться в 16 отдел Московского уголовного розыска. И в любом случае настоятельно советую: примите самые серьезные меры безопасности.
Прошу извинить за то, что не подписываюсь».
Вовсе ни к чему, чтобы эти господа бросились в «Страну советов» за разъяснениями. Недаром покойный Шибякин квалифицировал их как «гадов и обманщиков». Еще, не дай Бог, вообразят, что Николас Фандорин занимается вымогательством. К тому же, не будем забывать, один из них, кажется, без большого пиетета относится к неприкосновенности чужих жизней и жилищ.
Поручил Вале отправить письма по факсу, предварительно убрав из установок аппарата номер отправителя и лого «Strana Sovetov».
– Шеф, – сказала ассистентка, исполнив задание – единственное за весь рабочий день. – Что это у вас глаза такие диззи, будто вы в нирване? Я тоже туда хочу. Пригласили бы офис-леди куда-нибудь оттянуться. Нет, вирклих. Есть суперный ресторан-клуб, «Холестерин». Полный фьюжн, вам понравится. А на афтерпарти можно упасть в «Крысолова». Вы же свободный человек – МэМэ ваша в Ленинбурге.
– Не смей называть мою жену МэМэ, – в который уже раз – сказал Фандорин. «МэМэ» было аббревиатурой от «мадам Мамаева», а что такое «полный фьюжн», он понятия не имел.
Но настроение после отмены приглашения на казнь было приподнятое и слегка истеричное. Оттянуться так оттянуться, почему бы и нет? Все равно сегодня на камер-секретаре сосредоточиться уже не удастся.
Договорились встретиться в одиннадцать – после того, как зверята, проглотив вечернюю сказку, уснут, – и оба стали звонить: Валя в «Холестерин», заказывать столик, а Ника – бэйбиситтеру Лидии Петровне, чтоб пришла ночевать.
Потом окрыленная Валя отправилась домой прихорашиваться, а Фандорин еще некоторое время оставался в офисе, расхаживая по кабинету и убеждая себя, что все утряслось, что хаос лишь обдул ему лицо своим жарким дыханием, но не испепелил и даже не обжег. Пронесло, жизнь вернулась в нормальное русло.
Может, конечно, все было совсем не так, но что еще он мог предпринять? Делай, что должно, а там будь, что будет.
Нельзя ведь каждую секунду жизни трястись, что с тобой может произойти беда: упадет кирпич, или за рулем встречной машины уснет водитель, или в кафе, куда ты вошел выпить чашку эспрессо, взорвется портфель с взрывчаткой. Когда-нибудь беда непременно произойдет, никуда от нее не денешься. Ну, не портфель с взрывчаткой, так опухоль или тромб (неизвестно еще, что хуже), но тут уж одно из двух: или трястись, или жить. Иди своей дорогой и надейся, что она еще не скоро заведет тебя в разинутую пасть Несчастья.
Буду надеяться, решил Ника. Очень-очень надеяться на то, что приговор не утвержден и не попал к исполнителю.
И еще на то, что остальные приговоренные отнесутся к предупреждению всерьез.
Перед уходом он по привычке подошел к окну и посмотрел на вечерний город. Огни, блестящие от дождя крыши, близорукий глаз луны, светящийся сквозь туман.
Когда мир так спокоен и мудр, кажется, что и бояться нечего. Подумаешь, смерть. Если повезет, она будет быстрой и не очень страшной. Что такое хэппи-энд в сказке про любовь? Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Так может, расфилософствовался Николас, такая смерть и есть подлинное, окончательное счастье? Будем шагать по небу, взявшись за руки, к источнику этого безмятежного света, чтобы вот так же уплывал вверх вечерний туман, и широкие просторы, залитые спокойным светом луны, расстилались перед нами, не омраченные тенью новой разлуки.
Глава восьмая
Преступления любви, или Безумства страстей
Но небо было темным и беспощадным, а луна затаилась за рыхлыми тучами, будто не желая манить изгнанника тщетной надеждой на спасение, и укрыться от неистовства слепой стихии было негде.
Замерзающему Митридату оставалось прибегнуть к самому последнему средству мужественного рассудка – к философии. Сколь стремительно произошло падение из заоблачных высот, от самого подножия престола, в темную и хладную бездну, подивился он вчуже. Хотя чему ж удивляться? И из физики известно: тело поднимается вверх куда трудней и медленней, нежели падает вниз. Нет ничего естественней падения, которое есть стремленье припасть к груди матери-земли. И гибель, уготованная каждому, тоже падение. Но такое, которое, с точки зрения религии, обращается взлетом.
Мамочки, как же холодно!
На площади горело несколько костров, вокруг которых теснились кучера и лакеи, дожидавшиеся господ. Митя кинулся было к ближайшему источнику тепла, но, услышав грубый хохот челяди, замер. Чем неделикатнее у человека душа и приниженней положение, тем черствее и немилосердней он к ближним. Прогонят, опять прогонят! Еще одно такое испытание, и можно навсегда лишиться любви и решпекта к человеческому роду, а для чего тогда жить? Лучше уж закоченеть под ветром и снегом!
Тем более что коченеть вовсе необязательно.
Подкрепленный философией разум очнулся и явил-таки свою чудодейственную силу.
Вон сколько на площади карет. Забраться в какую-нибудь, чтоб слуги не видели, да и дождаться разъезда. А там уж как повезет. Чья бы ни оказалась карета, с ее владельцем, благородным дворянином, объясниться будет проще, чем с плебеем. Довольно сказать по-французски: «Умоляю, выслушайте меня!» – и уже будет ясно, что маленький оборвыш не обычный попрошайка.
Митя нырнул в проход меж двумя длинными шеренгами экипажей, выбирая себе убежище. Лошади стояли, позвякивая сбруей, хрупали овсом из подвешенных к мордам торб, зима им была нипочем. Подумалось: насколько же человек по своей физической натуре ниже и несовершенней скотов, коими мы помыкаем и коих презираем.
Наконец выбрал щегольскую семистекольную карету с княжеской короной на дверце. Может, кто-нибудь из ближнего государынина круга? Тогда, вполне возможно, что и Митридата видел.
Уже залез на ступеньку, потянул дверцу и вдруг увидел, что в большом дормезе, стоявшем по соседству, из трубы вьется белый дымок. Зимний экипаж, с обогревом! Вот куда бы забиться!
Высунулся из-за конского крупа, посмотрел на костер, до которого было не более десяти шагов. Ничего, там светло, а тут темень, не заметят.
Перебежал к дормезу. Встал на подножку, осторожно заглянул внутрь – не греется ли кучер.
В карете было пусто – должно быть, слугам сидеть внутри не дозволялось, а может, у костра в компании веселей.
Секунда – и Митя оказался внутри, в блаженном тепле.
Там было темно и тихо, в печке постреливали уголья, окна до половины запотели. О, сколь немного нужно, чтобы бытие из несчастья обратилось блаженством! Всего-то прижаться озябшим телом к горячему чугунному боку, и боле ничего, совсем ничего.
Митя обнял печку обеими руками, поджал ноги в сырых лаптях, накрылся с головой лежавшим на сиденье меховым одеялом и уже ни о чем не думал, просто наслаждался сухостью и теплом.
Проснулся он от звонкого голоса, крикнувшего:
– Скорей! Гони!
В первое мгновение не понял, отчего это мир качается. Потом услышал скрежет полозьев по присыпанным снегом булыжникам и вспомнил: дормез.
С трепетом приподнял край одеяла. На переднем сиденье кто-то был. В темноте не разглядеть, кто, но слышалось частое взволнованное дыхание.
Вот седок выпрямился, и на сером фоне переднего окошка обрисовался капор с лентами. Значит, женщина. Это хорошо, ибо прекрасный пол милосердней мужского и менее склонен к скоропалительному насилию – например, к тому, чтобы без лишних разговоров выкинуть незваного гостя вон.
Однако же крепок был сон! Митя не слышал, ни как карету подгоняли к подъезду, ни как садилась владелица.
Та вдруг дернулась, застучала перстнем в стекло. Громко крикнула:
– Не на Морскую! Домой нельзя!
Голос молодой.
Видно, кучер не расслышал, потому что дама щелкнула задвижкой, приоткрыла окно и сквозь завывание ветра повторила:
– Не домой! На Московский тракт гони!
Опустила окно, пробормотала:
– Господи, Твоя воля, спаси и сохрани…
Не иначе что-то у ней стряслось. Вон как вздыхает, даже всхлипывает. Хорошо это или нет? Скорей, плохо. Когда у тебя что-то болит, не до сострадания к чужим бедам.
Жалко, не видно, какое у нее лицо, злое или доброе.
Он терзался сомнением – объявить себя или подождать, пока хозяйка кареты немножко успокоится. Она же все не успокаивалась, шептала что-то тревожное, ерзала.
Внезапно порывисто поднялась, встала коленом на заднее сиденье, в двух вершках от Мити, и сдернула с него мех.
Он уж приготовился воскликнуть: «Ayez pitie, madame![8]» – но она, оказывается, его не видела.
Подергала задвижку задней рамы, открыла, стала совать одеяло в окно.
– Дорога будет дальняя. Нате вот, укройтесь.
Откликнулись два голоса, мужские:
– Благодарствуйте, барыня.
– Еще бы водочки для сугреву.
Дама пообещала:
– На первой станции получите.
Митя времени не терял. Пока она вьюгу перекрикивала, тихонько соскользнул на пол, забился под сиденье. Известно: когда не знаешь, какое принять решение, выжди.
Хлопнула рама, пружины над Митиной головой заскрипели – женщина решила устроиться сзади. И правильно. Если далеко ехать, сзади лучше, не то укачает.
Чиркнул кремень, звякнуло стекло, по полу закачались тени. Это она подпотолочный фонарь зажгла.
Перед носом у него стояли две ноги в белых туфельках. Левый башмачок уперся в твоего собрата, скинул его на пол, высвободившаяся нога в шелковом чулке таким же манером расправилась с левым, и туфельки осиротели, остались сами по себе – дама забралась на сиденье с ногами.
Один башмачок отлетел к Мите, в его жесткое, пыльное убежище, и лежал прямо перед глазами, посверкивая золотым каблучком, – гость из иного мира, где царствуют красота и изящество.
Тряска кончилась, возок заскользил ровно, будто лодочка по воде. Это кончилась мощеная дорога, догадался Митя. Скоро и городу конец.
Куда едем-то? Сказала, «не домой, на Московский тракт». Дача у нее там, что ли, по Московскому тракту, или имение?
Сверху доносилось пошмыгивание и короткие судорожные вдохи. Плачет.
По временам дама начинала причитать, но тихонько, слышно было только отдельные слова: «Некому, совсем некому… Что же это, Господи… Как бы не так» – и прочее подобное, невнятного смысла.
Поплакав вволю, высморкалась, пробормотала:
– Зябко-то как.
Что правда то правда. Без мехового одеяла и на отдалении от печки Митя тоже подмерз.
Снова спустились ноги в шелковых чулках, маленькие, с точеными щиколотками. Левая сразу нырнула в туфельку, правая пошарила по полу – не нашла. Тогда спустилась полная рука, полезла под скамью, на пухлом пальчике блеснул перстень.
А ведь было это уже, было. Точно так же жался Митя к пыльной стенке, и тянулась к нему рука, но тогда было ох как страшно, а сейчас ничего, пустяки. И пришло Митридату на ум философское суждение, хоть записывай на пользу потомству: умный человек не пугается одного и того же дважды.
Он подпихнул беглый башмачок навстречу руке, но вышел казус – та как раз и сама проявила решительность, сунулась под сиденье глубже. Ну и наткнулась на Митины пальцы.
Дальше ясно: визг, крик.
И ноги, и рука из Митиного обзора исчезли.
Надо было поспешать, пока она своих запятных не кликнула.
Закряхтев, он выполз из укрытия, поднялся на четвереньки. Уж и фраза была готова, весьма разумная и учтивая: «Сударыня, не трепещите – воззрите, сколь я мал. Я сам вас трепещу и уповаю единственно на ваше милосердие».
А только застряли слова в горле. На сиденье, подобрав ноги, прижав к груди руки, вытаращив и без того огромные глаза, сидела Павлина Аникитишна Хавронская – та самая особа, из-за которой, если восстановить логическую цепь, и начались все Митины злосчастья.
Вблизи она оказалась еще красивей, хотя, казалось бы, красивей уж и некуда. Но только вот так, в упор, можно было увидеть голубую жилку на шее, персиковый пушок на щеках и славную родинку повыше розовой губки.
Узрев перед собой весьма небольшого мальчишечку, графиня кричать сразу перестала.
– Это ты там сидел? – спросила она дрожащим голосом. – Или там еще кто?
Дар слова, вспугнутый неожиданностью, еще не вернулся к Митридату, и он лишь помотал головой.
– Да ты совсем малютка, – сказала прекрасная Павлина Аникитишна, окончательно успокоившись. – Ты как туда попал?
Ответить на этот вопрос коротко не представлялось возможным, и Митя заколебался: с чего уместней начать?
– Маленький какой. Говорить-то умеешь?
Он кивнул, подумав: наверное, лучше вначале объяснить про наряд мужичка-лесовичка.
– Деточка, малявочка, глазоньки-то какие ясные. А ну не бойся, тетенька добрая, не обидит. Кой тебе годик, знаешь? А звать тебя как? Ну уж это-то знаешь, вон какие мы больсие. Больсие-пребольсие. Замерз? Иди сюда, иди.
Женщина она, похоже, и вправду была добрая, жалостливая. Погладила Митридата по голове, обняла, в лоб поцеловала.
Будучи прижат к упругой, теплой груди, он вдруг подумал: а ведь если б я ей стал по-взрослому говорить, она бы меня этак вот голубить не стала.
И явилось Мите в сей момент озарение.
Отчего все его беды, отчего несчастья? Оттого что разумен и учен не по годам, затеял рядиться со взрослыми по их взрослым правилам. Если б не умничал, проживал в соответствии со своими летами, то обретался бы ныне в отчем доме и – горя б не знал. Какой из сего вывод? А такой, почтенные господа, что неразумным дитятей быть проще, выгодней и намного безопаснее.
И когда графиня повторила свой вопрос:
– Ну, как нас зовут? Припомнил?
Он сказал, нарочно присюсюкивая по-младенчески:
– Митюса.
Был вознагражден новыми поцелуями.
– Вот молодец, вот умничка! А годик нам какой?
Решил один убавить, для верности. Показал растопыренную пятерню.
– Пять годочков? – восхитилась красавица. – Ай, какие мы больсюсие! И все-то мы знаем! А тятенька-маменька где?
С ответом на этом вопрос было труднее. Митя наморщил лоб, соображая, как лучше сказать.
Павлина Аникитишна соболезнующе вздохнула:
– Ишь, лобик насупил. Бедненький сиротинушка. А с кем жил? С бабусенькой?
Митя кивнул.
– Где ж она, твоя бабусенька?
Сказать, что ли: «В Зимнем дворце», засомневался Митя.
Не стоит. Во-первых, не поверит. А во-вторых, сейчас, пожалуй, чем далее от Зимнего дворца, тем здоровее.
Госпожа Хавронская – женщина добросердечная, малютку на мороз не выгонит. Переждать бы у нее хоть малое время, собраться с мыслями.
Она опять истолковала его молчание по-своему:
– Ой, померла, что ли? Рыбанька мой сладенький. – И на Митину макушку, где белая прядка, упала большая слеза. Хорошо графиня в полумраке седины не приметила, а то вовсе бы разрыдалась от сострадательности сердца.
– У тебя есть кто-нибудь, Митюшенька? – спросила Павлина Аникитишна пригорюнясь.
Он помотал головой.
– И у меня никого, – грустно сказала она. – Это ничего. Сначала трудно, но после обвыкаешься. А ты не горюй, я тебя с собой возьму.
– Куда?
– В Москву. Поедешь?
Не может быть! Какая небывалая, невероятная удача! Попасть в Москву, а оттуда домой, к папеньке и маменьке! Воистину то был перст судьбы, которой наконец прискучили гонения на маленького Митридата, и она решила объявить ему полное помилование.
– Не знаешь, что такое Москва? Это большой-пребольшой город, еще больше Петербурга. И лучше. Там люди проще, добрее. Снегу много, все на санках ездят, с ледяных горок катаются. Поедешь со мной в Москву?
– Поеду.
– «Поеду», – повторила красавица тоненьким голоском и ласково улыбнулась. – Вот и славно. У меня там дядя живет. А вместе ехать много веселей. – Тут она вздохнула, куда как невесело. – Я, Митенька, наскоро собралась. Можно сказать, вовсе не собиралась. Еду в чем на балу была.
Он увидел, что так оно и есть. Под распахнутой собольей шубой белело маскарадное платье, а из-под капора свисали длинные русалочьи волосы, в которых все еще зеленели кувшинки.
– Зачем насколо? – осторожно поинтересовался Митридат. – А взять валенотьки, иглуськи?
– «Игрушки», – грустно усмехнулась она. – Тут, сладенький мой, самой бы игрушкой не стать. – И прибавила уж не Мите, а себе. – Ничего, Платон Александрович, милости прошу. Пожалуйте, гостьюшка дорогой. Птичка улетела. И шпионам вашим невдомек, куда.
Так-так. Из сей реплики можно было заключить, что светлейший князь и без Митридата нашел средство сообщить предмету обожания о своем плане явиться к ней нынче же ночью вопреки любым стенам и замкам. Вот Хавронская и решила бежать прямо с маскарада, даже не заехала домой, где у Фаворита наверняка подкупленные соглядатаи.
– Ничего. – Павлина Аникитишна усадила Митю рядом, обняла за плечо. – Покатимся с тобой, как Колобок. Через поля, через леса. Никто нас не догонит. Знаешь сказку про Колобка? Нет? Ну, слушай.
Что ж, от такой богини можно было и повесть про Колобка стерпеть.
Мчали без остановки полночи, до самой Любани. Митя послушал и про Колобка, и про Серого Волка, и про Бову-королевича. Под ласковый, неспешный голос рассказчицы отлично размышлялось. О превратностях судьбы и о том, насколько женщины лучше мужчин.
Голову он положил на мягкие графинины колени, шелковые пальцы перебирали ему волосы. Подумалось с отрадным злорадством: князь Руров поди тоже хотел бы этак понежиться, никаких денег бы не пожалел, а только кукиш ему, хоть он и всемогущий Фаворит.
На почтовой станции в дворянский нумер осовевшего Митю снес на руках лакей Левонтий. Потом Левонтий с другим лакеем, Фомой, и кучером Тоуко пошли отогреваться водкой, а Митя помог графине раздеться (горничной-то у нее не было). Она его тоже раздела, и они, крепко обнявшись, проспали до рассвета на скрипучей кровати. Хоть ложе было жестким, а минувший день ужасным, сон Митридату приснился хороший, про Золотой Век. Будто бы наука овладела искусством сотворения полноценного гомункула и надобность в грубой половине человечества отпала. Мужчины все повывелись, и по зеленым лугам бродят украшенные венками женщины и девы в белых хитонах. Нет более ни войн, ни разбоя, ни мордобития. К женщинам ластятся лани и жирафы, ибо никто на диких зверей не охотится, а коровы смотрят без грусти, потому что никто их в бойнях не режет. Известно ведь, что женщины не большие любительницы мяса, им милей овощи, травы, плоды.
Утром Павлина усадила Митю на малый чугунок и сама присела рядом, на чугунок побольше. Залившись краской, Митридат отвернулся и от смущения не смог откликнуться на зов природы. Графиня же звонко журчала, одновременно успевая вычесывать из волос остатние кувшинки, глядеться в зеркальце и приговаривать:
– Ничего, ничего, утро вечера мудреней. Что ночью страх, то утром прах. Ой, бледна-то, бледна! Ужас!
И ничего она была не бледна, свежей свежего. Просто свет из окна лился еще ранний, серый.
Настроение у Павлины нынче было не в пример лучше вчерашнего. Одевая Митю, она напевала по-французски, щекотала его за бока, смеялась. Но потом, когда он чесал ей волосы и помогал уложить их в обильный пук, графиня вдруг петь перестала, и он увидел в зеркале, что глаза у нее мокрые и часто-часто мигают. Что случилось? Про Зурова вспомнила?
Нет, не то.
Хавронская порывисто обернулась, обхватила Митю, прижала к груди. Всхлипнула:
– Пять годочков. У меня мог бы быть такой сыночка…
И давай носом шмыгать. Удивительные все-таки существа женщины!
Перед тем как ехать дальше, отправились в лавку для путешествующих, экипироваться. Себе Павлина купила только полдюжины сорочек и бутылочку кельнской воды, а Митю утеплила как следует: и тулупчик, и валенки, и собачьи варежки. На голову ему достался девчонский пуховый платок. Митя как мог являл протест на своем скудном младенческом наречии, хотел баранью шапку, но графиня была непреклонна. Сказала: «В этой шапке мильон блох. Потерпи, солнышко. В Москве я тебя как куколку одену».
Нарядила и слуг. Кроме теплой одежды купила им оружие от разбойников: Левонтию и Фоме по сабле, чухонцу-кучеру ружье. Понравился ей английский дорожный пистолет – маленький, с инкрустированной рукояткой, тоже купила.
– Ну вот, – сказала, – Митюнечка. Видишь, какие мы с тобой вояки? Теперь нам никто не страшен.
Отдохнувшая шестерка лошадей дружно затопотала по подмерзшей за ночь дороге, и дормез, попыхивая дымом из трубы, покатил на юго-восток.
Позавтракали на ходу, пирожками и подогретым на печке молоком. Мите все не давали покоя утренние слезы его прекрасной покровительницы. Помнится, государыня сказала ей: «Пять лет вдовствуешь». Что же случилось с ее супругом и что он был такое?
– Пася, – осторожно начал Митридат (это она так велела ее называть – просто «Паша», по-детскому выходило «Пася»), – а де твой дядя?
В смысле, где твой муж. Но она поняла не так.
– Мой дядя в Москве, он там губернатор. Губернатор – это такой важный-преважный человек, которого все-все должны слушаться.
Ладно, попробуем в лоб.
– Пася, а у тебя муз есть?
Спросил и перепугался. Не слишком ли для пятилетнего недоумка?
Ничего, она только засмеялась.
– Ух, какой галант. Жениться на мне хочешь? Вот вырастешь, поженимся. – И погрустнела. – Как раз и я к тому времени сердцем оттаю.
Тут она замолчала и молчала долго, глядя в окошко на белые поля и черные деревья. Митя решил не донимать ее расспросами, даже успел задуматься о другом. Что если на зимнее время тракт между Москвой и Петербургом водой заливать? Ну, пускай не весь, а только по краю. Тогда кто захочет, сможет путешествовать на коньках с замечательной скоростью, простотой и дешевизной. Грузы же – те везти по-обычному, на лошадях. Или того лучше: положить гладкий железный либо медный лист, и тогда по нему можно гонять в любое время года безо всякой тряски. А если не лист, который выйдет больно дорог, а просто…
Но додумать интересную мысль до конца не успел, потому что Павлина вдруг заговорила снова. Это уж далеко за полдень было, когда Чудово проехали.
– Вот я тебе, Митюнечка, давеча сказки рассказывала. Помнишь?
Он кивнул.
– Хочешь еще одну расскажу?
Законы учтивости требовали ответить утвердительно.
– Хотю.
– Ну, слушай. Жила-была Марья-царевна… Ну, царевна не царевна, а боярышня. (Это она, кажется, про себя, догадался Митя и стал слушать внимательно.) Жила она с батюшкой, матушки у нее сызмальства не было. Да и батюшку видала она нечасто – он все воевал, плавал по морям, бился с Чудой Юдой-Рыбой Кит, чтоб не притесняла хрестьянские народы. (Значит, отец ее был моряк и сражался с турками. Так-так.) И вот в один прекрасный, а верней сказать, ужасный… Ну, то есть это она тогда решила, что ужасный, а потом-то оказалось… Хотя что ж, и ужасный, конечно… – Павлина Аникитишна здесь сама запуталась, какой это был день, прекрасный или ужасный, распутаться не смогла и махнула рукой, стала дальше рассказывать. – В общем, однажды прискакал к ней в терем витязь, старый товарищ ее батюшки, и говорит: «Плачь, красна-девица, помер твой родитель, велел тебе долго жить и счастливой быть, а перед смертью вверил тебя моей заботе, чтоб никому тебя в обиду не давал и хорошего жениха тебе нашел». (Ага, это отец перед смертью своего боевого друга ей в опекуны назначил. Что ж, обычное дело.) Поплакала она, конечно, поубивалась, да делать нечего, стала дальше жить, а витязь этот до поры с ней остался. Очень он ей сначала не понравился. Сухой, тощий, нос крючком – прямо Кащей Бессмертный, так она его про себя называла. Он тоже немало поплавал по морям, всякого на свете навидался, в разных землях со своими кораблями побывал. (Не «кораблем» – «кораблями». Стало быть, не простой офицер, а адмирал.) Как начнет рассказывать – заслушаешься. Понемножку привыкла она к Кащею, перестала его бояться, подружилась с ним. И когда он ей руку и сердце предложил – ну, это так говорят, если кто на девице пожениться захочет – она подумала: что ж, человек он добрый, умный, с царским семейством в родстве, и батюшка его любил. Лучше, чем с молодым дурачком венчаться, который еще не перебесился. Ну и согласилась. (Вот почему царица ее «свойственницей» называла – графиня Хавронская она по мужу, а Хавронские, всякий знает, императорскому дому родня.) И не пожалела. Жила, как при покойном батюшке, даже краше, потому что Кащей ее еще больше баловал, ничего для нее не жалел. Старые мужчины, они на любовь умнее молодых и знают, как женскому сердцу угодить. Ты для него разом и жена, и дочка, чем плохо? Только вот матерью стать Марья-царевна не поспела… Уплыл Кащей воевать в холодные моря, угодил в ужасную бурю и сгинул вместе с кораблем. Она его долго ждала, думала вернется, ведь он же бессмертный. Да, видно, переломилась иголка, не стало Кащея…
Графиня тяжко завздыхала, а Митя тем временем прикинул: вдовствует она пять лет; тогда две войны было, с турками и со шведами, но раз «холодные моря», значит, адмирал Хавронский действовал против флота короля Густава III, там и голову сложил. Ясно.
– Жалела себя Марья – страсть. Думала, ах я несчастная, и баба я не баба, и девка не девка. Одна-одинешенька, прислониться не к кому. А потом, как подросла и умнее стала, рассудила: зачем прислоняться-то? Слава Богу, не бедна, не больна, умом не скудна. Ну их, мужчин, вовсе. От них одна докука да слезы. Поглядишь вокруг – один над женой тиранствует, другой на нее вовсе не глядит. А случится чудо, попадется непропащий человек, кого полюбить можно, так беспременно пойдет воевать и сгинет там, разобьет тебе бедное сердце. Нет, право, одной куда веселей. – Павлина улыбнулась и потрепала Мите волосы. – Ишь, глазыньками хлопает, соображает. Что, скучна сказка? Я тебе сейчас другую какую-нибудь расскажу. Про Иван-царевича хочешь?
Но сказку про Иван-царевича Мите услышать было не суждено, потому что в этот миг раздался отчаянный стук в заднее стекло. Лакей Левонтий кричал что-то, пуча испуганные глаза. Сначала было не разобрать – карета ехала в гору, и кучер щелкал кнутом. А потом донеслось:
– Барыня! Беда! Разбойники!
Хавронская кинулась открывать левое окошко, Митя правое. Высунулись с двух сторон.
Сзади, быстро приближаясь, неслись пятеро конных: один впереди, четверо поодаль. И по первому было сразу видно, что он точно разбойник – лицо закрыто черной маской. Лихой человек скакал на огромном вороном коне, за спиной у него развевался черный плащ, треуголка низко надвинута.
А вокруг пусто, ни души, по обе стороны густой лес.
Графиня повернулась к кучеру, крикнула:
– Гони! Что есть мочи!
Всадники тоже до подъема доигрались, их бег замедлился, а дормез, наоборот, выбрался наверх и теперь пошел шибче.
Слева деревья отступили, открылась широкая поляна с пнями – вырубка. На дальнем ее краю малая избушка, по виду охотничий домик. Из трубы вился дымок, там были люди. Как дать им знать? Кричать – не докричишься.
Эврика! Выстрелить! Митя показал на избушку:
– Пиф-паф!
Павлина, умница, догадалась. Застучала в переднее окно:
– Toy ко! Пали из ружья!
– Пали! – огрызнулся чухонец. – А восси кто дерсать будет?
Она рывком спустила раму.
– Дай сюда!
Пока кучер одной рукой оружье просовывал, пока графиня его тем же манером запятным переправляла, поляна с жильем позади осталась, с обеих сторон был только лес.
Передний преследователь опять нагонял. Его конь шел галопом, ходко отмахивал широченными копытами в стороны. Глазищи у вороного были страшные, налитые, с вислых губ летели клочки белой пены, у всадника же вместо глаз белели две дырки, рта не было вовсе. Страх!
– Стреляй в супостата! – приказала графиня.
Фома приложился, пыхнул дымом и грохотом, да не попал. Только разозлил разбойника. Тот уж совсем близко был, саженях в пяти. Выдернул откуда-то пистолет с длинным стволом и как прицелится!
– Мамушки! – охнул Фома, бросил ружье и присел, закрыв руками голову.
Левонтий тоже весь скрючился, а Мите почудилось, что черное дуло метит прямо в него. Он схватил Павлину за руку, дернул на пол. Прижались друг к другу, зажмурились.
Выстрел был не сильно громкий, много тише ружейного. И ничего, живы остались оба, пронесло.
Ан нет, не пронесло.
Что-то шумнуло, скребнуло спереди по стенке, и через малое время карету повело из стороны в сторону.
Донесся крик Левонтия:
– Барыня! Чухна свалился! Пропадаем!
Ах, это злодей поверх крыши пальнул, кучера Toy ко застрелил!
Тут как хрустнет, затрещит, как лошади заржут, и дормез остановился, скособочился на сторону. Это ось подломилась, понял Митя. Когда с папенькой в Петербург ехали, тоже один раз было – полдня чинились.
А графиня была молодец. Другая бы дама непременно принялась визжать или, того верней, рухнула бы в обморок, Павлина же не растерялась, прикрикнула на лакеев:
– Рубите его саблями, пока те не подоспели! Рубите!
Митя прилип носом к заднему стеклу. Видел, как сначала Левонтий, а за ним и Фома спрыгнули на снег, пошли на разбойника, размахивая саблями. Думал, тот отъедет назад, подмоги дождется, но злодей вздыбил коня, осадил. Убрал разряженный пистолет, вынул шпагу.
Легко, будто играючи, звякнул клинком о Левонтиеву саблю, и тут же рубанул лакея пониже уха. Бедный повалился ничком, не вскрикнув. Фома попятился было, да поздно. Конник перегнулся, пырнул его шпагой. И Фома сразу заголосил, упал на снег и давай там барахтаться.
Пропали!
Митя сполз с сиденья на пол. Зубы стукались друг об дружку, этот дробный перестук отдавался по всему краниуму.
Павлина тоже сидела на полу, дрожащей рукой взводила курок на пистолете.
– Не бойся, – сказала, – маленький. Я стрелять умею, меня муж учил.
А у самой в лице ни кровинки.
Снаружи по снегу заскрипели шаги. Спешился, подходит!
Она наставила дуло, зубами впилась в нижнюю губу, а Митю толкнула, чтоб под сиденье лез. Шепнула:
– Уши заткни и глаза прикрой, рано тебе еще такое видеть.
Он спрятаться-то спрятался, а глаза закрывать не стал, подглядывал из-за ее подола. Дверца распахнулась.
Разбойник был сущий великан, заслонил собою весь белый свет.
– Христом-Богом! – попросила графиня, держа оружие обеими руками и целя ему прямо в лоб. – Бери что хочешь и уходи! Не доводи до греха!
Он хрипло захохотал, глаза в прорезях от этого сузились в щелки.
Тогда она взяла и выпалила.
Карета наполнилась дымом, но еще до того Митя увидел, что лихой человек ловко присел, и пуля не причинила ему никакого ущерба.
Павлина ударила его рукояткой по голове, но это великану было нипочем. Он отнял пистолет, швырнул на пол. Однако храбрая И тут не унялась. Вцепилась злодею в лицо, сорвала с него маску.
Пикин!
Митя забился под сиденье как можно дальше, и больше ничего не видел, лишь слышал голоса.
– Что ж, значит, нечего и таиться, – сказал ужасный преображенец. – Только теперь придется ваших слуг того. Лишние доводчики мне не надобны.
– Не надо! – взмолилась она. – Вам ведь, сударь, не они нужны, а я. Иль ваш господин нарочно велел вам душегубствовать?
Капитан-поручик отрезал:
– Сами виноваты. Нечего было маску срывать, лучше б в обморок пали. Что мне князь велел, то меж ним и мной останется. Только никакие это не душегубства, а преступления любви, безумства страстей. Посидите-ка.
Хлопнула дверца.
Жалкий голос – не поймешь чей, Фомы или Левонтия – попросил:
– Мил человек, мил человек…
Графиня все повторяла:
– Боже, боже…
И снова приблизились шаги, скрипнули петли.
– Прекрасная Псишея, – объявил Пикин. – Имею приказ доставить вас в некой прелестное место, где вас ожидает бог сладострастия Амур. А еще ведено вам передать…
– Откуда вы узнали, где меня искать? – перебила Хавронская. – Я никому не говорила.
Пикин (по голосу слышно) ухмыльнулся:
– Тише надо было перед дворцом кричать про Московский тракт. Ага, подоспели наконец, курьи дети.
Это он про топот подъехавших коней сказал.
Пошел навстречу своим гайдукам или кто там с ним был. Закричал на них, заругался.
Павлина же опустилась на четвереньки, вытащила Митю из укрытия.
– Быстрей, миленький, быстрей. Беги! Этот зверь и дитя малое не пощадит! Ну же! Береги тебя Господь!
И насильно выпихнула в дверцу. Митя упал в снег, бесшумно. Отполз на обочину, где сугробы.
К покривившемуся дормезу подошли пятеро.
– Вишь, барин, ось треснула, – сказал один. – Тут возни дотемна. Пока в лесу подходящее дерево сыщешь, пока приспособишь. Каретища вон какая, осина или береза не пойдет, дубок нужен. Как бы ночевать не пришлось.
– Ничего. – Пикин возвышался над прочими на полголовы. – Я в карете у печки, а вы костер разожгете. Что встали? Вы двое марш в лес! А ты и ты приберите здесь. Дохлятину в кювет киньте, снегом забросайте. Потом за кучером вернитесь. Живой – добейте. Уполз – догоните. И тоже заройте. Марш!
Отдав приказание, гвардеец вернулся к дормезу. Поставил ногу на ступеньку, сдернул с головы шляпу, поклонился.
– Мадам, кажется, нам предстоит романтическая ночь. Во избежание двусмысленности, положу меж нами обнаженный меч, как непреклонный Роланд.
И загоготал, невежда. Это надо же Роланда с Тристаном перепутать!
Пятясь по-рачьи, Митя пополз к лесу. За черными кустами, сплошь в красных капельках ягод, выпрямился и побежал. Одно слово, что побежал – не очень-то по рыхлому снегу разгонишься.
Кое-как добрался до тропки, тогда стал думать.
Они тут застряли до утра. Значит, Павлину еще можно спасти. Нужно привести людей – только и всего.
Вопрос: где найти людей?
Точное местонахождение неизвестно. Где-то между Чудовым и Новгородом. Какое тут ближнее поселение, сколько до него идти и в какую сторону – Бог весть.
А охотничий домик?
Не так уж далеко от него отъехали. Версту, много две.
Это надо поворотить назад и держаться поближе к дороге, только и всего.
День начинал меркнуть, но до темноты время еще было. «Я спасу вас, драгоценная Павлина Аникитишна», – сказал Митридат вслух и побежал по узкой тропинке, очень возможно, что вовсе не человечьей, а звериной. Где-то в той стороне должна быть вырубка и домик.
По лицу били скорбные зимние ветки, и думы были тоже невеселые. Отчего злодейству в мире всегда широкая дорога, а добродетели узкая тропа, поросшая колючим терновником? И еще. Взять вот Павлину, Пашу. К чему такой красавице ниспослано бремя душевной тонкости, достоинства и свободолюбия? Ведь без этого груза ее жизнь была бы куда проще и приятнее. Сколько женщин девиц почли бы за великое счастье домогательства князя Платона Александровича.
Что это за крест такой – благородство, мало того что влекущее человека к тяжким испытаниям, но к тому же еще оставляемое без всякого воздаяния за муку и вознаграждаемое за нее лишь несчастьем, или страданием?
Глава девятая
Москва и москвичи
– Столько настрадалась, такие муки из-за него вынесла! – причитала разобиженная Валя. – Попробовали бы брови выщипывать – кошмар! Обрыдалась вся! Факинг миракл, что глаза не красные. О вас же заботилась, о вашей репутасьон. «Холестерин» такое место, кто только не таскается. Не хватало еще, чтоб подумали, будто вы замутили с трансвестишкой. Барби-дресс, бровки в ниточку, попсовый макияж – все ради вас, а вы поперли, как Буш на Талибан. Подумаешь, на полчаса опоздала. Я ж делом занималась, а не книжку читала!
Нике уже самому было стыдно, что он накинулся на бедную девочку за опоздание. Она выпорхнула из такси такая счастливая, такая воздушная: золотистые кудряшки до плеч, платье в оборочку, сетчатые чулочки, на щеке приклеен китайский иероглиф – ну просто первый бал Наташи Ростовой, никому и в голову бы не пришло усомниться в половой принадлежности этой инженю. А он напустился с упреками. Нехорошо это, сексуальный шовинизм. Ведь настоящей девушке за опоздание он выговаривать бы не стал, верно?
– Ну ладно, ладно, извини, – сказал Николас. – Ты сегодня просто красавица.
И Валя, не избалованная комплиментами начальника, моментально утешилась и даже просияла. Развернулась к водителю всем корпусом, похлопала длиннющими ресницами, поправила фальшивый бюст, оперлась локтем о спинку сиденья.
Страстно проворковала:
– Вот стою я перед вами, простая русская баба.
Такая в ее кругу была мода – к месту и не к месту сыпать цитатами из допотопных советских фильмов. Что привлекательного находят в замшелых соцреалистических поделках эти дети солнца, первые подснежники XXI века? Ведь обычная пропагандистская дребедень. Николас просмотрел пару кассет из принесенных Валей – «Чапаев», «Веселые ребята», еще вот эту самую, как ее, откуда про простую женщину, и бросил. Он, выросший под антисоветские филиппики сэра Александера, никогда не сможет воспринимать искусство эпохи тоталитаризма как нечто стильное или экзотическое.
– Вон там налево, в сайдлейн, – показала Валя, как бы ненароком кладя Николасу руку на плечо. – Потом направо, и будет «Холестерин».
– Странное название для ресторана. – Фандорин вертел головой, высматривая место для парковки – улица была сплошь заставлена дорогими автомобилями. – Ведь холестерин вреден.
– Зато приятен, – жарко шепнула на ухо чаровница.
Николас строго сказал:
– Так, Валентина. Мы, кажется, раз и навсегда договорились…
– Наин проблем, – отпрянула она. – Понимаю: хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?
Ну уж, голубушка, покачал головой Николас, сорок с маленьким хвостиком – какая ж это старость?
Напротив сияющей вывески в виде бесшабашного поросенка освободилось место – отъехала красная «ауди», и Фандорин вознамерился ввинтиться в брешь, но Валя надула губки:
– Шеф, отъедем подальше, а? Ну как я буду вся такая воздушная, на глазах у пипла вылезать из этой галошницы? Я вот о вашей репутации забочусь, а вам на мою наплевать.
Николас безропотно отогнал свою «четверку» за угол. В свое время он приобрел этот неказистый автомобиль из неофитского патриотизма – хотел поддержать кампанию «Покупаем отечественное!». Стоически сносил скверный нрав железного уродца, лечил его многочисленные хворобы, без конца заменял отваливающиеся ручки и зеркала, а главное – изо всех сил старался не завидовать жене, раскатывавшей на слоноподобном «лендровере». Бескомпромиссный Эраст именовал папино транспортное средство «пылесосом» и ездить на нем отказывался, зато сентиментальная Геля «четверку» жалела и ласково называла Мишкой, имея в виду стихотворение «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший».
Идя по темному переулку к горящему разноцветными огнями клубу, Фандорин вдруг испытал давно забытое волшебное чувство: предвкушение радости и праздника – как во времена студенческой юности, когда шел с подружкой потанцевать или потереться локтями в тесной, насквозь прокуренной забегаловке. И пускай это было не Сохо, а Дмитровка, пускай рядом стучала каблучками не настоящая девушка, а не поддающееся ясной дефиниции существо, все равно ощущение было такое, словно с плеч разом слетело двадцать лет, и походка от этого сделалась пружинящей, голова звонкой, а легкие наполнились веселящим газом.
«Фьюжн», оказывается, подразумевал полную терпимость и братство, а может быть сестринство всех сексуальных ориентации. В клубе «Холестерин» привечали всех.
Для начала Валя устроила своему кавалеру небольшую экскурсию по залам.
– Здесь гоняют лайв, – орала она на ухо Николасу в темном, битком набитом зальчике, где выступала хард-рок-группа. – Сегодня жуткий дренаж, просто анкруайаблъ. Это «Зачем?».
– Что «зачем»? – не понял Фандорин.
– Команда так называется: «Зачем?». Если полностью – «Зачем арапа своего младая любит Дездемона?» У них солист – блэк из Буркина-Фасо. Сейчас не видно, они все в черный цвет покрасились.
– Зачем?
– Да, ник дебильный, – кивнула Валя, в свою очередь не поняв вопроса. – Давайте жать на экзит, пока не стошнило.
В другой комнате, где перед сценой стояли ряды стульев, наоборот, горел яркий свет. Публика почти сплошь состояла из мужчин, а на подиуме у микрофона подбоченилась плечистая размалеванная мадам. При более внимательном рассмотрении мадам оказалась мужчиной в пышном женском платье и рыжем парике.
– Трансвести-шоу, – объяснила Валя, снисходительно разглядывая эту карикатуру на прекрасную половину человечества. – Лола, конферансье. Он кул. Поглядим?
Господин Лола послал публике воздушный поцелуй и визгливым голосом объявил:
– Куклы мои, как я рада всех вас видеть на нашем междусобойчике! Вы все такие желанные, такие эротичные, я чудовищно возбуждаюсь, прямо вся обтекаю!
С этими словами он сдернул парик, и стало видно, что по абсолютно лысому черепу стекают ручейки пота.
Все засмеялись, зааплодировали, а Лола подмигнул двухметровому Фандорину, сложил толстые губы бантиком и подвигал ими вверх-вниз.
– Обожаю длинных мужчин. Особенно если у них правильно соблюдены все пропорции.
Снова смех и аплодисменты. Николас ощутил на себе множество любопытствующих взглядов и поневоле ссутулился. Валя успокаивающе взяла его под руку, и на сей раз он не отодвинулся – так было как-то спокойней: со стороны посмотреть – обычная гетеросексуальная пара.
Лола попудрил сизый нос и торжественно объявил:
– А сейчас, целки мои, перед вами выступит божественная Чики-Чики-сан, звезда японского стриптиза.
Заиграла подвывающая восточная музыка, и на эстраду, мелко семеня, выбежала хорошенькая раскосая девушка в белом кимоно. Она грациозно закружилась, обмахиваясь веером. Уронила с плеч белое кимоно, под ним оказалось алое. Танцовщица раздвинула полы, выставила вперед стройную голую ногу. Зал восторженно засвистел, заулюлюкал.
– Пойдем отсюда, – потянула Фандорина за рукав Валя. – Никакая это не японка, а один шитхед из Улан-Удэ. И чего их всех от него прет?
– Ревнуешь? – засмеялся Николас, протискиваясь к выходу. – Выступила бы сама.
Валя фыркнула:
– Буду я танцен-шманцен перед всякими педерастами.
Но видно было, что успех псевдояпонки задевает ее за живое.
В третьем зале, самом большом из всех, располагались ресторан и, в дальнем углу, дансинг, откуда доносилась однообразная музыка, несколько напоминающая скрежет дворников по сухому стеклу.
– Супер! – прижала руки к груди Валя. – Вот это музон, вот это драйв! Как вставляет! Пройдет двести лет, и про нас скажут: лаки бэстардз, они были современниками великого ди-джея Кавалера Глюка.
– Разве эта музыка имеет что-то общее с Глюком?
Фандорин напрягся, вслушиваясь, но никакого сходства не обнаружил.
– А то нет? – полуприкрыла затуманенные глаза Валя. – Я сейчас, у меня колл оф нейча.
Отлучилась в туалет – на каких-нибудь две минуты, но когда вернулась, ее было не узнать: в расширенных зрачках посверкивали шальные искорки, рот расползался в блаженной улыбке, а все тело так и вибрировало в такт музыке.
– Шеф, аванти! Оторвемся в астрал! – Она схватила Николаса за руку и потащила к танцплощадке. – Не то сейчас сдохну! Там гром, а я молния!
Успела глотнуть или нюхнуть какой-то дряни, догадался Фандорин. То ли экстази, то ли кокаина. А может, и «молнии» – кажется, есть такое зелье. Он знал по опыту, что сейчас вправлять Вале мозги – пустое занятие. И все же не сдержался. Сердито сказал:
– Пойди, пойди, растрясись. А когда из тебя дурь выйдет, потолкуем всерьез.
Но Вале сейчас все было нипочем. Видимо, уже оторвавшись от земной поверхности, она крикнула бредовую фразу:
– Фитилек-то прикрути, коптит!
И, пританцовывая, двинулась в направлении дансинга.
Ника остался один.
Тянул через соломинку слабоалкогольный коктейль «текила-санрайз», неспешно разглядывал беззаботных обитателей третьего тысячелетия христианской эры и размышлял о том, как изменились Москва и москвичи с тех пор, как он впервые приехал в этот город. Всего-то шесть лет прошло, а город не узнать. Вне всякого сомнения Москва – существо женского пола. У нее ослаблено чувство времени, поэтому в отличие от городов-мужчин она равнодушна к прошлому и живет исключительно настоящим. Вчерашние герои и вчерашние памятники для нее мало что значат – Москва без сожаления расстается с ними, у нее короткая память и несентиментальное сердце. Это у мужчины сердцебиение и слезы умиления на глазах, когда он встречает возлюбленную прежних лет. Женщине, во всяком случае большинству из них, такая встреча неинтересна и даже неприятна, поскольку никак не связана с ее нынешними проблемами и сегодняшней жизнью. Вот и Москва точь-в-точь такая же, обижаться на нее за это бессмысленно. Как поется в одной хорошей песне, она как вода, принимающая форму сосуда, в котором находится.
Когда Фандорин увидел ее впервые, она была бедной замарашкой, жадной до пестрых иностранных наклеек и завистливой на чужое богатство. Но с тех пор поправила материальное положение, обрела исконную дебелость и вернулась в свое природное амплуа. Больше всего Москва напоминала Николасу любимый чеховский типаж: красивую, но чуть перезрелую барыньку, немного циничную и пресыщенную, не слишком счастливую в любви, все на свете перевидавшую, но все еще жадную до жизни. Днем эта Аркадина-Раневская-Войницева хандрит, ходит в затрапезе, но к вечеру, как соберутся гости, припудрится, расфуфырится, нацепит бриллиантовое колье из огней, подвесит серьги из прожекторов и превратится в такую светскую львицу, что ослепнуть можно.
– Эй вы, stranger in the night,[9] – раздался вдруг певучий женский голос. – Что, тяжелая оказия быть взрослой дочери отцом?
Николас обернулся и увидел, что за соседним столиком, который еще недавно был пуст, сидит женщина. Лицо в полумраке было видно неотчетливо, но в том, что это красавица, сомнений быть не могло – так уверенно звучал голос, так лениво светились глаза, так победительно блеснула сквозь сигаретный дым влажная полоска зубов. В первый момент показалось, что это материализовалась сама Москва, сотканная его собственной фантазией, тем более что на шее у незнакомки посверкивало ожерелье, а в ухе безошибочным радужным сполохом вспыхнул бриллиант. И лишь потом до Николаса дошел смысл странного вопроса: это она про Валю. Решила, что он пришел в клуб с дочерью. Неужели разница в возрасте так бросается в глаза? Хотя, собственно, что ж удивляться. Сколько Вале? Двадцать два, двадцать три. Женщина негромко рассмеялась.
– Что, задело за живое? Ладно, пошутила. Какой отец станет водить дочурку в этот вертеп? Разве что кровосмеситель какой-нибудь. Но вы не похожи на кровосмесителя.
У незнакомки была стильная прическа – черные волосы лежали на щеках двумя загнутыми клиньями. Под скулами – впадинки, как сиреневые тени. Или как омуты, подумал вдруг Фандорин. Еще подумал:
«Незнакомка» и есть. Дыша духами и туманами.
– А на кого я похож? – спросил он, невольно поддаваясь ее тону, своему бесшабашному настроению и колдовству мгновения.
Она чуть повернула стул, чтобы лучше его видеть, но осталась сидеть за своим столиком. Немного помолчав, сказала:
– На мужчину, который выходит из возраста, когда нравятся неожиданности. И, соответственно, перестает быть мужчиной. А еще… – Огонек сигареты из бледно-красного стал алым и на секунду осветил ироничный изгиб тонких губ. – А еще вы похожи на океанский лайнер, ползущий по каналу имени Москвы.
– Из-за моего роста? – спросил Николас.
– Нет. Из-за того, что в повседневной жизни вы вынуждены прикидываться речным пароходишкой, а это не очень у вас получается.
Она меня клеит, дошло вдруг до Фандорина. Раньше в ресторане к женщинам приставали мужчины. Самые нахальные – улучив момент, когда спутник дамы отлучится потанцевать. А теперь гендерная революция, роли меняются. Уверенная в себе хищница вышла на ночную охоту. Заморочит голову пьянящими речами, подпоит, покатает на машине, а утром скажет: «Ну пока, золотце. Я тебе позвоню».
– Чему вы улыбаетесь? – Незнакомка снова затянулась. – Слишком грубо работаю?
– Есть немного, – засмеялся он.
– А с мужчинами так и нужно, – хладнокровно заявила она. – Знаете, бисер перед свиньями. Да и времени у нас немного, того и гляди ваша пионерка вернется. Неужели вам с ней не скучно? Трахнули малолетку, доказали себе, что вы еще ого-го, ну и пусть возится в песочнице со своими ровесниками. Обычная дурочка. Может быть, когда-нибудь станет настоящей женщиной, но еще не скоро.
– Уверяю вас, Валя не совсем обычная. И даже совсем необычная.
Незнакомка откинулась назад, обхватила себя за локти.
– Она меня не интересует. Слушайте – повторять не буду. Времени на раздумья тоже не дам. Мы сейчас встаем и уходим отсюда. Никаких прощаний, брехни про срочное дело и прочее. Я хочу, чтобы девчушка вернулась и обнаружила пустой стул. Стоп! Говорю я, а вы пока помалкивайте. Не думайте, что я каждый день так забавляюсь – лишь под настроение, когда вожжа под хвост попадет. Считайте, что это каприз. Итак: да или нет?
А у самой голос ленивый, нисколько не сомневающийся в ответе, и это манило больше всего.
– Нет, – сказал Николас. – Спасибо, но нет.
– Неужели из-за этой финтифлюшки? – не столько оскорбилась, сколько поразилась женщина. – Да вы посмотрите на нее.
Фандорин обернулся, посмотрел. Валя парила в свободном полете: по-сестрински поцеловалась с какой-то огненно-рыжей девицей, сразу же вслед за этим подсела к двум юным мачо кавказской наружности, оживленно принялась им что-то рассказывать, зажестикулировала. Ничего, за эту барышню можно было не тревожиться. Ника знал, что в обиду она себя не даст. Впечатление эфемерности и хрупкости было обманчивым. Кроме современного танца Валентина занималась еще каким-то восточным мордобоем (что-то квохчущее, кончается на «до»). Однажды, в самом начале совместной работы, когда Фандорин еще не успел ознакомиться со всеми талантами своей ассистентки, ему пришлось заступаться за нее в кафе. Агрессор был в полтора раза ниже Николаса, зато вдвое плечистей, и шансы на победу выглядели нулевыми. Но деваться все равно было некуда – конфликт (между прочим, самой Валей и спровоцированный) неминуемо устремился по вектору физического насилия. Пока Ника, бледнея, лепетал, что сейчас позовет милицию, Валентина выскользнула из-за его спины, чуть вздернула мини-юбку, исполнила подобие фуэте и свалила бугая на пол хлестким ударом ноги. Потом достала зеркальце и стала пудрить нос.
– Нет, дело не ней, – сказал Николас. – И не в том, что я нахожу вас непривлекательной. Совсем наоборот…
Незнакомка хмыкнула, будто он сказал что-то смешное, но не очень пристойное.
– Смотри, дурень. – Она жалеюще покачала головой. – Локти потом искусаешь.
Такие приключения бывают раз в жизни. И далеко не у всех.
Оскорбилась, что и понятно. А обижать даму, которая сделала ему, в конце-то концов, чертовски лестное предложение, Николасу совсем не хотелось Отец говорил:
«Джентльмен, Николка, это человек, который никогда не обижает тех, кого он не собирался обидеть».
– Понимаете, – сказал Фандорин, обезоруживающе улыбаясь. – Я люблю женщин и, как писал Карл Маркс, ничто человеческое мне не чуждо. Но женился я по русским меркам довольно поздно, так что у меня было достаточно времени удовлетворить любопытство по поводу многообразия женских типов. Я долго выбирал и выбрал ту, в лице которой могу любить всех женщин мира. А насчет моей спутницы вы заблуждаетесь, между нами ничего такого нет.
– Так сильно любишь жену? – с серьезным видом спросила незнакомка, словно услышала необычное и важное известие, нуждающееся в подтверждении. А когда он кивнул, раздраженно всплеснула узкой кистью. – Ну и люби, мне-то что? Я же тебя не венчаться зову. Покувыркаемся и разбежимся. Я про тебя потом и не вспомню, и ты тоже меня выкинь из головы.
– А предательство? – тихо сказал он. – Жена не узнает, но я-то про себя все равно буду знать, что я предатель.
Женщина раздавила окурок в пепельнице, презрительно усмехнулась.
– Все, кончили. Как я, дура, сразу не разглядела? Знаю я таких принципиальных. Привык жену мочалить, а других баб боишься. Боишься, что ни с кем другим у тебя не получится, вот и вся твоя верность.
Резко встала, скрежетнув стулом, и пересела к стойке бара.
Все равно обиделась, сокрушенно подумал Фандорин.
Теперь незнакомка сидела далеко, но видно ее было лучше, чем вблизи, потому что бар весь сиял огнями. Глядя на стройный силуэт соблазнительницы, на точеную ножку, небрежно покачивающую полуснятой туфелькой, Николас попытался представить, как все могло бы у них получиться. Представил – безо всяких затруднений и до того явственно, что заерзал на стуле.
Настроение испортилось. Во-первых, было совестно перед Алтын за послабку, данную воображению. Кажется, это называется «прегрешение помыслом»? А еще совестнее было за шевельнувшееся внутри (нет, в нутре) сожаление. Как она сказала: «Локти потом искусаешь»?
Что я вообще тут делаю, разозлился на себя Фандорин. Тоже еще выискался любитель запретных наслаждений! Дома бы лучше сидел, с детьми, радовался, что жив остался.
Он положил на стол деньги, бросил последний взгляд на Валю, отправившуюся танцевать с одним из кавказцев. И она, и ее кавалер заливисто хохотали. Незнакомка права, подумал Николас. Пусть Валя играет со своими сверстниками, у них собственные игры, они разговаривают на одном языке. Она не из тех девушек, которых нужно провожать до дома. Да и вряд ли Валя проведет эту ночь одна.
Проходя мимо бара, чуть сконфуженно кивнул роковой женщине – та болтала по мобильному и небрежно помахала пальчиками с длинными алыми ногтями.
Вышел на ночную улицу, вдохнул чудесный московский запах – дождя, асфальта и гнилой листвы, с приправой выхлопного газа. Сесть за руль, включить музыку (ностальгическую, подростковой поры: еще не опопсовевшие «Би джиз», диск «Одесса»), ехать по пустой магистрали домой, где спят дети. Что может быть лучше?
Недалеко от входа в клуб припарковался огромный джип. Дверь автомобиля была нараспашку, гордый владелец никелированного чудища стоял в картинной позе, оперевшись одной ногой на откидную ступеньку, и разговаривал по телефону. Кажется, Москва побивает все рекорды по количеству сотовых аппаратов на душу населения, мимоходом подумал Фандорин.
– Проблем нет, – говорил хозяин джипа, молодой мужчина в дорогой кожаной куртке и дымчатых очках (это ночью-то!), своему невидимому собеседнику. – Сейчас сделаем.
И вдруг властно придержал проходившего мимо Фандорина за рукав.
– Николай Александрович, садитесь в машину, сказал он негромко – сквозь стекла блеснули очень спокойные, но неприятно сосредоточенные глаза. – С вами хотят поговорить.
Надежда на то, что все обошлось, рассыпалась в один миг. Вот оно! То самое!
Сердце сжалось в черносливину, и тем не менее Николас сделал вид, будто ничего не понимает, ни о чем не догадывается.
– Со мной? – преувеличенно удивился он, сам чувствуя неестественность своей интонации. – Но кто? И зачем?
Сказал бы и сакраментальное: «Вы меня с кем-то путаете», да вот беда – обратились по имени и отчеству.
Оглянулся назад, увидел, что двое клубных вышибал смотрят в эту сторону. Немного приободрился.
– Никуда я с вами не поеду! – объявил он и попытался высвободиться.
Тщетно. Очкастый держал его за рукав двумя пальцами, но пальцы эти были стальными.
Сзади раздались тихие шаги, и в спину Фандорина уперлось что-то твердое, круглое, небольшого диаметра. Он сразу догадался, что именно, хотя никогда прежде ему не приставляли к позвоночнику дуло пистолета.
– Без драматизма, уважаемый, – произнес все тот же мужчина. – Садимся, едем, сцен и хэппенингов не устраиваем.
Грамотная, даже интеллигентная речь бандита почему-то напугала Нику больше всего. Он в панике оглянулся. Увидел, что сзади стоят двое: у одного лицо сонное и нос уточкой, второй совсем молодой и, кажется, рыжеволосый, хотя в свете фонаря можно было и ошибиться.
Хуже всего было то, что, увидев оружие, вышибалы как по команде отвернулись. Очевидно, поняли, что тут не обычная потасовка, а серьезный разговор.
И все же садиться в машину к этим головорезам не следовало, кто бы они ни были – сообщники Шибякина или его убийцы. Хрен редьки не слаще. «Хотят поговорить»! Значит, убьют не сразу. Знаем, читали: прикуют к батарее, станут бить, задавать вопросы, на которые у тебя нет ответа. Или, если это «Неуловимые мстители», устроят какой-нибудь фарсовый суд над «гадом и обманщиком».
– Не заставляйте меня прибегать к сильнодействующим средствам, – все так же спокойно сказал мужчина в темных очках, очевидно, бывший у похитителей за главного. – Вы ведь знаете, что один раз это уже привело к летальному исходу.
Он поднял правую руку, в которой теперь был не мобильник, а что-то тонкое, металлическое – кажется, игла. А «летальный исход» – это он про Шибякина. Значит, не «Неуловимые» – наоборот. Сейчас сделает усыпляющий укол, а очнусь в наручниках, в каком-нибудь подвале, обреченно подумал Николас. Потом, как тот несчастный псих, буду лежать в луже, с разинутым ртом и остекленевшими глазами.
– Эй, шеф! – раздался сзади яростный вопль. – Куда это вы? Са не марш па! А я?
Валя! Выбежала из клуба, стуча каблучками. Лицо сердитое.
Человек со шприцем прошелестел:
– Скажите, чтоб ушла. Целее будет.
Вздрогнув от зловещего смысла этих слов (значит, он-то уж точно «целее» не будет), Николас срывающимся голосом сказал:
– Валя, я знакомых встретил. Поговорить надо. Ты подожди меня за столиком.
– Бьен сюр, знакомых, – горько усмехнулась она, упиваясь ролью соблазненной и покинутой. – Я видела, как вы с той фамм-фаталь ворковали! Сговорились, да? Все МэМэ расскажу, так и знайте!
Злобно дернула очкастого за руку, чтоб отпустил Никин рукав.
– А ну хэндз офф! Не твое – не лапай.
– Девочка, – убедительно попросил тот. – Сделай одолжение, поживи еще. Даю тебе две секунды, чтоб добежать до Садового кольца.
Ну, сейчас будет дело под Полтавой, содрогнулся Николас и поспешно сказал:
– Валя, не надо, у них ору…
Не успел предупредить про пистолет.
Однако никакого дела под Полтавой не получилось – все произошло в те самые две секунды, которые презентовал Вале незадачливый преступник. Бешено взвизгнув, обидчивая барышня двинула его лбом в нос и одновременно выбросила в стороны обе руки: правой ударила по горлу Утконоса, левой по переносице Рыжего.
Зрелище было эффектное и даже величественное, отчасти напоминающее взлет космического корабля: мгновение назад он еще стоял в окружении стальных опор, потом вдруг включил двигатели, окутался облаком дыма и огня, а опоры разлетелись в стороны, оставив звездный лайнер в гордом одиночестве.
Валя шумно выдохнула, сложила на груди руки и продолжила обвинительную речь:
– Значит, верный супруг, да? Фэмили мэн, да? Я, как дура, ему верила, пальцем не касалась! А тут первая попавшаяся пута пальцем поманила – и пожалуйста. Куда это вы все мылились? На групповуху, да? А я, значит, вам «олвиз» юзаный, да?
К Николасу пока еще не вернулся дар речи, поэтому он лишь молча показал на мостовую, где валялся выпавший у Рыжего пистолет.
Валя присвистнула, села на корточки.
– Вот это базука! Уау! Шеф, что это за пипл?
Главный бандит, сидевший на асфальте у колеса, захлопал глазами. Темные очки поползли вниз по обильно кровоточащему носу. Утконос застонал и приподнялся на локте.
Ожили и вышибалы: один убежал в клуб, второй кричал что-то в рацию.
– Брось ты эту дрянь! – в ужасе возопил Николас, увидев, что Валя подняла пистолет и с любопытством его разглядывает. Бежим, пока они не очухались!
Схватил секретаршу за руку, уволок в темноту.
– Ты с ума сошла! – задыхаясь, выкрикивал Фандорин. – Ты хоть понимаешь… что ты… натворила? Теперь точно убьют! И меня, и тебя! Господи, где тут метро?
Где-то рядом была станция – эта, как ее, «Охотный ряд». Он твердо знал это, но от потрясения совершенно потерял ориентацию и заметался по перекрестку, беспомощно повторяя:
– Где «Охотный ряд»? Где же «Охотный ряд»?
Глава десятая
Лекарь поневоле
А охотничий домик где? – спохватился Митя, пригорюнившийся от печальных раздумий. Он уже давно не бежал, а шел, потому что не хватало дыхания, вырубки же все не было и не было. Тропинка, и поначалу-то не шибко торная, сделалась совсем узкой.
Если приглядеться, человеческих следов на ней не наблюдалось вовсе, а лишь кружковатые, с когтями, причем неприятно большие.
День почти совсем померк, и кусты с деревьями сомкнулись тесней. Заблудился, понял Митридат. И еще понял, что здесь, в зимней чаще, прочитанные книги и мудрые максимы не помогут. Глупей всего, что вдруг вспомнилась песенка, которой мучила глупая нянька в первые, молчаливые годы Митиной жизни: «Придет серенький волчок и ухватит за бочок». Так и увидел наяву, как за тем вон кустом вспыхивают два фосфоресцических огонька, а потом на тропинку бесшумной тенью выскакивает и сам Canis lupus, столь распространенный на русской равнине, подпрыгивает на своих пружинных лапах и впивается острыми зубами прямо в бок.
Куст взял и вправду шевельнулся. Ойкнув, Митя шарахнулся в сторону, потерял эквилибриум и упал. Никакой это был не волк, а большая птица. Видно, сама напугалась – заполоскала серыми крыльями, вспорхнула кверху, заухала.
Нога! Ой, больно!
Потерпел немножко, снегу пожевал, вроде полегче стало. Но когда попробовал встать, закричал в голос. Ступить на ногу не было никакой возможности.
Сломал, не иначе.
Кое-как дополз до ближайшего дерева, сел спиной к стволу.
Это что же теперь будет, а?
Вот когда следовало испугаться – не по-младенчески, серого волчка, а по-настоящему, по-взрослому, ибо скорое окончание собственной жизни обрисовалось перед Митиным рассудком во всей строгой и логической очевидности: идти невозможно, надвигается ночь, и если не загрызет волк или рысь, все одно часа через два замерзнешь насмерть.
Но, может, оттого, что смертная погибель выглядела такой неминучей, страха Митя не ощутил. Скорей для очистки совести, нежели для проверки, попробовал подняться еще раз, убедился, что ни идти, ни даже стоять не может. Подумал – не поползти ли назад? Отверг. Больно долго бежал, а потом шел, столько не проползешь. Да и к чему? Ну, выберешься к тракту, так в темное время по нему все равно никто не ездит. Замерзнешь на обочине. Единственное утешение, что не лисы с воронами сожрут, а подберут люди и похоронят. Что Мите, жалко для лис и воронов своего мертвого мяса? Пускай едят. А чем попусту пресмыкаться, последние силы тратить, не лучше ль на манер римского мудреца Сенеки или премудрого Сократеса подготовиться к разгадке земного бытия с достоинством? Смерть от холода, описывают, нисколько не мучительна. Станет клонить в сон, и уснешь, и боле не проснешься.
Вот когда мудрые книги-то пригодились. Жизнь себе с их помощью, может, и не спасешь, зато умирать легче.
И Митя повернулся на спину, стал умирать – вдыхать лесной воздух, подводить итог. Лежать было мягко, удобно и пока что, с разогрева, нехолодно, а мысли текли плавно и даже не без некоей приятности.
Что ж, прожил Митридат-Дмитрий Карпов на земном яблоке недолго, семь лет без одного месяца. Но все же дольше, чем большинство нарождающихся на свет человеков, из коих каждый третий помирает в первую неделю, а каждый второй в первые два года младенчества. Выходит, Митя против большинства еще и счастливец. Опять же, прошел свой путь не в сумраке пробуждающегося рассудка, а при ярком свете полного разума, что и вовсе удача почти неслыханная. Столько узнал, столько для себя открыл, столько передумал, постиг законы природоустройства. Когда понимаешь сии естественные установления, то и страшиться особенно нечего. Вначале, согласно законам физики, текущие по твоим жилам жизненные ликвиды под воздействием низкой температуры остановят свой ток, что разлучит душевную субстанцию с телом. Потом в действие вступят законы химии, и организм, прежде именовавшийся Митей, начнет разлагаться на элементы. Но, вероятно, еще прежде того проявят себя законы биологии, приняв вид зубов и клювов лесной живности.
По насту неслась легкая пороша, понемногу присыпала валенки и тулупец. Митя сначала стряхивал, после бросил. Зачем?
Начали стынуть ноги, а некоторое время спустя вроде бы и перестали.
Мысли утратили четкость, но от этого сделались еще приятнее, как бывает перед погружением в сон. Было тихо-тихо, только поскрипывали ветки да шуршала ленивая поземка. Митя поднял глаза.
В промежутке меж серыми кронами чернело небо. Что там, за ним? Вдруг показалось, что, если получше всмотреться, непременно увидишь. Только надо поторопиться, пока из замерзающего тела не отлетела душа.
Он прищурился, и небо качнулось ему навстречу. Митя сначала удивился, но обнаружил, что удивляться тут нечему. Оказывается, он уже не лежал на земле, а парил в воздухе, меж острых верхушек елей, и это было замечательно хорошо. Посмотрел вниз – там, на снегу, вроде бы и в самом деле кто-то лежал, но смотреть на него было неинтересно, небо манило куда больше. Митя повернулся к нему лицом, и оно стало стремительно приближаться. Странно, оно было все такое же черное, даже еще черней, но вовсе не темное. Он понял: просто в небе таится такой яркий свет, что смотреть больно, от этого на глазах пелена. Поразительно, как он раньше этого не замечал. Чем выше поднимался Митя, тем больше глаза привыкали к этому сгущенному сиянию, и вот уже он летел не через черноту, а через янтарный свет, и что-то начинало просвечивать там, впереди – не то круг, не то некое отверстие. Митя сделал усилие, чтоб лететь еще быстрее, так ему не терпелось побыстрей разглядеть, что это за штука.
И он услышал голос – скрипучий, древний-предревний. Голос произносил что-то неразборчивое, но явно звал его, Митю. Однако именовал не Митей, а каким-то другим, не известным ему прозванием.
– Маалой, – взывал голос. – А, Маа-лой!
Стало быть, такое здесь, на небе, у него будет имя? Сначала был Дмитрий, потом Митридат, а отныне Маалой?
Он раскрыл глаза пошире и увидел: то, что издали представлялось ему кругом или отверстием, на самом деле – лик.
Вглядевшись в это лицо, он задрожал – такое оно было страшное: сморщенное, с косматыми седыми бровями, загнутым носом, а посередь носа бородавка.
И чудесный свет вдруг померк, снова стало темно. Митя заклацал зубами от холода и увидел, что вовсе он не на небе, а на снегу, под черными елями, а над ним склонилась жуткая старуха, вся замотанная в грязные платки.
– Малой, эй, малой, – проскрипела она своим дребезжащим голосом. – Ты чего? Примерз? Ну-тко, ну-тко. – И потянула к нему свои костлявые пальцы.
Это Баба Яга, понял Митя, нисколько не удивившись, однако перепугался сильно, еще больше, чем давеча волка. Костяная нога, седые усищи, железны зубищи. Еще премудрый Д'Аламбер писал (или барон Гольбах? – голова промерзла, утратила ясность), что не все в народных преданиях суеверие и вымысел. Сказочные драконы, к примеру, суть воспоминание о старинных пресмыкающихся, некогда населявших планету, и ныне остовы тех чудищ в разных местах откапывают. Вот и Баба Яга, выходит, не суеверие, а всамделишная лесная ведьма.
Сил сопротивляться злым чарам не было. И когда Баба Яга, кряхтя, взвалила Митю себе на закорки, он только жалобно захныкал. Она же тащила его куда-то – должно быть, за темные леса, за синие озеры, в черные болота, в глубокие норы – и ворчала:
– Ишь чижолый. Куды чя? До мельни? Не шдюжу, не молодайка. А вот я чя к Даниле-угоднику, ага. Пушкай он, Данила. Ага.
Смысла ее заклинаний он не понимал, ибо от холода, слабости и страха мозг совсем перестал источать мыслительную эманацию. Осталось только дикое, темное, из самого раннего детства: сейчас Баба Яга приволочет добычу в свою избушку на курьих ножках и сожрет, а косточки выплюнет.
Уйти на достойный, античный манер не получилось. Жизнь оканчивалась как-то очень по-русски, очень по-детски и ужас до чего страшно.
Митя тихо заплакал. Хотел маменьку позвать и даже увидел ее будто наяву – всю розовую, пахнущую фиалковой эссенцией, но маменька сидела перед зеркалом и не оглянулась на свое злосчастное чадо.
Ведьма положила пленника на снег посреди небольшой поляны. Приподнявшись, он увидел бревенчатый сруб с крошечным слюдяным оконцем, в котором горел противоестественно яркий свет. Курьих ног под избушкой Митя не разглядел – наверно, их снегом засыпало.
Старуха громко постучала в дверь железным кольцом, потом вдруг подхватила подол и с нежданной прытью припустила в чащу. Миг – и ее не стало, исчезла во тьме.
От диковинного поведения ведьмы Митя перепугался еще больше, хотя, казалось, куда уж больше-то?
Это она меня в подарок принесла, в подношение, догадался он. Некоему чудищу, которое над ней властвует, а стало быть, еще страшней ее. Кто там у няньки Малаши из лесной нечисти был кроме Бабы Яги? Лесной Царь, вот кто. Который к людям, проезжающим через лес, сзади тихонько в телегу садится и малых деточек крадет. Как она напевала, Малаша-то? «Царь Лесной подсядет, Митеньку покрадет».
Лязгнула дверь, и Митя увидел перед собой Лесного Царя.
Он был вовсе не похож на маскарадную фигуру, какую вчера изображал Наследник. Настоящий Лесной Царь оказался высок и худ, прям как палка, с длинной седой бородой и седыми же волосьями до плеч, а брови черные. И глаза тоже черные, блестящие. Они сурово воззрились сверху вниз на съежившегося Митю. Голос, звучный и вовсе не стариковский, грозно произнес:
– Это еще что за аппариция? Подкидышей мне только недоставало! Что я вам, Воспитательный Дом?
Перешагнул через Митю и как был, в одной черной, перепоясанной кожаным шнуром рубахе, выскочил на поляну. Повертел головой туда-сюда, но Бабы Яги, как уже было сказано, и след простыл.
Тогда Лесной Царь обернулся к Мите и излил свой гнев на него:
– А ну говори, чертенок, чей ты и из кадкой деревни! Из Салтановки? Иль из Покровского? Все равно дознаюсь и назад отведу! Ах, что удумали, плебеи неблагодарные!
Сердито топнул ногой в коротком войлочном сапоге.
– Ну, что разлегся? Холод в избу напустишь! Заходи, не здесь же тебя оставлять. Но утром, так и знай, отведу тебя к попу в Покровское. Пускай он с тобой возится! Ну, вставай! – прикрикнул так свирепо, что Митя попробовал подняться, вскрикнул.
– Что там у тебя такое? С ногой что?
Легко поднял мальчика, внес в избу. Жилище на первый взгляд было самое простое: сколоченный из досок стол, вместо стула долбленый пень, небеленая печь, но на стене висели полки с книгами, а единственная свеча горела невиданно ярким, немигающим огнем.
Вон как Лесной Царь живет. Может, не такой он страшный, как пугала Малаша?
Властитель леса снял с Мити тулуп, хотел снять и валенки, но Митя заверещал:
– Ай! Больно!
– Ага, значит, говорить ты умеешь. Ладно, после потолкуем.
Хозяин посадил Митю на лавку, вынул из сапога ножик и разрезал валенок. Пальцы у него были сухие, длинные, с коротко стриженными ногтями.
Осторожно потрогал лодыжку.
– Поня-ятно. На-ка, закуси. – Сунул в зубы сушеную баранку. – Зубами в нее, крепче.
И как дернет! Митя от боли баранку, что была тверже камня, пополам перекусил, слезы так и брызнули.
Но дед уже перетягивал ногу тряпицей, и боль отступила.
– Встань-ка.
Осторожно, еще не веря, Митя встал. Нога держала!
– Завтра похромаешь, а послезавтра будешь с горки кататься. Ерунда, обычный вывих, luxatio, – сказал старик.
Никакой он, разумеется, был не Лесной Царь, это Мите с холоду и страху такая чушь в голову взбрела, теперь сам устыдился, но услышать латинское слово из уст знахаря было удивительно. Образованный человек, ученый книжник проживает один, посреди дикого леса! Это ль не чудо? Митя воскликнул:
– Сударь, вас послало мне само провидение! Я вижу, что вы добродетельны и милосердны! Помогите мне спасти из рук злодеев одну благородную особу! Но прежде дозволено ли мне будет спросить, кто вы и отчего обитаете в сей пустыне на отдалении от людей?
Знахарь отпрянул, воззрился на Митридата с изумлением. Потом прищурился, помахал рукой у себя перед глазами, словно отгонял наваждение. Когда оно не исчезло, сложил руки на груди в позе древнего стоика. Ответил медленно, не отводя взгляда от Митиного лица:
– Кто я, желаете вы знать? Сие труднейший из вопросов, какие можно задать человеку. Всю свою жизнь я положил на то, чтоб найти ответ. Волей случая имею российское подданство и православную веру. Волей родителей ношу имя Данила. Нынешнее мое занятие – лекарь поневоле. А теперь, когда я, согласно законам учтивости, ответил на ваш вопрос, ответьте и вы мне, странный человечек, что вы такое? Инкуб? Гомункулус? Плод моего одичавшего воображения? Иль сам Сатана, принявший вид крестьянского мальчонки?
– Нет-нет, – поспешил рассеять его естественное сомнение Митя. – Я самый обыкновенный смертный. Хоть я и молод годами, но много читал и размышлял, отчего мой ум развился быстрее, чем это обычно бывает. Зовут же меня Дмитрий Карпов.
Он поклонился, и человек, назвавшийся Данилой, ответил ему не менее вежливым поклоном.
– Клянусь Разумом! – воскликнул он. – Я читал о подобных случаях, но всегда почитал эти рассказы преувеличением. Теперь же вижу, что и в самом деле встречаются разновидности рассудка, созревающие быстрее обычного, как бамбук набирает высоту много быстрее прочих деревьев. Могу ли я спросить, сколько вам в точности лет, уважаемый господин Карпов?
– Шесть лет и одиннадцать месяцев без одного дня.
Данила поклонился еще почтительней.
– Для меня истинное счастье познакомиться со столь редкостной персоной. В бытность мою студентом Московского университета у нас был один юноша много моложе и смышленее нас, ему едва сравнялось тринадцать, а всем нам, прочим, было кому шестнадцать, а кому и двадцать с хвостом. Но говорить так осмысленно и складно в неполные семь лет! Поистине это достойно восхищения!
– Благодарю. – Митя опять поклонился, подумав, что средь бревенчатых стен убогой избушки эта церемонность выглядит престранно. – Но у меня совершенно неотложное…
– Он умер, бедняжка, – вздохнул старик, печально покивав каким-то своим воспоминаниям. – От мозговой горячки. Так и не достиг четырнадцатого дня рождения. А какой мог вырасти талант, сколько бы пользы принес отечеству и, быть может, даже всему людскому роду!
Дождавшись паузы, Митя открыл рот, чтобы объяснить про пикинское злодейство и отчаянное положение Павлины Хавронской, но Данила снова заговорил:
– Жаль, что я не остался в стенах университета и не посвятил себя науке с ранних лет. Сколько времени потеряно попусту. Увы! Родитель с рождения записал меня в Семеновский полк и терпел мое учение лишь до тех пор, пока не открылась вакансия при дворе.
Только тут он спохватился, что не дает гостю и рта раскрыть. Виновато улыбнулся, а улыбка у лекаря поневоле (как он сам себя аттестовал) была мягкая, славная.
– Прошу покорно простить, что болтаю без умолку. Одичал тут, отвык без образованной беседы. Ко мне сюда заглядывают разве что местные поселяне, а какой с ними разговор? Вы уж, любезный господин Карпов, потерпите мою словоохотливость некое время. Вскоре я наговорюсь вдосталь, и умолкну.
Что ж, рассудил Митя, так и в самом деле будет резонней. Известно, что невыговорившийся человек и слушает менее внимательно, а до утра дормез с дороги никуда не денется, времени довольно.
– И какова была вакансия, которую при дворе сыскал ваш батюшка? – спросил Митя на правах знатока. – Благодарю.
Последнее относилось к предложенному угощению – хозяин налил из котелка пахучего ягодного взвару, придвинул хлеб, туесок с медом. Ох, как, оказывается, есть-то хотелось, после холодования, после страхов!
Данила сел напротив, отщипнул кусочек от каравая, но до рта так и не донес.
– По тем временам должность была не из завидных, письмовником к великой княгине Екатерине Алексеевне. Она почиталась при дворе фигурой малозначительной и даже достойной жалости, при этаком-то супруге. Это уж после все узнали, какова она – Catherine Le Grand![10]
– Это Вольтер ее так назвал, да? – вставил Митя. Надо же было показать ученому человеку, что он не только «говорит осмысленно и складно», но еще и чтит великих людей современности.
– Да, старый льстец выразился именно так. Он думал, что ведет переписку с мудрейшей из женщин, а на самом деле письма составлял я, ибо Екатерина не гораздо знала письменный французский, да и собственных мыслей имела немного. Я же в ту пору состоял при ней камер-секретарем. – Сказал и смутился – видно, подумал, что его слова звучат хвастовством. – Ах, друг мой, камер-секретарь – не Разум весть какая значительная должность, и высокого чина к ней не полагается. Хотя, с точки зрения многих, состоять при монархе уже само по себе есть высочайшее из званий. Бедные мотыльки! Сколько их опалило крылышки о языки сего ложного пламени и, хуже того, сожгло свои души! Если б вы когда-нибудь увидели Екатерину вблизи, для вас с вашим умом и проницательностью не составило бы труда разглядеть ее внутреннюю суть. Это не глупая, но и не умная, не злая, но и не добрая женщина, единственный талант которой заключается в безошибочном нюхе. Она умеет угадывать чаяния активной фракции еще прежде того, как эта часть общества сама о них догадается. Вот в чем состоит истинный дар прирожденного властителя.
О том, что государыню он видел ближе, чем любой камер-секретарь, Митя благоразумно промолчал, на неизвестно чем вызванную убежденность в своей проницательности скромно потупился, но последнее суждение диковинного лекаря заставило его наморщить лоб.
– В самом деле? – спросил он. – Вы полагаете, что вся суть власти в умении угадывать желание подданных? А что это за активная фракция, о которой вы помянули?
– Властителю довольно угадывать чаяния не всех подданных, а лишь той их части, от которой что-то зависит. Я называю это сословие активной фракцией общества. В разных странах и в разные времена количество и состав сей когорты неодинаковы. В позднем Риме, к примеру, бывали времена, когда к активной части следовало отнести лишь преторианскую гвардию императора. Да и у нас в России влиятельная фракция общества не больно велика: дворянство, чиновники, богатые негоцианты, высшее духовенство. Истинный правитель чувствует устройство и настроение активной прослойки лучше, чем она сама, и никогда не позволяет волне событий опередить себя – всегда удерживается сверху, на самом ее гребне. Иные ученые мужи, начитанные в истории, недоумевают, как могли гнусные тираны вроде Тиберия или Иоанна Грозного долго править, не будучи истреблены своими подданными. А секрет прост – сии кровопийцы делали лишь то, чего в глубине души желала активная часть общества, иначе им бы ни за что не удержаться.
Митя задумался над сказанным, и сразу же возникли возражения, но Данила уже перескочил на другое.
– Я постиг эту истину еще в молодости и видел для отечества благой путь лишь в одном: всемерно расширять численность активной фракции, для чего надобно включить в ее состав сословия, никогда прежде к государственным решениям не допускаемые. Когда молодая государыня повелела созвать Уложенную комиссию, мне помнился в том прообраз российского Парламента. Я льстился, что Екатерина слушает мои доводы и внимает им благосклонно. – Говоривший горько усмехнулся. – Смешной мечтатель! Путь к рассудку Екатерины лежит не через уши, а через иное отверстие. Другие умники, которых я в своей наивности полагал ничтожествами, досконально постигли сию истину много раньше меня. Днем Екатерина могла слушать своих ученых советчиков, к числу коих принадлежал и я, но ночью ей пели иные соловьи, и их голос звучал убедительней. Сколько раз, ценя мои труды, она предлагала мне награды и богатства, я же отказывался, счастливый уже тем, что причастен великому делу. Другие были не столь щепетильны…
Лесной житель рассказывал небылицы, но не верить ему было нельзя – так просто и печально он говорил. Нет, на враля и досужего хвастуна он не походил. Видно, и в самом деле была в его жизни пора, когда он витал в горних высях государственной власти.
– Кто-нибудь из фаворитов навлек на вас опалу? – спросил Митя, почти не сомневаясь, что догадка верна. – Орловы? Или князь Таврический?
Данила гордо покачал головой.
– Нет, я удалился сам, когда понял, что мои прожекты не более чем химеры. Потом я много странствовал. Смотрел и слушал, хотел узнать и понять природу и людей. Узнал многое, особенно про природу. Понял же значительно меньше, особенно про человека. Ну, а когда вернулся в родные Палестины, случились Обстоятельства, после которых я удалился в сии глухие леса.
Слово «обстоятельства», само по себе мало что значащее, старик произносил, словно некое нарицание. По тону можно было предположить, что именуемое таким образом событие было не из веселых.
Повздыхав, Данила продолжил:
– Вижу, господин Карпов, что вы не только образованны и умны, но еще и обладаете утонченной душой, которая удерживает вас от расспросов. Ценю и благодарю. Нечто подсказывает мне, что в будущем мы с вами, возможно, сойдемся ближе, и тогда я расскажу вам о своем несчастье. Пока же вам довольно будет знать, что я бежал людского общества не как отшельник, ищущий святости. Просто из-за Обстоятельств человеческие лица сделались мне невыносимы. Однако и в сих кущах я не нашел полного уединения! В годы странствий, желая постичь тайну, имя которой Человек, я изучал в Падованском университете медицину. К тайне, разумеется, так и не приблизился, ибо она заключена не в телесном нашем устройстве, но врачеванию обучился. Как-то раз, тому два года, по глупости вправил кости одному местному жителю, который спьяну угодил под собственную телегу. И с тех пор не стало мне покоя. Потянулись болящие, увечные, и всех их я лечу, по собственной глупости и безволию. А поскольку платы никакой не беру, то туземные жители вбили себе в голову, будто я – угодник и святой старец. Ходят, глазеют, враки про меня плетут, еду носят, хоть мне и не надобно. Грибов с ягодами да трав для пропитания вполне довольно.
Бывший камер-секретарь и путешественник, а ныне лекарь сердито плюнул, поправил пальцами фитилек своей замечательно яркой свечи, которая от прикосновения запылала еще пуще. Митя заметил, что за все время беседы воска на ней нисколько не оплыло.
– Это мое изобретение, – пояснил Данила, поймав взгляд своего маленького гостя. – Добавляю в пчелиный воск экстракцию одуванчика и еще некоторых растений, тогда свечки хватает на целую ночь и еще на полдня, а свету она дает, будто целая люстра. Одна беда, препятствующая повсеместному использованию сего светильника: когда фитилек изгорает до конца, накопившиеся испарения вырываются наружу, и происходит подобие взрыва. Но я до конца свечу никогда не жгу, заливаю особым раствором. – Он показал на пузырек с белесой жидкостью, помолчал.
Сконфуженно улыбнулся, развел руками.
– Ну вот, накинулся на вас с разговорами, как отпостившийся на скоромное. Расскажите теперь вы мне, что вас привело в лес – одного, да еще после темноты. Тут ведь и волки водятся.
Внезапно Данила нахмурился.
– Постойте! Вы вначале стали говорить что-то про злодеев и благородную особу, нуждающуюся в спасении? А я в смысл слов не вник и поразился лишь неожиданной складности речи! Ради Разума простите меня, друг мой! О, как я суетолюбив и глухосердечен! Что за беда с вами стряслась?
Вот и правильно, что дал человеку выговориться, понял Митя. Теперь он и выслушает внимательней, и отнесется добрее.
– Да-да! – заговорил Митридат, с каждым словом все больше волнуясь. – Случилось ужасное несчастье, подлое преступление! Я путешествовал из Санкт-Петербурга в Москву, сопровождая даму, достойную самого уважительного отношения. Не только из-за своей знатности – а Павлина Аникитишна принадлежит к одному из наисиятельнейших семейств империи, – но главным образом из-за своих несравненных достоинств. Несчастье ее жизни – редкостная красота, из-за которой…
– Стойте! – Старик поднял ладонь. – Мой юный друг, по вашему волнению я догадываюсь, что вы повествуете о чем-то чрезвычайно важном, однако слова проистекают из ваших уст с недогонимой ретивостью, и я половины сказанного не понимаю. Будьте милосердны к тем, кто не наделен, подобно вам, сверхъестественной скоростью языка и мысли, ибо…
Митя понял, что по всегдашней дурной привычке глотает слова. Данила же, наоборот, изъяснялся столь неспешно и по старомодному витиевато, что пришлось и его, в свою очередь, перебить.
– Хорошо хорошо! – нетерпеливо махнул рукой Митя и постарался выговаривать слова медленней. Это было и правильней, потому что на ходу надо было еще соображать, о чем говорить, а о чем лучше умолчать.
К примеру, имя светлейшего князя Зурова поминать не следовало. Кто ж осмелится идти против самого Фаворита?
– Мы ехали в карете, я и госпожа Хавронская. И настиг нас некий страшный человек, который слуг умертвил, а Павлину Аникитишну пленил. Такое ему было приказание от некого значительного лица, одолеваемого сладострастным безумием…
Вот так, не пускаясь в излишние подробности, все и рассказал.
Данила слушал нахмурясь. Сначал сидя, потом вскочил, стал расхаживать по горнице.
Закончил Митя словами:
– Надо в деревню бежать, за подмогой. А еще лучше солдат. Этих-то пятеро, и все с оружием. К исправнику нужно.
Хозяин яростно подергал себя за седую бороду.
– Исправник в Вишере, это двадцать верст. Да и знаю я его – дурак, ничего не сделает. Не нужно нам никого. За ночь они никуда не денутся, а перед светом пойдем на дорогу, посмотрим, что за Пикин такой. Разберем это дело сами.
Митя так и ахнул. Хороши разбиральщики, старый да малый!
– Сударь, вы же не рыцарь Ланцелот, а лекарь! – попробовал он образумить расхрабрившегося деда.
А тот только ногой топнул:
– Рассердили вы меня, Дмитрий Карпов, своей историей. Вижу, пока я в лесу от людей спасался, жизнь еще подлей, чем прежде, сделалась, а я подлость никогда сносить не умел. Вы правы, я нынче человек мирный и смирный, ремеслом врач, но, клянусь Разумом (и можете мне верить, ибо Данила Фондорин никогда не лжет), гнев лекаря – штука куда более опасная, чем полагают некоторые.
Глава одиннадцатая
Человек-невидимка
– Шеф, вы что, больной? Врача вызвать? – Валя дернула Николаса в противоположную сторону. – Какое метро? Вы болван, Тюбинг! Во-первых, ночь-полночь, а во-вторых, мы же на вашем панцервагене приехали!
Побежали к припаркованной за углом машине, сели, но отъехали недалеко.
Клубные вышибалы оказались ушлыми: не только вызвали милицию, но еще, оказывается, запомнили, на каком автомобиле приехали долговязый мужчина и его эффектная спутница – приметили их еще, когда Фандорин собирался встать перед клубом, а потом отчего-то передумал и отъехал подальше. Машина ГНР, группы немедленного реагирования, была неподалеку. Буквально через минуту после того, как Николас сел за руль, и через пятнадцать секунд после того, как он с третьей попытки завелся, «жигуленку» перегородил дорогу милицейский «уаз».
– Ты пистолет выкинула? – нервно спросил Фандорин, вылезая из машины и суя руку в карман за документами.
Ах, как неудачно! Объясняйся теперь, что да почему. А бандиты тем временем очухаются и примут меры. Выйдешь из отделения – тут тебя и встретят.
– Вынул руку, завалю! – бешено заорали на магистра из темноты.
Лязгнул затвор автомата, и Николас испуганно вскинул руки кверху. Ну конечно, их принимают за мафиози, пытающихся скрыться после «разборки». Изрешетят, и будут правы.
– Руки… на капот!
Оперся ладонями о холодный металл. Валя встала рядом.
– У тебя документ какой-нибудь есть? – шепнул Фандорин.
Валя не ответила. Щурясь на свет фар, оглянулась через плечо. Действительно, что толку от документа, если бы он и имелся? Там будет написано «Валентин Сергеевич Тлен». И начнется цирк шапито.
– Пардон, шеф, я катапультируюсь, – шепнул человек будущего.
Легко, прямо с места, Валя вскочила на капот, спрыгнула по ту сторону «жигулей» и метнулась из луча в темноту.
– Стой, застрелю! Саня, за ней! – заорали милиционеры, но дробный стук каблучков доносился уже из подворотни, так что стрелять было некуда.
Один (очевидно, тот самый Саня) кинулся было вдогонку, но передумал:
– Ну ее. Нашли пацана по дворам бегать.
Другой, матерясь, наскоро обшарил Фандорина, безо всяких на то оснований двинул дубинкой по бедру. Николас только ойкнул, протеста заявлять не стал. Полиция любой страны мира при подобных обстоятельствах вела бы себя точно так же.
– … нам этот… расскажет, как эту спортсменку зовут, – сказал третий, светя фонариком в Никины права. – Правда, гражданин Фандорин?
И дубинка еще раз стукнула его по бедру – не слишком сильно, как бы предупреждающе.
– Девушку я подобрал на улице, она голосовала. Знаю только, что зовут Марго, – на ходу сочинил Николас, зная, что ложь звучит вполне правдоподобно – по ночному времени таких «голосовальщиц» в Москве сколько угодно. – Да не в ней дело. Возле клуба на нас напали трое, из джипа. Это бандиты, идемте скорей. Да уберите вы свою палку! Я президент фирмы «Страна советов», вот карточка!
Бог знает, что больше подействовало на защитников правопорядка – звучное слово «президент» или солидное название фирмы, но руки позволили опустить и отвезли ко входу в «Холестерин».
Но джипа след простыл, лишь на тротуарре осталось несколько капель крови – у очкастого из носу натекло. Наблюдательность вышибал оказалась избирательной. Фандоринскую «четверку» они запомнили, а вот номер роскошного джипа и даже его цвет у них в памяти не отложились. Хуже того, оба в один голос утверждали, что Фандорин и его «полоумная девка» сами накинулись на приличных молодых людей и избили их чуть не до полусмерти.
– Поедем в отделение, разбираться, – решил старший группы, а Николасу сказал. – Если от потерпевших не будет заявления, утром выпущу. Само собой, штраф заплатишь.
Покраснев, Фандорин шепнул:
– А давайте я вам прямо сейчас штраф заплачу. В двойном, даже тройном размере. Зачем вам меня держать? Личность мою вы уже установили, а?
Никогда в жизни Николас А. Фандорин не позволил бы себе подкупать офицера милиции, да еще находящегося при исполнении обязанностей! Да он даже от гаишника за какое-нибудь нарушение рядности ни разу не откупался – каждый раз, как последний идиот, вместо того чтоб сунуть полсотни, тратил по два часа на оформление штрафа через сберкассу и еще гордился этим.
Но тут дело шло о жизни и смерти. Пока будешь сидеть в милиции, «приличные молодые люди» успеют подготовиться к новой встрече.
Лейтенант подумал над Никиным предложением. Поманил одного из вышибал.
– … с ним, с цветом и номером. Марка-то какая?
– У джипуськи? «Брабус».
Милиционер взял Фандорина за локоть, повел к «уазу». Миролюбиво объяснил:
– Не, не получится. Лохи на «брабусе» не ездят. На кой мне лишние заморочки? Посиди до утра, не рассыпешься.
В машину Нику усадили без наручников и не в «кошелек», как какого-нибудь пьянчугу, а на заднее сиденье.
Думай, думай, лихорадочно повторял Николас. Что-то надо делать, но что?
Позвонить капитану Волкову, вот что!
Лучше пусть сомнительный, но все-таки знакомый и вменяемый милиционер, чем эти ночные охотники с автоматами и дубинками.
Он выудил карточку оперуполномоченного, стал набирать номер.
– А ну убрал живо, – сказал сидевший рядом сержант.
– Один звонок – имею право!
– Щас будешь иметь и справа, и слева, – пригрозил служитель закона.
Это был явный и грубый произвол. В другое время Фандорин непременно пошел бы на принцип, но не сейчас, не сейчас.
– Лейтенант, – наклонился он вперед, к офицеру. – Я все-таки заплачу вам штраф. Если позволите сделать телефонный звонок.
Тот подумал, шмыгнул носом.
– Ладно. Гони сто баксов и звони.
– Тысячу рублей, – сказал Фандорин упавшим голосом. – Больше не могу.
– Давай.
Кажется, лейтенант согласился бы и на пятьсот, да ладно, не до этого.
Набирая номер, боялся только одного – услышать в трубке: «Аппарат абонента выключен или временно недоступен». Как-никак третий час ночи. Даже пошептал: «Господи, Господи!»
– Аюшки, – откликнулся Волков бодрым, нисколько не сонным голосом.
– Это Фандорин. У меня новости. Срочные. Я…
– Вы где? – перебил капитан.
– В милицейской машине. Меня арестовали…
– Не арестовали, а задержали, – поправил старший группы.
– Меня задержали. Милиционеры. Везут я отделение.
– Какое? – спросил оперуполномоченный.
Следовало отдать ему должное – разбуженный среди ночи, он соображал быстро и вопросы задавал только самые необходимые.
Фандорин покосился на каменные лица соседей. Лучше не спрашивать.
– Не знаю. Я недалеко от Охотного ряда.
– Ясно. Буду.
И в трубке раздались гудки.
Пока составляли протокол, пока задержанного «пробивали по ЦАБу и ЗИЦу» (Николас так и не понял, что это означает), пришлось сидеть в «обезьяннике» – зарешеченной конуре. Прямо на полу спали двое пыльных мужчин и одна дама, еще более неопрятного вида. За «обезьянником» находились две двери с маленькими окошечками. Судя по голосам, там тоже кто-то сидел – видимо, нарушители посерьезней, чем хулиган Н.А. Фандорин и его товарищи по клетке.
Собственно говоря, магистр не сидел, а ходил. Дело даже не в том, что сесть было не на что – в конце концов, соседи отлично устроились прямо на полу. Взвинченные нервы отвергали статичность, требовали мышечной активности.
Перемещаясь из угла в угол, Николас преодолел расстояние, превышающее длину Тверской улицы. Волков появился, когда усталый магистр был уже на виртуальном подходе к улице Правды, если не к стадиону «Динамо».
Освобождение произошло на удивление просто, без каких-либо формальностей. Волков пошептался с дежурным, и Фандорин тут же получил назад изъятые при задержании вещи: телефон, документы, ключи, бумажник, металлическую расческу.
– Где можно с человеком поговорить? – спросил Волков.
– Да где хочешь, кабинеты все пустые, – ответил дежурный. – На тебе ключ от зам-полиса, там сидалы мягкие.
Поднялись на второй этаж, в комнату с табличкой «Заместитель начальника по работе с личным составом». Сели в потертые кожаные кресла, должно быть, помнящие еще времена Народного комиссариата внутренних дел.
– Ну? – спросил капитан, доставая сигареты. – Потолкуем без фуфла?
– Без фуфла так без фуфла. – Николас яростно потер пульсирующий висок, отгоняя головную боль – она сейчас была совершенно ни к чему. – Скажите, капитан, какая у вас зарплата?
Волков вопросу нисколько не удивился.
– Две восемьсот. А что?
Зато удивился Фандорин. Оперуполномоченный уголовного розыска, человек общественно значимой, да еще и опасной профессии, получает меньше трех тысяч рублей в месяц? Но в Москве содержать на эти деньги семью совершенно невозможно!
– А ваша «нокиа» стоит шестьсот долларов. Это вам что же, на Петровке такие выдают?
– На Петровке нам выдают хрен с бантиком, – усмехнулся Волков. – Намек понят и принят. Сейчас последует чистосердечное признание. Я, гражданин Фандорин, подрабатываю на стороне.
– Чем же, позвольте узнать?
– Как все нормальные люди – тем, что умею. Врач из поликлиники после работы бегает по частным пациентам, так? А у меня другая профессия. И пациенты другие. Волкова ноги кормят. – Капитан оскалился. – Что рот разинули? У нас Россия, а не Европа. Испокон веку так заведено: государство дает служивому человеку должность, а кормить себя он должен сам – как говорится, в меру своей испорченности. Да вы не пугайтесь, я честный мент, а не отморозок, я за кровь бабок не беру.
– А за что берете? В моем случае вы явно трудитесь не за страх, а за совесть. Я вас среди ночи разбудил – и ничего, сразу примчались.
Фандорин ждал чего угодно, только не прямого и ясного ответа. И ошибся.
– Мой мирный сон прервался минут за десять до вашего звонка. Дурная привычка – не выключать на ночь мобилу.
– Кто звонил?
– Вам имя сказать? Я его не знаю. Только голос. Добудь, говорит, нам Англичанина. Больно шустрый и охрана у него крутая. Премию гарантируем. Так что, когда вы позвонили, я уже был, как огурчик. Ломал репу над тремя вопросами. Первый: как вас добыть. Второй: почему у вас такое погоняло – Англичанин.
Все про меня выяснили, тоскливо подумал Николас. Хорош корифей мудрых советов – сам прибежал к волку в лапы.
– А третий вопрос такой, – продолжил милиционер после паузы. – Не послать ли их в слово из пяти букв.
– Какое? – широко раскрыл глаза Фандорин. – То есть нет, я не то хотел спросить. Я не понимаю, вы на них работаете или нет?
– Работаю, – спокойно ответил Волков. – Если они не бандосы. А если они хотят человека накрячить – я в такой хоккей не играю.
– Накрячить?
– Слово такое, новое. Недавно появилось. Можно по-другому сказать: грохнуть, замочить, завалить, закопать…
– А Шибякин? – прервал Ника жуткий синонимический ряд. – Его-то ведь накрячили тоже ваши «пациенты».
– Не думаю. Зачем им? Они с парашютистом потолковать хотели, да что-то у них там не заладилось. То ли случайно свалился, то ли сам сиганул. С вами дело другое. Грохнут они вас, точно. Этот, который звонил, прямо трубку зубами грыз, а раньше всегда такой культурный был, вежливый.
Должно быть, тот молодой человек в темных очках, подумал Фандорин и поежился.
– Сергей… простите, не запомнил отчества…
– Да какое, блин, отчество. Просто Серега, – буркнул оперуполномоченный.
– Сергей, я вас очень прошу. Если вы в самом деле не наживаетесь на крови, расскажите мне все с самого начала, – тихо попросил Николас, глядя Волкову в глаза. – Что вы знаете про этих людей? Кто они? Чего от меня хотят?
Капитан отвел глаза, пустил из носа струйку дыма.
– Надо было, конечно, их сначала покрутить, разобраться, что за лоси такие, – сокрушенно сказал он. – Я всегда так делаю. Но очень уж впечатлительно подъехали. Позвонил с проходной дежурный, говорит: Серый, тебе пакет. Разворачиваю – мобила, вот эта. С вип-контрактом: болтай сколько хочешь. Оформлена на мое имя, честь по чести: адрес, паспортные данные. Ну, я намек понял: люди серьезные, заходят капитально. Ладно, думаю, поглядим, что дальше будет. Только я в кнопочках разобрался, мотивчик подобрал – машинка и зазвонила. Мужик какой-то, вежливый. Ну как, спрашивает, игрушка? Я ему: игрушка хорошая, дальше что? Он говорит: это ведь вы представляете шестнадцатый отдел в оперативно-следственном штабе по делу «Неуловимых мстителей»? А дело-то закрытое, я вам рассказывал. Молчу, жду. Этот говорит: предлагаю временную работу по совместительству. Никакого криминала. Интерес у нас общий, мы этих уродов тоже ищем. Давайте помогать друг другу. Что мы узнаем – я буду вам сообщать, это вам для карьеры пригодится. А вы, пожалуйста, извещайте меня. Плачу три сотни в день плюс премиальные за результативность. Я, как лох, спрашиваю: триста рублей? Он смеется: американских. Ничего, а? – развел руками Волков. – У меня сын, еще дочка в Ногинске от первого брака, на юридический поступать хочет. Там знаете сколько платить надо? Репетиторы, шмепетиторы, туда-сюда. А тут три центнера баксов в сутки! И, главное, дело чистое: человек свою жизнь защитить хочет.
– Который? – быстро спросил Фандорин и прикусил язык. Про список приговоренных капитану знать было пока незачем.
– В смысле? – не понял капитан. – Что за человек? Не знаю, но какой-то крутой шишкарь, это уж точно. Я неделю на них работаю, так? Две сто получил повременки, плюс штуку за копию экспертизы по парашютисту, плюс еще штуку за знакомство с вами. Четыре тысячи сто долларов – не хрен собачий. Да еще благодарность по отделу за то, что личность трупняка установил, Шибякина этого. Думаете, я от вас это узнал?
– Нет, не думаю.
– И правильно. Это мне вежливый слил: и имя, и адрес, и даже подъездный код. Мы, говорит, там провели изыскания, ничего интересного не нашли. Теперь пускай ваше ЭКУ поработает.
– Кто-кто?
– Экспертно-криминалистическое управление, это на Колобках. Мужики свое дело знают. Ну вот, сижу я, кумекаю, как бы начальству объяснить, откуда я парашютиста вычислил, а тут аккурат вы звоните, и тоже про Шибякина. Все и сложилось. Докладываю: так, мол, и так, по собственной инициативе провел по Останкину литерное мероприятие номер семь (это у нас так по-официальному «Николай Николаич» называется, наружное наблюдение), который вывел меня на нужный адрес.
– А почему по Останкину? Ведь дом на улице Лысенко?
Волков засмеялся.
– Это вы у нас проходите как Останкин. Ну, из-за роста. К вам большой интерес, вы ведь у нас единственный из установленных «кандидатов» – тех, кого «Неуловимые» приговорили, но еще не шмякнули.
От крошечного, шипящего по-змеиному словечка «еще» Николас передернулся. Так передать Волкову список или нет, заколебался он и тут же вспомнил древнюю максиму: если колеблешься, воздержись от действия.
Воздержался.
– Другой «кандидат» – хозяин моего вежливого нанимателя, – продолжил капитан. – Умный, видать, человек. Сообразил, что приговор – не туфта. Вот и нервничает теперь. Что-то у него со вчерашнего дня переменилось. Когда я про ваш приговор им рассказал – ну, тот, что в кармане у парашютиста нашли, вежливый просто велел к вам наведаться, понюхать, чем вы пахнете. Я доложил: интересный господин, по виду – ботаник, но, похоже, прикидывается. Ладно, говорят, разберемся. А сегодня вдруг такой на вас наезд. Узнали они про вас, Николай Александрович, что-то такое, чего мне вы не рассказываете.
Оперуполномоченный выжидательно уставился на Фандорина, а тот лишь вздохнул. Что за детский сад – снять маркировку с факса и на том успокоиться. Для серьезной структуры не бином Ньютона и даже не правило буравчика. Получили предостережение и в два счета установили отправителя. Эх, надо было Валю хотя бы на почту послать…
– И я их понимаю, – заметил оперуполномоченный, так и не дождавшись ответа. – Вы в натуре загадка, всякий напугается. Как вы парашютиста-то раскололи, а? Суток не прошло. И про телохранительницу вашу мне тоже рассказали. Не быки с бритыми загривками, как у всех, а Никита. Круто!
– Никакая я не загадка. И действовал я в одиночку, – хмуро сказал Николас, отлично понимая, что милиционер уже нарисовал себе картинку, от которой так просто не откажется.
– Ага. А чудесная барышня со своим теквондо к вам на помощь с небес слетела, и туда же потом упорхнула. Может вы, Николай Александрович, шпион? Нет, правда, чего они вас Англичанином называют?
Фандорин поморщился. Этого еще не хватало! С его-то биографией и нынешней российской шпиономанией!
– Если б я был шпион или, как вы говорите, «крутой шишкарь», я бы не обращался за помощью к вам.
Волков обдумал сказанное. Качнул головой с видом принца Датского, произносящего:
«Есть многое на свете, друг Гораций…»
– Ладно, мое дело теперь сторона. Разбирайтесь с ними сам. Я что? Когда снова позвонят, пошлю их в столицу Херсонской области. И предупрежу, конечно: если с гражданином Фандориным случится бяка, МУРу известно, кого искать. Только хрен они меня послушают. Вас позвал на беседу серьезный человек. Хорошо позвал, не по-детски. От таких приглашений не отказываются. А вы отказались. Да еще обидным образом. Теперь он вас еще больше бояться будет. А серьезные люди бояться и обижаться плохо умеют. У них на такие заморочки ответ один.
Капитан чиркнул большим пальцем по шее.
– Что же мне д-делать? – воскликнул Ника, заикнувшись от волнения. – Поверьте, Сергей… Ну хотя бы просто представьте, что я самый обыкновенный человек, никем и ничем не защищенный! Жил себе обыкновенной жизнью, и вдруг ни с того ни с сего обрушился какой-то кошмар, какая-то жуткая бредятина!
– Бывает, конечно.
Волков посмотрел на Фандорина скептически, но, кажется, внезапно разглядел в лице собеседника нечто для себя новое. Глаза капитана сощурились, в них мелькнула искорка. Может быть, это даже было сочувствие.
– Тогда караул. У тебя что, никакой крыши нет? – спросил оперуполномоченный, жалостливо морщась. – И разрулить некому?
Ника помотал головой.
– Ну, если не врешь… – Волков пожал плечами. – Исчезни. Вообще исчезни. Превратись в человека-невидимку. Кино смотрел? Нет? Это про одного чувака, который…
– Я читал роман. Как это – «исчезни»? У меня семья, работа!
– Какая, блин, семья? Домой и в офис ни ногой. Где обычно бываешь, не появляйся. Никому не звони. Мобильник свой выкинь. Сейчас я тебя отсюда выведу и, как говорится, растворись в ночи.
– И… и сколько это будет продолжаться?
Милиционер только вздохнул.
– Если плохо спрячешься – недолго. Ладно, запиши номерок. Звать – Танька. Позвони через денек-другой – только из автомата, понял? Скажешь… скажешь: из телецентра, мол. Если будет что новое, Танька тебе скажет.
– Жена? – спросил Фандорин, доставая ручку.
– Нет, шалава одна подследственная. Но девка хорошая. Не продаст.
Исчезнуть? Спрятаться? Но как, куда?
– Имэджин, два дня подряд в мужском – прямо поголубела вся! Сегодня с утра так ломало, шреклих! День-то ван хандред персент розовый. Смотрюсь утром в зеркало: май гош, ну нельзя быть красивой такой! Сейчас бы красное афро, сапожки бисерные (помнишь, такие, с бантиком на щиколотке), шарфик шелковый, чтоб развевался по ветру, да пройтись по Тверской-штрассе – все мужики бы попадали. А нельзя, ферботен. Что я, дура, что ли, не понимаю? Твои киднэпперы девушку ищут. Найдут – сделают ей абтрайбунг, без наркоза. Ужас, до чего надоели бутсы и лысая башка! Как бомж, как бомж! Только здесь, на даче, релакснулась. Ничего, что я не накрашена?
Валя отвернулась от плиты, на которой доходил до кондиции какой-то особенный, замысловатый омлет, цапнула со стола зеркальце. Повертела головой, поправила кудряшки.
– Альпентраум! – вздохнула она. – Парик неудачный – сунула в сумку первый попавшийся. Про наряд я вообще молчу… Ладно, кантри-хаус есть кантри-хаус. Будем проще, да?
За два дня, проведенных в убежище, Фандорин так устал от одиночества и страшных мыслей, что голос Вали казался ему ангельской музыкой. Ассистентка привезла из Москвы еды и газет, а главное – вывела узника из мерзкого, выморочного состояния, когда явь путается со сном и непонятно, какой из этих кошмаров хуже.
Расставшись с капитаном Волковым, Николас все-таки сделал один звонок – с Центрального телеграфа, Вале. Нужно же было выяснить, добралась ли беглянка до дому.
Оказалось, что отличным образом добралась. Мало того – выслушав сбивчивую скороговорку шефа («срочно исчезнуть… не знаю, куда… звонить нельзя… придумай что-нибудь для Алтын» и прочее), фандоринская помощница проявила недюжинное присутствие духа. Можно сказать, вытащила из бездны отчаяния.
– У вас сольди есть? – перебила она начальника. – Сколько?
Ника полез за бумажником.
– Полторы тысячи. И мелочь.
– Генуг. Берите тачку, гоните к нам в кантри-хаус. Помните, вы там были – на аниверсэре у Мамоны. По Рублевско-Никольскому до сорок третьего километра, там указатель. В доме сейчас никого, пусто. Я звякну на проходную, у них дубликат ключей. Сидите там, ждите. Во фридже должна быть еда. Ну, фромаж там, сосиссоны. Как-нибудь перетопчетесь до моего приезда. Телефонирен не буду. Они знают, что я ваш секретарь – могут прослушивать. К бэйбиситтеру вашему заеду, скажу, чтоб задержалась.
Ну у кого еще есть такой чудесный ассистент? От Валиного здравомыслия, хладнокровия, четкости Фандорин чуть не прослезился. И паника сразу отступила, потому что ближайшее будущее обрело логику и стройность.
Первый же остановленный таксист согласился увезти ночного путешественника за город. Требовал сначала две тысячи, но согласился и на полторы – Фортуна добрела к жертве роковых обстоятельств прямо на глазах.
Загородный дом у Валиной родительницы был шикарный, расположенный в знаменитом коттеджном поселке «На горах». Шесть спален, садик с беседкой и фонтанчиком, в подвале биллиардная, наверху солярий – в общем, новорусский парадиз в ассортименте. Одна беда: Николас так и не понял, как включается отопление, и оттого очень мерз. Для тепла ходил в стеганом, расшитом павлинами халате Мамоны и ее же овчинных тапочках (хозяйка была гренадерского телосложения, так что и халат, и тапочки пришлись впору).
Свет включать остерегался, чтоб не вызвать ненужного интереса со стороны обитателей поселка. Поэтому новости по телевизору не смотрел, питался колбасой, от нечего делать разглядывал близлежащую территорию: с трех сторон соседние дома, примерно такие же, как этот; с четвертой – трехметровый дощатый забор со спиральной колючей проволокой. Привольно живут в России богатые люди, ничего не скажешь.
Наконец, на исходе второго дня заточения, появился Валя. Примчался на мотоцикле, весь забрызганный грязью. На ходу крикнул:
– Ой, не могу! Сил больше нет!
Побежал снимать мужскую одежду. И вот теперь, переодевшись в цветастый халатик, колдовал у плиты, готовил горячий ужин. Николас сидел у кухонного стола и наслаждался Валиным щебетанием. Как хорошо! Жив, не один, скоро нагреются батареи, а когда стемнеет, можно зажечь свет.
Смущало лишь то, что Валя как-то уж очень быстро и решительно начала злоупотреблять ситуацией.
Во-первых, сразу перешла на интимное «ты». Такая уж, видно, тенденция образовалась в окружающем Николаса социуме: нынче никто с ним особенно не церемонился, что, вне всякого сомнения, свидетельствовало о понижении его общественного статуса. Глава фирмы, солидный человек превратился в невидимку, в тень. К тени на «вы» не обращаются. Откуда это: «Тень, знай свое место»?
Во-вторых, Валя слишком беззастенчиво воспользовалась ролью связной между узником коттеджного гетто и внешним миром. На вопрос, удалось ли связаться с Алтын, коварное существо с невинным видом ответило:
– Положила ей в мэйл-бокс записку. Звонить-то было нельзя. Подпись твою подделывать я умею, а текст настучала на компьютере. Мол, прости, любимая, что-то я устал от фэмили-лайф, хочу некоторое время побыть ганц аляйн.
Ника аж застонал, а Валя покровительственно заметила:
– Она тебя только больше ценить станет. Это я тебе как женщина говорю.
А может, и к лучшему, мрачно подумал Фандорин. Пускай лучше обижается, чем психует. Завтра утром вернется из Питера, откроет почтовый ящик… И что подумает? Что у меня завелась другая женщина?
– Вот что, – сказал он вслух. – Заедешь туда еще раз. Свое письмо вынешь, другое положишь. Я сейчас напишу.
И написал.
«Алтынка, я на пару дней уехал. Срочное дело, даже Лидию Петровну не предупредил. Поздравь меня: наконец подвернулся солидный клиент – помогла твоя реклама. Правда, ехать нужно далеко, в Архангельскую губернию. Пробовал тебе дозвониться, но не получилось. Боюсь, что и оттуда позвонить не смогу. Жуткая тьмутаракань, вряд ли роуминг достает. Вернусь – расскажу. История просто фантастическая.
Баронет»
Вроде бы тон выбран правильный: шутливый, немножко азартный. Должно сработать.
Валя вполне могла бы положить записку в карман халата, но вместо этого медленно задрала подол и засунула сложенный квадратик за резинку кружевных трусиков. Николас, страдальчески вздохнув, отвернулся.
– Не знаю, кого больше бояться – этих мафиози или Мамону, – стрекотала коварная, накладывая Нике большую порцию омлета с трюфелями. – Если она пронюхает, в какую я истуар вляпалась, церемониться не станет. Отправит под конвоем куда-нибудь на острова Туамоту, от греха подальше. А с этими козлами, значит, так… Ты кушай, кушай. Хлеб маслом намазать?
Села напротив, по-бабьи подперла щеку. Ну просто семейная идиллия.
– Вчера позвонили, домой. Говорят (здесь Валя перешла на мужской голос): «Господин Глен? Извините, что тревожим вас дома. Нигде не можем найти Николая Александровича, а у нас к нему срочное дело. Не могли бы вы…» Я говорю: «Не мог бы. У меня отгулы. Сами его ищите». И трубку шмякнул. Что интересно: у Мамоны установлена аппаратура хитрющая, любые звонки сканирует, а тут не срисовала – значит, там у них антисканер. Догоняешь? Э бьен. Сегодня утром ездила в офис цветочки поливать. Там-то они, наверно, мне на шванц и сели. И ловко сели, я ничего не заметила. Заехала в «Пьер-Паоло», это такое особенное место, тебе бы не понравилось. Сижу у бара, треплюсь с Марго (бармен тамошний), пью капучино. Вдруг входят те трое, ну, которых я возле «Холестерина» уронила. Ты что есть перестал? Невкусно?
Николас опустил вилку.
– Что… что они тебе сказали? Они к тебе подошли?
– Только один, рыжий такой. Двое остались у дверей. Я сижу вся на нерве, думаю – вдруг узнают. Па дю ту! Этот подходит, шлепнул меня по макушке, фамильярно так, потной лапищей, и говорит: «Ну, скинхед, где твой шеф?» Жуткий гопник! Я ему опять про отгулы. Типа шеф мне позавчера ночью позвонил, сказал, что срочно уезжает и что я могу пока гулять. Думала, не поверит, кошмарить начнет. А Рыжик ничего, только подмигнул, и все трое сделали веггеганген.
– Что сделали? – наморщил лоб Фандорин. Трудней всего в речи Вали ему давались германизмы.
– Ну, в аут отправились, ушли. Только не совсем. Минут через пятнадцать Макс подходит, он там работает гардьеном. Эти твои квадраты, говорит, сели в джип и сидят. Они, говорит, тебя достают или что? Понимаешь, в «Пьер-Паоло» геи кучкуются, самые крутые. Чужих не любят. А ко мне ничего, привыкли, я им вроде как свой геноссе. Макс говорит, я сейчас выйду, уроню им под шину досточку с гвоздями. Так что езжай спокойно, Валюха. Я вышла, села на свой чоппер, как дам газу. Джип за мной рванул, только недалеко уехал… Так что докатила я сюда чистенько, безо всякого хвоста.
И Валя засмеялась, очень собой довольная.
– А если они тебя за эту шалость подстерегут и пристрелят? – покачал головой Николас. – Это страшные люди, ты про них всего не знаешь.
– Это еще кто кого пристрелит, – воинственно объявила неустрашимая девица. – Гу к маль!
Сорвалась с места, притащила сумку. Оттуда достала пистолет – тот самый, подобранный возле клуба.
– Я бы им устроила файнал каунтдаун! – Валя вскинул руку с пистолетом. – Ба-дах! Ба-дах!
– Ты его не выбросила! – ахнул Фандорин. – Идиотка! Дай сюда!
Отобрал у полоумной оружие, хотел сунуть в карман халата, но замер, поневоле завороженный матовым блеском и элегантностью страшного инструмента. Почему оружие всегда красивое, подумал Ника. Как произведение искусства. И ответил себе: а потому, что оно, как и искусство, несет в себе тайну жизни и смерти. Одно легкое сокращение мышц указательного пальца, и тайна разгадана. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит…
Из прихожей донесся звонок – музыкальный, даже вкрадчивый, но Николас все равно вздрогнул, заполошно сунул пистолет в глубокий карман халата. Вскочил.
– Кто это может быть?
Валя улыбнулась:
– Спокойно, Дункель. Мы же на Горах, тут чужие не ходят. Я попросила гардьенов нарвать рябины. Поставлю в вазу – будет вунд ершен. – И засеменила в коридор, певуче крикнув. – Иду-у!
Вытирая салфеткой губы, Николас потянулся за чайником.
Раздался лязг засова. Валя восторженно взвизгнула:
– Ой, какая пре…
А потом в прихожей громыхнуло – то ли что-то обрушилось, то ли кто-то упал.
Фандорин кинулся на шум, даже салфетку не бросил.
Выбежал в коридор, застыл как вкопанный.
Валя лежала навзничь. Руки раскинуты, по лицу в два ручья льется кровь, глаза закрыты.
А в дверном проеме стоял тот самый мужчина, что остановил Николаса возле ночного клуба. Сегодня он был без темных очков, вместо кожаной куртки костюм с галстуком. В левой руке большой букет из рябиновых веток, правая (она была в перчатке) потряхивает пальцами.
– А вот и мистер Фандорин, – будничным тоном сказал страшный человек. – Что и требовалось доказать.
И отшвырнул букет в сторону. Когда Николас попятился, мужчина быстро шагнул вперед и зацокал языком.
– Хватит, сэр, набегались. Только создаете всем лишние проблемы, и в первую очередь самому себе.
Устыдившись своего малодушия, Ника двинулся было в обратном направлении – посмотреть, что с Валей.
Бандит снова поцокал. Звук был негромкий, но парализующий, как пощелкивание гремучей змеи. И Фандорин парализовался. Замер.
– Что вы с ним… с ней сделали? – спросил он слабым голосом.
– Ничего страшного. Стукнул вашего гермафродита по носу, как он меня. Чтоб под ногами не путался. – Поглядел вниз на заголившиеся гладкие ноги оглушенного Вали. Иронически заметил. – А вы человек с фантазией. И прикид у вас прямо заглядение.
Ника запахнул на груди халат с павлинами. Пускай этот тип думает про их с Валей отношения что хочет, сейчас не до этого. Но откуда он здесь взялся?
– Как вы его выследили? Ведь он говорил, что хвоста не было!
– Хвосты, мистер Фандорин, вчерашний день. Забава для дилетантов, у которых недостает технических возможностей.
Мужчина нагнулся, сдернул с Вали фальшивые волосы, похлопал его по бритому черепу.
– Мой человек вот так же шлепнул его по тонзуре, а перчатка была смазана особым раствором, вроде клея. Оттуда идет сигнальчик на радар. И все, проще простого. Как и предполагалось, гермафродит привел нас куда нужно.
– Но как вы попали на территорию поселка? Ведь проходная!
– Обижаете, Николай Александрович, – укоризненнно покачал головой мужчина. – Я вам только что продемонстрировал неограниченность наших технических возможностей, чтоб вы наконец перестали валять дурака и начали относиться к нам серьезно. А вы про ерунду спрашиваете. У меня есть удостовереньице, с которым не то что в дачный поселок – в Кремль войти можно.
Обернулся к открытой двери, подал кому-то знак.
Николас заглянул поверх его плеча, увидел, что возле дома стоит знакомый джип. Оттуда вышли двое, тоже знакомые. Рыжий двинулся к крыльцу, Утконос остался около машины.
Посмотрев, как Фандорин вытирает салфеткой выступившую на лбу испарину, главный бандит улыбнулся:
– Что, потовые железы секретируют? Это нервное.
– Слушайте, что вам нужно? Зачем вы меня преследуете? Я про вас и про ваши дела ничего не знаю! Клянусь вам!
Это прозвучало так жалко, так безнадежно, что Ника устыдился и попытался взять себя в руки. В такой ужасной ситуации самое важное – не терять чувства собственного достоинства. Все что угодно, только не это. Досадливо сунул салфетку в карман пальцы коснулись твердого, холодного.
Пистолет! Как он мог забыть?!
Ладонь сама сомкнулась на рукоятке, указательный лег на пусковой крючок.
Теперь помянутые главарем железы засекретировали еще пуще – пот выступил на лбу крупными каплями.
Нет, не смогу, понял Ника.
Какой-нибудь Джеймс Бонд или дед Эраст Петрович пальнул бы прямо через карман, не задумался. А я не смогу.
Ну, палить, конечно, дикость, убийство. Но что если выхватить и бешеным голосом заорать: «Ста-ять! Ррруки на затылок!»
Нащупал рычажок предохранителя и даже сдвинул, но отлично знал, что сам себя дурачит – нет, не выхватит и не закричит. И уж тем более не выстрелит.
Магистр сжал зубами нижнюю губу.
– Ну, милорд, – сказал мужчина. – Снимайте своих замечательных павлинов, надевайте пальто, и милости прошу. Карета подана. Человек, который желает с вами побеседовать, не привык приглашать дважды.
Тут в прихожую вошел Рыжий. Увидел лежащую Валю, Фандорина. Присвистнул.
– Я же говорил, – самодовольно покосился на него главарь. – Фирма гарантирует. Пробегись по дому – так, на всякий случай. Мы с сэром Николасом пока в машине посидим.
Повелительно взял Фандорина за локоть, подвел к вешалке.
– С этим что? – кивнул Рыжий на Валю. Главный жестко обронил:
– Он ударил меня по лицу. Или ты забыл?
– Ясно.
Сдернув с вешалки пальто, ужасный человек потянул Нику к двери. На пороге тот обернулся и увидел, как Рыжий достает пистолет с глушителем и приставляет его к Валиному лбу. Бедняжка открыла мутные глаза, но, кажется, так и не поняла, зачем у ее лица чернеет стальная трубка, – снова смежила веки.
То, что случилось в следующее мгновение, произошло словно само собой, безо всякого участия Николасова рацио – совсем как в прежние баскетбольные времена, когда рефлекторное движение опережало приказы, подаваемые мозгом.
Полувсхлипнув-полувсхрипнув, Фандорин вырвал левый локоть из пальцев конвоира и всем корпусом толкнул главного бандита, так что тот вылетел за дверь и грохнулся с крыльца. Правую же руку с зажатым в ней оружием Ника наставил на Рыжего – прямо через карман, отчего халат оттопырился и стал несколько похож на цветной ярмарочный шатер.
Рыжий дернулся, его взгляд скакнул на угрожающе вздыбившийся халат, моментально УСВОИЛ значение этого феномена, и в ту же секунду крепкая, в мелких веснушках рука качнула черную трубку в сторону Николаса. В тот миг, когда трубка превратилась в черную дырку, Фандорин что было сил сжал правый кулак.
Златотканный павлин на кармане оглушительно изрыгнул пламя, и Рыжего отшвырнуло к стене. Он сполз на пол, оставив на обоях блестящую красную полосу.
Николас стремительно повернулся, чтобы не видеть лица застреленного им человека. Зато увидел, что происходит во дворе.
Упавший бандит подняться еще не успел, но его рука нырнула под мышку. Утконос скрылся за джипом, из-за капота высунулся ствол.
Дальше Ника смотреть не стал. Хлопнул дверью, дернул засов.
Взглянуть на Рыжего все-таки пришлось.
Он лежал, привалившись затылком к стене, голова свесилась на плечо. На совсем молодом, покрытом бледными веснушками лице застыло обиженное выражение. Как у мальчишки, которому не дали досмотреть интересное кино, мелькнуло в голове у Фандорина.
Но думать об этом сейчас было некогда. Все еще во власти баскетбольной моторики, он подхватил Валю под мышки и поволок по полу через коридор, через гостиную – сам не зная, куда и зачем.
Валя захлопала (нет, захлопал, потому что без парика Глен снова превратился в юношу) все еще бессмысленными глазами.
– Куда? – пролепетал он. – Вофюр?
Однако поднялся на ноги. Покачнулся, но устоял.
Через стеклянную дверь веранды выбрались в сад. Придерживая Валю за талию, Фандорин проламывался через голые и колючие кусты, оставляя на ветвях золотые и серебряные нитки.
Кое-как продрались, но лишь для того, чтобы упереться в высоченный забор, огораживавший территорию поселка.
– Куда дальше? – тряхнул Николас за ворот все еще не очухавшегося Валю.
У того по прежнему лилась из носа кровь, да еще на щеке алели две длинных царапины – должно быть, ободрался о кусты.
Валя дотронулся до переносицы, жалобно охнул:
– Нос сломан! Боже! Какой кошмар! Не смотри на меня! Пожалуйста, не смотри! И закрыл изуродованное лицо рукавом.
– Надо уходить! – крикнул ему в ухо Фандорин. – Из поселка можно выбраться не через проходную?
– Да, – прогнусавил Валя. – Вон там.
Побежали вдоль ограды. Глен уже мог передвигаться без посторонней помощи, хоть и несколько зигзагообразно.
Мимо блеклых живых изгородей, мимо стриженых лужаек, на которых сиротливо белели праздные качели, они добрались до столба с прожектором, где забор поворачивал под прямым углом влево.
Пряча лицо, Валя сказал:
– Тут доска отодвигается. Это я прошлым летом выломал. Бегал в деревню, к одному механизатору, на дейты. То есть бегала…
Выдернул гвоздь, сдвинул доску. Пролез в неширокую щель без каких-либо затруднений, а вот Фандорин еле протиснулся.
Впереди было серое осеннее поле, за ним лес.
Николас побежал вперед, чавкая тапочками по грязи. Обернулся, увидел, что Валя не тронулся с места.
– Ты что? Скорей! Надо добежать до леса, пока они не увидели!
Валя стоял, закрыв лицо руками. Плечи сотрясались от рыданий.
Пришлось вернуться.
– Да что с тобой? Бежим!
– Уйди! – всхлипнул Глен и отвернулся. – Ты беги, я сам…
– Что «сам»? Куда «сам»?
Человек будущего забормотал, кажется, впервые путаясь в употреблении мужского и женского родов:
– Не хочу, чтоб ты видел меня такой… Я сам. Ты беги. Там за лесом станция. Четыре километра на восток…
– Что за чушь! Они тебя убьют!
– Я на ферму, к Володе…
– К какому еще Володе?
– Ну, к механизатору, я же говорила… Он хороший… Только он думает, что я девушка… Ничего, скажу, что подстриглась. Фэшн такой… Да беги же ты!
Валя сердито топнул ногой и зарыдал еще горше.
Оглянувшись на щель в заборе, Фандорин побежал через поле к опушке леса. Когда же, минуту спустя, обернулся, Вали у ограды уже не было.
Больше не оборачивался до самых деревьев. Лишь нырнув за первый куст, перевел дух. Раздвинул ветки.
Коттеджный поселок «На горах» был похож на сказочный остров, вынырнувший из пучины моря: из-за стены торчали башенки, флюгера, кружки спутниковых антенн. Остров на море лежит, град на острове стоит…
Слава богу, хоть тридцати трех богатырей было не видно. Снова выскользнул неуловимый Н. Фандорин из когтистых лап беды.
Немножко постоял, прижавшись горячим лбом к влажной и холодной коре дуба. Перед тем как идти (стало быть, всего четыре километра?), вынул из кармана пистолет, кинул на орудие убийства полный отвращения взгляд и швырнул в канаву, которая, судя по цвету воды, не высыхала даже летом.
Сначала шагал быстро, на всякий случай поглядывая назад. Дурацкий халат расстегнул – было жарко. О том, что произошло каких-нибудь пять, самое большее десять минут назад, старался не думать. Понятно, что теперь так, как прежде, жить будет невозможно, но об этом после, после. Сначала уйти подальше, остыть.
Остыл Фандорин довольно быстро – во всяком случае, в физическом смысле. Сначала запахнул халат, потом поднял воротник, спрятал руки в широкие рукава с отворотами.
Черт, как холодно!
Чему удивляться – середина ноября. Сколько сейчас? Плюс два, плюс три. Вряд ли больше.
Кстати говоря, вот он так решительно устремился в чащу, а где здесь восток? Ника остановился, посмотрел по сторонам.
Подмосковный лес в ноябре безлюден и бесприютен. Люди сюда не ходят, потому что незачем: золотая осень позади, для лыжных прогулок еще рано.
В отсутствие людей игрушечная пригородная чаща удивительным образом вернула себе достоинство дикой природы. Было очень тихо, сумрачно. Пахло смертью.
На поляне виднелся черный угольный круг; два кирпича, пара пустых бутылок. В луже поблескивал кусочек фольги. Вот и все, что осталось здесь от человека. Николас вдруг подумал, что пройдет сколько-то лет, и человечество исчезнет с поверхности земли, как исчезли из этого леса дачники. И останутся от человечества лишь бессмысленные обрывки и обломки.
Одернул себя: нашел время для философствований. Итак, где у нас восток?
В книжках пишут, что деревья с северной стороны порастают мхом. Ага, вот на березе зеленая плюшевая полоса. Значит, если встать к ней лицом, восток будет слева.
Ободренный, Фандорин двинулся по проложенному курсу и шел довольно бодро – до тех пор, пока прямо перед носом не оказалась другая береза, повернувшаяся ему навстречу точно таким же мшистым боком.
Как это может быть? Получается, что он движется не на восток, а на юг?
Николас задрал голову, посмотрел в серое, постепенно темнеющее небо. И представил, как он смотрится оттуда, сверху: нелепое существо в пестром халате и домашних тапочках, а вокруг лишь голые скелеты деревьев.
Как Иван-царевич в заколдованном лесу, только Серого Волка нет.
И едва он это подумал, как неподалеку зашуршала палая листва. Николас дернулся, оглянулся и не веря глазам увидел над пнем серую мохнатую морду с нахмуренным лбом, острые уши, настороженные глаза, на мгновение блеснувшие нехорошим фосфорическим блеском.
Нет, это был не серый волк, а всего лишь серый волчок. Вернее дворняга, среди предков которой наверняка не обошлось без немецкой овчарки.
Живому существу Фандорин обрадовался. Вдвоем все веселей.
Он посвистел, почмокал, протянул руку.
Собака смотрела все так же настороженно. Не лаяла, не рычала, с места не трогалась.
Тогда он начал потихоньку к ней подбираться, приговаривая:
– Ну, ну, не бойся, собакевич. Давай знакомиться…
Пес попятился. Потом, то и дело оглядываясь, затрусил через лес – не очень быстро, словно не решил, убегать или нет.
Ника припустил следом.
– Погоди! Эй, ты же друг человека!
Собака выбежала на поляну, где были свалены спиленные и, очевидно, давным-давно позабытые столбы. Остановилась.
Фандорин с разбегу не сразу увидел, что возле штабеля разлеглась целая собачья стая. Один пес, широкогрудый, с наполовину облезлой башкой, поднялся и оскалил желтые клыки. Остальные тоже немедленно вскочили. Как мало эти лесные пираты были похожи на городских собак! Ни тени робости или заискивания, никакого виляния хвостом. А глаза примеривающиеся, как бы оценивающие, что ты такое: опасность или добыча.
Похолодев, Ника вспомнил прочитанную где-то статью о том, сколько в подмосковных лесах развелось бездомных псов. Они давно, Бог знает сколько поколений назад, одичали и запросто нападают на оленей, на лосей, а иногда и на людей.
С перепугу Николас пожалел о выброшенном пистолете, но тут же устыдился. Что ж теперь, без пистолета ни шагу, что ли? Чуть-что, давай, пали, решай все проблемы при помощи свинца! Человека убил, теперь еще собак перестреляй. А разве они виноваты, что люди их или их предков выгнали из дома? Неужто ты мог бы застрелить вон ту каштанку с квадратной мордой? Или вон ту рыжую нескладеху с мордой колли и коротенькими лапами таксы?
Он попятился назад – не слишком быстро, чтобы это не выглядело, как бегство. Собаки провожали его глазами, враждебности пока не проявляли.
Шагнув за дерево, Фандорин развернулся и тут уж дунул со всех ног.
Бежал, пока не отлетела размокшая подметка на тапочке. Кое-как прицепил ее обратно. Сел на поваленное дерево, стал анализировать ситуацию.
Не тайга же. Какого размера может быть лесной массив в ближнем Подмосковье? Максимум несколько квадратных километров.
Это он просто запаниковал, вот и стал метаться безо всякого толка и смысла.
Что говорит в подобных случаях своим клиентам специалист по умным советам? Сначала нужно локализовать первопричину стресса.
Она совершенно очевидна, мысленно сказал специалисту Николас Фандорин. Я совершил убийство. Однажды мне уже доводилось стрелять в человека, но в тот раз, слава Богу, обошлось. А теперь не обошлось. Веснушчатый парень, на вид лет двадцати пяти, мертв. Его девять месяцев вынашивала мать, потом он долго рос, познавал мир, о чем-то мечтал, а я все это перечеркнул. Каким бы плохим ни казался тебе кто-то, убивать его нельзя, потому что каждый человек – это вселенная. И каждого человека (ну, или почти каждого) кто-то любит, для кого-то он свет в окошке, кому-то без него и жизнь не в жизнь.
Советчик печально покивал, вникнув в суть проблемы. И ответил так.
Да, ты убил, но не хладнокровно, взвесив все «за» и «против», а подчинился инстинкту, который велит человеку защищать себя и своих друзей. Значит, рыжий бандит – вселенная. А Валя что же? Разве его, то есть ее, ах не важно, разве Валю никто не любит? И потом, ты сам. Ты ведь тоже вселенная, и в этой вселенной кроме тебя есть еще жена, есть дочь и сын. Или уж люби все человечество одинаково, как Христос, и тогда подставляй левую щеку, не сопротивляйся насилию, иди на заклание и все такое прочее, но только уж не обзаводись семьей и друзьями. А если обзавелся, то изволь защищать и их, и себя. Даже если для этого понадобится убить.
Вот какой сформулировался совет – такой кровожадный, что Фандорину стало не по себе.
Но душа, как ни странно, от паники избавилась, дала разуму отмашку: думай, теперь можно.
И выяснилось, что голову ломать особенно не над чем. Всего-то и нужно идти по возможности прямолинейно, пока не выберешься на какую-нибудь дорогу или дорожку, а та уж куда-никуда выведет.
Блуждания по лесу закончились уже в полной темноте. Дважды Фандорин пошел не тем путем: сначала глухой просекой, которая петляла-петляла и в конце концов просто разделилась на несколько убогих тропинок; потом набрел на вполне витальную, даже асфальтированную трассу, упершуюся в каменную стену и запертые ворота безо всякой вывески. Лишь с третьей попытки, окоченевший и промочивший ноги, он попал туда, куда нужно. Неприметная на первый взгляд тропа вывела его прямо к обочине шоссе, по которому Николас дошагал до населенного пункта. Еще до того, как начались первые дома, услышал вдали грохот поезда. Уф. Вот и станция.
Не доходя до первого фонаря снял халат и бросил в канаву. Появляться в таком наряде среди публики было бы чересчур, лучше уж в одной рубашке.
Положение беглого «гада и обманщика» было, сдержанно выражаясь, незавидным: раздет, практически разут, денег ноль, деваться совершенно некуда. Но за время затянувшейся лесной прогулки у Николаса выработался план – в создавшихся обстоятельствах единственно возможный.
На всем белом свете был только один человек, который мог бы помочь изгою – конечно, если захочет. Нике почему-то казалось, что, несмотря на недолгий и, как теперь любят говорить, неоднозначный опыт общения с этим человеком, в помощи он не откажет.
Но сначала нужно было преодолеть одну техническую трудность – позвонить по телефону при полном отсутствии ликвидности.
Фандорин потоптался возле железнодорожной кассы, заглянул в приоткрытую дверь с табличкой «Дежурный по станции». Там сидела полная дама в фуражке, читала роман в бумажной обложке. На столе чернел вожделенный телефон.
Включив самую обаятельную из своего арсенала улыбок, Николас просунул голову в щель.
– Ради бога извините, что отрываю от чтения, – сказал он. – У меня к вам огромная просьба…
Дежурная положила роман обложкой кверху, с неудовольствием посмотрела на долговязого типа в одной рубашке.
– У меня ужасная неприятность, – продолжил магистр. – Потерял куртку, а в ней бумажник. Мне бы позвонить в Москву, а?
– Интере-есно, где это нынче куртки теряют, – протянула дама. – Вроде не пьяный. Муж, что ли, из командировки не вовремя приехал?
На обложке покетбука был изображен медальон в виде сердечка, в медальоне полуобнаженная красавица, припавшая к груди мускулистого мачо, внизу заголовок – «Запретный плод».
Может, подыграть? Раз эта женщина увлекается чтением любовных романов, значит, жизнь не балует ее романтическими приключениями. Только вот на чьей стороне ее симпатии: обманутых жен или страстных любовниц? По виду на разбивательницу сердец никак не похожа, но раз интересуется неразрешенными фруктами…
– Что-то вроде этого, – скромно обронил он и потупился, как бы намекая, что быль молодцу не в укор.
После тяжелой паузы дежурная сказала:
– Один звонок. И быстро. Этот телефон занимать нельзя.
Николас набрал номер подружки капитана Волкова, стараясь не думать о том, что ее может не оказаться дома.
Читательница «Запретного плода» сидела, сложив руки на груди, и смотрела на Фандорина суровым взглядом – ждала пикантностей. Это еще больше усложняло и без того непростую задачу. Как в присутствии этой Горгоны изложить совершенно незнакомой особе по имени Танька суть дела?
– Не берут трубку? – злорадно спросила тетка и потянулась к аппарату. – Больше звонить не дам. Не положено.
Ура! В трубке раздался молодой женский голос:
– Але.
– Это Татьяна?
– Ну. Кто это?
– Я друг Сергея, – осторожно подбирая слова и в то же время не спуская глаз с пухлой руки, нависшей над телефоном, сказал Николас. – Мы вместе работаем… в телецентре. Он вам про меня, наверно, рассказывал.
– Ну? – повторила Танька, не проявив ни малейшего энтузиазма, но, слава Богу, и не сказав: «Какого еще телецентра?»
– Передайте ему, что я нахожусь на станции Лепешкино Рижской железной дороги. И еще скажите ему, пожалуйста, что я попал в очень трудную ситуацию.
– Очень приятно, – не к месту ответила Танька и развила свою мысль, присовокупив. – Клопы вы поганые.
– Кто? – опешил Ника.
– Мужики. Чуть вам послабку дай – верхом ездить будете. Клала я на ваши ментовские заморочки, понял?
И раздались частые гудки. Неужели бросила трубку? Или прервалась связь?
Он хотел набрать номер еще раз, чтобы непреклонная Танька уяснила всю срочность просьбы, но дежурная забрала аппарат.
– Один звонок, – сказала она. – Что, послала тебя жена твоего дружка? То-то, сам расхлебывай, кобель. Думают, если они с телевидения, все им можно.
Она из партии жен, понял Николас. А про «Запретный плод», наверное, читает, чтобы лучше знать психологию противника.
Побрел к выходу. Злобная властительница станции Лепешкино еще буркнула ему в спину:
– Только попробуй без билета на электричку сесть. Вечером толковища поменьше, контролерам благодать. Враз сымут – и в отделение.
Главный вопрос бытия на нынешний момент формулировался так: передаст Танька капитану просьбу или не передаст? Прочие жизненно важные вопросы проистекали отсюда же. Если передаст, то скоро ли? И приедет ли оперуполномоченный?
Собственно, чего ради? Прибыли он от этого никакой не получит, а вот неприятности, и весьма серьезные, навлечь на себя может.
Фандорин устроился на скамье в стеклянном павильоне, обхватил себя руками за локти, вжал голову в плечи. Дрожал от холода и думал. Кроме двух этих действий занять себя все равно было нечем.
Что делать, если Волков не появится?
Очевидно, сдаваться в милицию. В конце концов, совершено убийство, хоть бы и при самообороне. До разбирательства посадят в камеру. Там по крайней мере тепло. И безопасно.
А безопасно ли? Если эти люди знают, кто чем занимается в засекреченном оперативно-следственном штабе по делу «Неуловимых мстителей», если, как заявил главный бандит, они запросто могут проникнуть хоть в Кремль, то, вероятно, и в предвариловке достанут.
И еще одно затруднение: милиция захочет выяснить, откуда у гражданина Фандорина взялось огнестрельное оружие. Не выдавать же Валю?
Тут как раз и милиционер подошел, легок на помине.
Правда, не следователь, а всего лишь сержант.
– Что сидим? – поинтересовался он. – Три электрички проехали, а вы все загораете. И налегке. Раздели, что ли?
После секундного колебания Фандорин соврал:
– Да нет, все нормально. Машина сломалась. Жду, пока починят, греюсь.
– Кто чинит? Леха из АРМ?
Что такое «а-рэ-мэ», Николас не знал, однако кивнул. Успокоенный сержант пошел себе патрулировать дальше.
Не в первый раз Фандорин оказывался в смертельно опасной ситуации. Не то чтобы он их любил, эти ситуации, – совсем наоборот. Видно, такая уж у него была жизненная планида. Магистр истории, попадающий в истории. В виде Homo Sapiens существуют разные подвиды. Есть люди, которые проживают свой век благополучно и спокойно, а есть такие, как Николай Александрович Фандорин, с которыми без конца случается всякая ерунда. И, что примечательно, в первой половине жизни, проведенной в Англии, ничего подобного не происходило, все пакости начались после переезда в Россию. Такая уж это страна – не даст человеку мирно состариться, непременно перевернет и вывернет, попробует на зуб, на вкус, на испуг.
Или так оно лучше? В благополучной стране человек может прожить сто лет, не пройдя ни через одно серьезное испытание, а стало быть, так и не узнав, что он собой представляет и каков он на прочность. Английские знакомые говорят: Ник Фандорин свихнулся. Переехать в Россию, сменить гражданство – какое сумасбродство! А ведь, если исходить из того, что главная цель в жизни – понять себя, преодолеть в себе слабое и плохое, став сильней и лучше, то нужно жить именно в России. Или в Китае. Или в какой-нибудь Эритрее. В общем там, где с людьми случаются истории.
В очередной раз убедив себя в правильности избранного пути, Николас закрыл глаза, привалился к стенке и задремал. Нервная и физическая усталость возобладали над холодом, но снилось Фандорину только одно: что он мерзнет и никак не может согреться. Пробуждение было неприятным. Кто-то грубо тряс спящего магистра за плечо.
Николас открыл глаза, увидел над собой давешнего сержанта.
– Документы, – сказал сержант и протянул руку.
Хлопая глазами, Фандорин пытался сообразить, как себя вести.
– Они в пиджаке, а пиджак в машине. Я же вам сказал…
– Был я в авторемонтных, – перебил милиционер. – Там замок. А Леха третий день в запое. Документы, я сказал!
Николас молчал.
– Нет документов? Тогда пошли.
Сержант взял задержанного за плечо, заставил подняться. Николас был выше на целую голову, и милиционер на всякий случай погрозил ему дубинкой.
– Смотри… у меня. Вмажу – пополам согнешься.
Ну вот, все решилось само собой, думал Фандорин, чувствуя, как в руку впиваются жесткие пальцы патрульного. Свобода выбора утрачена, я превратился в предмет, двигающийся с ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате.
На перроне был еще один милиционер – без фуражки, но в блестящей черной куртке с погонами. Он повертел головой туда-сюда, потом обернулся в эту сторону, и Николас чуть не всхлипнул от облегчения.
Капитан Волков! Слава Тебе, Господи.
Через две минуты Фандорин сидел в припаркованных за станционными пакгаузами милицейских «жигулях» и тер закоченевшие ладони. Оперуполномоченный снял с себя куртку, надел на страдальца, да еще включил печку. Жизнь, что называется, налаживалась.
– Куртец дрянь, – сказал Волков. – Дерьмантин. Не моя – тут, в тачке валялась. Тачка тоже дрянь, из разъездных. Взял, какую дали – к тебе торопился. Ну, что за новые кошмары в твоей увлекательной жизни?
– Я д-думал, Татьяна не п-передаст, – достукивал зубами остатки озноба Ника. – П-почти не надеялся.
– Кто, Танька-то? Она баба надежная. – Капитан вздохнул. – Вот скажи, Коль, отчего это из баб самые надежные – шалавы? Ты как про это думаешь?
Вопрос был несложный, Николас легко мог бы объяснить Волкову этот феномен, но момент для отвлеченных бесед был неподходящий.
Прежде чем перейти к делу, Фандорин осторожно спросил:
– Как у тебя с теми? Звонили?
Оперуполномоченный махнул рукой:
– А как же. Через полчаса после того, как ты растворился в ночи. Послал я их – туда, куда собирался.
– И что?
– Да ничего. Отключили мне мобилу. Но это фигня, я за двенадцать баксов симкарту поменял, взял федеральный номер – он дешевле. Я тебе потом запишу.
Из темноты, светя мощными фарами, подкатил вседорожник, остановился прямо перед капотом «жигулей». Волков весь напружинился, сунул руку в карман, да и Николас с тревогой уставился на непроницаемые черные стекла большого автомобиля.
Но из монстра вышла элегантная и, судя по движениям, молодая женщина. Пискнула пультом, поцокала каблучками по мостовой и растаяла в ночи.
– Тьфу, – сплюнул капитан, вынимая руку из кармана. – Я уж подумал… Хитрая бабца – нарочно у ментовской тачки припарковалась, чтоб ее красавца не раздели. Ну, что у вас стряслось, гражданин Останкин? Давайте только факты. Аргументы потом.
И Николас дал только факты. Поразительно, каким простым и коротким получился рассказ, изложенный без описания собственных эмоций: ассистент привел на хвосте бандитов, они хотели ассистента убить, поэтому пришлось одного бандита застрелить, а от остальных убежать. Только и всего? А когда шел по мертвому лесу, чувствовал себя по меньшей мере героем шекспировской трагедии.
Но оперуполномоченному рассказанная история, похоже, не показалась тривиальной.
– Дерьмам делам, – озабоченно сказал он. – В тюрягу тебе, Коля, нельзя. Запросто сыщется какой-нибудь паскуда в погонах, кто человека за бабки на смерть сдаст. И возьмет-то недорого. За своего бандосы тебя точно порешат, я их повадки знаю. Хоть в Австралию умотай – все равно достанут. Так что теперь на тебе два смертных приговора. Ты делаешь карьеру.
Авторитетное мнение эксперта избавило Нику от иллюзий по поводу налаживающейся жизни.
– Что ты мне посоветуешь, Сергей? – спросил специалист по советам, голос у него изменнически задрожал.
Ответить капитан не успел.
Покинутый хозяйкой джип вдруг включил огни: и дальний свет, и противотуманный прожектор на крыше. От ярких лучей, направленных прямо в лицо, Николас ослеп.
Отвернулся, но сзади тоже горели фары – там, метрах в десяти, тоже стоял джип.
– Браво, капитан! – крикнули не спереди и не сзади, а откуда-то слева, из темноты. – Обеспечил товар в лучшем виде!
Фандорин узнал голос – тот самый вежливый бандит, который у них за главного. Но не это потрясло магистра больше всего, а чудовищное предательство МУРовца. Как убедительно врал, каким рубахой-парнем прикидывался!
– Выходим, господа! – продолжил веселый голос. – Нас ждут великие дела!
Волков свистяще выругался, ударил кулаком по рулю.
– Суки! Маяк прицепили! Как лоха последнего…
Кажется, оперуполномоченный в подлости был неповинен, и, хотя это мало что меняло в нынешней ситуации, Фандорин почему-то испытал неимоверное облегчение. – Я выйду, ты оставайся, – сказал он, кладя капитану руку на запястье. – Ты тут ни при чем. Спасибо, что хотел помочь.
Взялся за ручку двери, но Волков больно двинул его локтем в плечо.
– Сиди, телебашня долбаная! Что тебе Серега Волков – мальчик-колокольчик? Щас, щас…
Капитан быстро закрутил головой – влево, назад, снова влево, вперед.
– Не, не вырулю, зажмут. Тогда так. Внизу что-то щелкнуло. Николас опустил взгляд и увидел зажатый в руке милиционера пистолет.
– Не писаем в штаны, Коля. У меня кандидатский по стрельбе, прорвемся. Щас сажаю переднему по фарам, и ты сразу сигай вправо, а я влево. Чеши через кусты, не оглядывайся. Бог, он знает, кому пора, а кому еще нет.
Фандорин хотел возразить против этого самоубийственного плана, но отчаянный капитан уже вскинул руку с пистолетом и нажал на спуск. Прожектор на крыше переднего джипа лопнул.
Выстрел был всего один, но дырок в лобовом стекле почему-то образовалось две. Волков энергично ударил затылком о подголовник и остался сидеть в этой позе, руку же с пистолетом опустил. Оглохший Ника увидел, как губы капитана надулись, словно он собирался прыснуть со смеху, но изо рта вырвался не смешок, а бульканье, и на подбородок милиционера потекла черная жидкость, в которой поблескивали осколки зубов.
Так и не поняв, что за беда стряслась с Сергеем, магистр дернул ручку дверцы, выкатился на землю и, бешено орудуя локтями, дополз до придорожных кустов. Там вскочил и, не разбирая дороги, понесся в темноту.
– Живьем! – крикнул кто-то сзади.
Голос был высокий, тонкий, будто кричал подросток.
Николас ударился голенью о какой-то ящик, но даже не почувствовал боли.
В голове пронеслось: хорошо, что я в черной куртке, в белой рубашке было бы видно издалека.
Сзади доносился топот. Непонятно, сколько было преследователей, но не один и не два – это уж точно. Взревел мотор, потом второй.
Длинные ноги, обутые в мягкие тапочки, беззвучно касались земли. Ника повернул в щель между складами, с разбегу прыгнул на забор, подтянулся (и откуда взялось столько сил?), приземлился по ту сторону.
Рельсы, в стороне огни станции.
По дальнему пути, тяжело погромыхивая, катился грузовой состав.
Фандорин подбежал, некоторое время огромными скачками несся рядом, потом, улучив момент, вцепился в поручень тормозной площадки последнего вагона и повис. Ноги поджал, чтобы не волочились по земле. Поставил на ступеньку одно колено, второе. Оглянулся.
Сзади на путях метались какие-то тени, туда-сюда ерзали лучи фонарей.
Видели или нет?
В любом случае, чем дальше от Лепешкина он отъедет, тем лучше.
Николас потер ушибленную голень и сел на металлический пол. Наплевать, что пыльно, грязно, перепачкано мазутом или еще какой-то пахучей дрянью.
Откинуться на спину, перевести дух.
Он попробовал вытянуться на узкой площадке поудобнее и вдруг ткнулся головой во что-то мягкое. Вернее в кого-то.
Подавившись воплем, повернулся.
На противоположном конце площадки, съежившись, сидел закутанный в тряпки человек. Пронесшийся мимо фонарь на миг выхватил из темноты блестящие глаза, кустистую бороденку, драную кроличью шапку.
– Ну, вы, гражданин начальник, отчаянный, – сказал человек. – А какой прыгучий, я прямо восхищаюсь. Это вы из-за меня своей драгоценной жизнью рисковали? Чтоб меня в отделение доставить?
– Вы кто? – пробормотал Фандорин, испугавшись, что от всех потрясений у него начались галлюцинации.
– Миша, путешественник. Живу между небом и землей. На зимовку вот собрался, в Новгородскую губернию. Если вы меня, конечно, с поезда не ссодите.
Николас понемногу приноравливался к дерганому железнодорожному освещению, от которого все предметы то вспыхивали, то погружались во мрак, и теперь мог разглядеть своего нежданного спутника получше.
Неопределенного возраста, одет в замызганную синтетическую куртку, на плечи накинута не то скатерть, не то занавеска. Одним словом, бомж.
– Я не милиционер, – успокоил бродягу магистр. – Куртка не моя. Одолжил, чтобы согреться.
– А-а, – повеселел Миша. – Тогда другое дело. Греться мы после полезем. Это в шестой вагон надо, там вату везут. Подышим воздухом, чтоб сон был здоровее, и туда. Вы, сэр, куда?
Откуда он знает, что я сэр, вздрогнул Фандорин и не ответил. Но бомж нисколько не обиделся.
– А я на зимовку. Я этот поезд два дня ждал. Его в Ржеве на Ленинградку перегонят, а спальный вагон, который с ватой, покатит прямиком в город Бухалов. Очень у них там изолятор замечательный. Харчи не воруют, и начальник, майор Савченко, хороший человек. Я всегда там зимую. Хотите, сэр, и вас устрою?
Это у него такая манера выражаться, успокоился Николас и спросил:
– А где это – Бухалов?
– Новгородская губерния, Чудовский район. Городок славный, тихий. Душой отдыхаешь. В изоляторе библиотека хорошая, всякие там шашки-шахматы. Сопрем что-нибудь на вокзале в порядке правонарушения и сразу к Степану Филимонычу, сдаваться…
Миша принялся уютно описывать, как они устроятся в городе Бухалове, но Николас дальше уже не слушал, потрясенный упоминанием о Чудовском районе.
Вот уж воистину перст судьбы! Подсказка свыше, иначе и не назовешь!
Как он мог забыть о человеке, который выручал его из трудной ситуации прежде и наверняка не откажется помочь сейчас!
Именно там, где-то в лесах под Чудовым, поселился фандоринский компаньон, соучредитель «Страны советов», бывший банкир, олигарх и медиа-магнат. Поехала у капиталиста крыша, перенапрягся в сражениях за прибавочную стоимость. Забросил дела, удалился от суетного мира в скит. Так-то оно так, но ведь был поистине неограниченных возможностей и фантастической предприимчивости человек. Не может быть, чтобы у него ничего не осталось от былых талантов и связей.
Только вот будет ли он рад встрече с очевидцем его прежней, мягко говоря, небезгрешной жизни? Те, кто общается с ним сегодня, вряд ли догадываются о бурной биографии святого старца. И это правильно. Прошлые грехи известны самому отшельнику да Господу Богу, теперь никто другой не узнает о них до самой его смерти.
Глава двенадцатая
Несчастья добродетели
– … А когда именно каждого из нас ожидает смерть, известно одному лишь Богу, проще же говоря – никому, ибо Бог и есть Никто. – Данила Фондорин остановился посреди тропы и испытующе посмотрел на своего маленького спутника. – Я вижу, мой юный друг, вас не покоробило мое утверждение о Боге как о Ником, то есть Небытии, Пустоте? Это делает честь открытости вашего рассудка. Преосвященный Амвросий, викарий новгородский, который иногда посещает меня в моей хижине, хоть и просвещенный муж, но от таких слов взвился бы до потолка, да еще, пожалуй, лишил бы меня славы угодника, которой я ему же, Амвросию, и обязан.
– Сударь, светает, – жалобно сказал Митя, ибо Данила, увлеченный собственными умствованиями, останавливался уже не в первый и не во второй раз. – Опоздаем! И потом, я просил не говорить мне «вы» – я пока не ощущаю себя достаточно созревшим для подобного обращения.
– Хорошо, Дмитрий, не буду. Так что ты думаешь о Боге? Веришь в Него?
– Конечно, верю. Пойдемте, а?
– И я верил. Ведь что такое вера?
– Что? – обреченно спросил Митя, уже зная, что Фондорин не тронется с места, пока не выскажет мысль до конца.
– Вера происходит либо от полной уверенности, то есть абсолютного знания, либо от полного отсутствия уверенности, сиречь абсолютного незнания. Все известные мне люди веруют от неуверенности, иначе говоря, верят церкви на слово. Я же от полного незнания отошел, а всеохватного знания еще не достиг, и потому веровать не могу. Полностью же я познал лишь силу Разума, вот он ныне и есть мой Бог.
– Господин Фондорин, миленький, нужно спешить!
Они покинули лесную поляну и двинулись по направлению к Московскому тракту затемно. Оружия у лекаря не было никакого, если не считать длинного, в добрую сажень, посоха, которым он при каждом шаге решительно стукал по земле. Всю дорогу Данила говорил без умолку – видно, за ночь опять соскучился по слушателю. Митя сначала прихрамывал, но потом почти перестал – нога размялась, расходилась.
– Не тревожься, Дмитрий, мы уже пришли.
Старик шагнул с тропы в снег, раздвинул кусты. За ними открылась дорога, смутно различимая в серых сумерках.
– Отсюда мы и услышим, и увидим, как они едут.
– Но почему вы взяли, что Павлину Аникитишну повезут именно в эту сторону?
– Ты же сам сказал, что вас догоняли. Ergo, туда и повезут, откуда прискакали, то есть в сторону Петербурга. Не названное тобой по имени значительное лицо, раз уж оно не устрашилось похитить даму из рода Хавронских и умертвить ее слуг, наверняка проживает в столице. Я полагаю, мой скрытный друг, что во всей России сыщется только один сладострастник, которому подобное злодейство сойдет с рук.
Митя покраснел. Оказывается, проницательный старик обо всем догадался. И если не устрашился противодействовать самому Фавориту, то это делало честь его храбрости. Хотя что может он, старый и безоружный, против богатыря Пикина и четверых головорезов?
Этот насущный вопрос Митя и задал, постаравшись придать ему наименее обидную форму.
– Мой славный Дмитрий, Доброе Слово и Наука всегда одолеют грубую силу, – безмятежно ответил Фондорин, опираясь на свою палку. – Ты, я вижу, сомневаешься? Так вот тебе доказательство, изволь: что если не вера в Бога, то есть в Доброе Слово, вкупе с Наукой вознесли человека над прочими животными, в том числе несравненно более сильными, нежели он?
– Вон они! Едут! – указал Митя дрожащим пальцем на дорогу.
Впереди покачивался в седле один конный, но не Пикин – кто-то из гайдуков. Второй сидел на козлах. Еще двое ехали сзади верхом.
– Пикин, наверно, в карете, – прошептал Митя.
– Не думаю, – ответил Фондорин обыкновенным голосом. – Видишь, к дормезу сзади привязана только одна лошадь. Это кучерова. Предводителя здесь нет. Должно быть, помчался к своему сюзерену, хвастать викторией.
Пожалуй, верно. Лошадь без всадника была серая в яблоках, а не то вороное чудище, на котором скакал Пикин. Только что это меняло? Ну не пятеро врагов, четверо. Все равно лекарю с ними не справиться.
– Мой славный друг, ты побудь здесь, – сказал Данила. – Я же пойду побеседую с этими людьми, попробую воззвать к их разуму.
Только теперь, глядя в прямую спину выбирающегося на дорогу чудака, Митя вдруг понял, что все пропало. Время упущено. Павлину не спасти. И виноват в этом только он, Митридат Карпов. Вместо того, чтобы слушать россказни Фондорина да всю ночь греться на печи, нужно было бежать в деревню, звать на помощь. О, проклятое недоумие и легковерие! Как можно было довериться философу, обретающемуся в идеальном, умозрительном мире?
«Воззвать к разуму» – каково?
Фондорин выбрался из сугроба на тракт, потопал валенками, стряхивая налипший снег. Встал прямо посередине, оперся на посох.
Дормез приближался, скрипя полозьями. Первый из верховых крикнул:
– Эй, дед, ты чего?
Кони замедлили бег, остановились, не дожидаясь, когда возница натянет поводья, – видно, почуяли в неподвижной фигуре нечто особенное.
Данила воздел правую руку и заговорил звучно, громко – Мите из его укрытия было слышно каждое слово.
– Служители временщика! Я знаю, что вы стали преступниками не по своей воле, а по принуждению вашего начальника и господина. Отпустите пленницу, и, обещаю, с вами не случится ничего дурного.
Верховой привстал на стременах, заозирался вокруг. Кучер тоже поднялся на козлах. Двое замыкающих подъехали ближе.
– Сколько вас? – спросил передний, кладя руку на эфес сабли. Похоже, в отсутствие Пикина за старшего был он.
– Я здесь один.
Старший сплюнул, облегченно гоготнул.
– Прочь с дороги, старый дурень. Ну! Вот я тя плетью!
Он пустил коня на Данилу. Широкая, покрытая инеем грудь затеснила Фондорина к обочине.
– Постой, Охрим! – крикнул кучер. – Откуда он сведал? Хватай его! Допросим!
– И то.
Охрим нагнулся и потянул руку к вороту фондоринского тулупа.
– Напрасно вы не послушали голоса разума, – покачал головой Данила, отступив на шаг.
Посох дернулся книзу, раздался тошнотворный хруст, и всадник схватился левой рукой за бессильно обвисшую правую. Не прекращая движения, палка повернулась к нему пыром и ткнула конника в подвздошье – он кувыркнулся из седла навзничь. Но и того чудо-посоху показалось мало. Он подлетел вверх, перевернулся и вновь оказался в Данилиной руке, но теперь лишь самым кончиком. Фондорин проворно скакнул вперед, размахнулся, описав в воздухе свистящий полуторасаженный круг, и влепил остолбеневшему вознице дальним краем своей дубины в ухо. Кучера с козел будто пушечным ядром сшибло.
Все это свершилось столь быстро, что вряд ли кто успел бы дочесть и до пяти, даже если б считал скороговоркой.
Митя потер глаза – не привиделось ли?
Нет, не привиделось. Данила стоял, двое гайдуков лежали, осиротевшая лошадь крутилась вокруг себя, хватала зубами болтающуюся уздечку.
Но оставались еще двое всадников, и уж они-то не были склонны отнестись к лесному старику с легкомысленным небрежением, погубившим их товарищей.
Первый выхватил из-за пояса пистолет, второй рванул из ножен саблю. Оба пришпорили коней.
Но и Фондорин не остался на месте. Он снова подбросил посох, перехватив его посередине, разбежался и метнул свое диковинное оружие на манер античного дротика – прямо в лицо целившему из пистолета. Тот всплеснул руками, покачнулся, завалился на сторону.
Теперь Даниле противостоял всего один неприятель, но руки лекаря остались пусты и заслониться от сабельного удара ему было нечем.
А он и не стал заслоняться – проворно прыгнул вбок, уклонившись от клинка, а потом схватил последнего гайдука за кушак да и выдернул из седла.
Тот прокатился по земле, перевернулся, ловко вскочил на ноги. Сабли при падении из руки не выпустил и сразу же кинулся на Фондорина, бешено матерясь.
Данила на сей раз поступил без хитростей – просто нагнулся и подобрал валявшийся пистолет.
– Остановись, неразумный, – сказал он. – Иначе…
Не успел договорить.
Гайдук, пригнувшись, ринулся вперед. Видно, хотел под пулю нырнуть, да как раз теменем на свинец и налетел.
Данила печально качал головой, глядя на распластавшееся у его ног тело.
Подошел поочередно к остальным поверженным противникам. Двоих связал их же кушаками, третьего оставил как есть.
Обернувшись к лесу, поманил Митю рукой. Тот вышел, едва переступая негнущимися ногами.
– Беда, Дмитрий, беда, – сокрушенно сообщил Фондорин. – По несчастному стеченью обстоятельств двое служителей временщика лишились жизни. Одному брошенный шест переломил переносицу – я метнул слишком сильно. Второй же крайне неудачно наклонился. Я хотел прострелить ему ляжку, а вместо этого выбил мозги. Слава Разуму, двое других не слишком пострадали, и я смогу им помочь. Но сначала успокоим даму, которая несомненно напугана пальбой и криками.
Он приблизился к карете и постучал. Ответа не последовало.
Тогда, сдернув шапку, Данила открыл дверцу и учтиво поклонился.
Слава Богу, Павлина была жива и цела. Митя увидел ее бледное, испуганное лицо, обращенное к заросшему седой бородой незнакомцу.
– Ты лесной разбойник? – спросила графиня дрожащим голосом.
Ну, конечно! Что еще она могла подумать? Что попала из огня да в полымя, променяла горькую участь на иную, быть может, наигорчайшую.
Данила распрямился, открыл рот, чтобы ответить – да так и застыл с открытым ртом. Еще бы! Отвык, поди, в своей пустыне от женской красоты.
От этого безмолвия Павлина перепугалась еще больше.
– Что ты так зловеще молчишь? Сколько вас?
Фондорин, наконец, опомнился и показал на Митю:
– Двое. Я и вон тот отрок, небезызвестный вашему сиятельству. Это он меня привел.
Павлина высунулась из кареты, увидела Митю и с радостным криком спрыгнула на снег.
– Деточка! Митюнечка! Живой! А я глаз не сомкнула, боялась, что ты замерз в лесу, что тебя звери загрызли!
Она упала перед Митей на колени, стала его обнимать, целовать, по ее прекрасному лицу потоком лились слезы.
– Рыбанька моя! Малюточка! Ну, скажи что-нибудь! Ну, назови меня «Пася»! Как мило у тебя это получается! Ты мне рад?
Делать нечего. Митя покосился на Данилу, который умиленно взирал на эту трогательную сцену, и нехотя просюсюкал:
– Пася… Рад.
Чего еще-то сказать, чтоб она порадовалась?
– Митюса скутял.
– Скучал по мне, родименький!
Слезы из ясных серых глаз полились еще пуще, а Данила удивленно поднял седую бровь. Митя выразительно пожал плечами поверх золотистой головы коленопреклоненной графини: мол, иначе с ней нельзя.
И в самом деле – как теперь, после совместного сидения на ночных сосудах, ночи в обнимку и всех прочих интимностей, вдруг взять и заговорить с Павлиной по-взрослому? Да она со стыда сгорит, а он будет чувствовать себя подлым обманщиком.
Фондорин, деликатный человек, воздержался от каких-либо замечаний. Стоял в сторонке, терпеливо ждал.
Вытерев слезы и высморкавшись, графиня обернулась к своему спасителю.
– Где ты, старинушка, научился так ловко палкой драться? Верно, служил в армии?
– Служил, как не служить, – степенно ответил Данила. – И даже не в армии, а в гвардии. Но палкой обучился драться в Английской земле, когда странствовал. У тамошних бездельников, именуемых джентлменами, есть целая наука, как драться дубинками. Силы большой для этого не требуется, лишь знание правил. Я ведь говорил, (здесь он покосился на Митю), что если не Доброе Слово, то Наука легко одолеют грубую силу. Однако где же ваш главный похититель? Я ожидал встретить пятерых противников, а встретил лишь четверых.
Павлина гордо подняла подбородок.
– Я не пустила его ночевать в карете, велела убираться. Когда же он попробовал ослушаться, пригрозила, что Зурову нажалуюсь, будто он мне амуры делал. Этого злодей устрашился. Ночь просидел у костра, со своими татями. А утром, когда здороваться сунулся, я ему еще к лицу приложилась, звонко. Тогда он заругался, прыгнул в седло и как погонит коня прямо по снегу, через опушку. Крикнул своим, что в Чудове встретит, со сменой лошадей.
Она вздрогнула, озабоченно сказала:
– Уезжать надо, да поживей. Ну как передумал и навстречу едет? Пикин – душегуб, человек страшный, не этим дурням чета. Английской палочной наукой его не одолеешь. Прошу тебя, храбрый старик, довези нас с Митюнечкой до станции. Я тебя щедро награжу.
Фондорин сдвинул брови. Ответил сухо:
– Отвезу. Да не до станции, где вам навряд ли сыщется защита, а прямо до Новгорода. Прошу в карету, сударыня. И ты, Дмитрий, садись.
Павлина прыснула:
– Как ты смешно моего Митюшеньку зовешь. Он мой сладенький, мой пузыречек сахарный. Да, Митюшенька? Вот ведь кроха совсем, а догадался бывалого человека на помощь позвать. И как только разъяснил?
– Довольно складно для своих лет, – сдержанно ответил Фондорин, и в его глазах мелькнула некая искорка.
– Умничка мой, – зашептала графиня Мите на ухо. – Мой Бова-королевич. Хочешь быть моим сынулечкой? Хочешь? Зови меня «мама Паша». Хорошо, люлечка?
– Мама Пася, – хмуро повторил Митридат и был немедленно вознагражден дюжиной жарких поцелуев.
– А что делать с этими ворами? – показала Павлина на двоих связанных. – Оставлять их нельзя. Пикина наведут.
Один из гайдуков, тот, что со сломанной рукой, еще не пришел в себя и лежал на снегу недвижно. Второй же, сшибленный посохом с козел, при этих словах засучил ногами и пополз прочь – прямо сидя, как был. Челюсть у него затряслась.
– Да, задача, – согласился Фондорин. – Конечно, наведут. Но не убивать же их.
– А как иначе? – жестко сказала графиня. – Пикин моих людей убил, а эти ему добивать помогали.
Данила пробормотал – словно бы в сторону, а на самом деле Мите:
– Как жесток век, в который даже столь нежные особы призывают к убийству.
– Что ты сказал, дедушка? – обернулась Хавронская.
Он снова нахмурился.
– Я сказал, сударыня, что убивать их не буду, ибо каждый человек – узел тайн. Не я этот узел завязывал, не мне его и обрывать. Мне, увы, доводилось лишать жизни себе подобных, но всякий раз без убийственного намерения, по несчастному стечению обстоятельств.
Фондорин подошел к хрипящему от ужаса гайдуку, в два счета перетянул ему тряпкой расшибленную голову. Второму, бесчувственному, привязал сломанную руку к ножнам от сабли. Митя знал – у медиков это называется Schiene.
Павлина посмотрела-посмотрела, да только руками всплеснула:
– Они за твое милосердие на тебя же Пикину и укажут. Ты не знаешь, какой это лютый волк. Он из-под земли тебя добудет, чтоб за обиду отомстить!
– Я не спорю, – кротко признал Данила. – Если их убить, нам будет проще. Но я не сторонник этакой простоты. Едем, ваше сиятельство. Время дорого.
И полез на козлы.
Как совсем рассвело, Московский тракт ожил. Стали попадаться и отдельные повозки, и целые поезда из груженых саней. Запряженный шестеркой дормез мчал лихо, замедляя ход, лишь когда дорога забирала в горку, а на спусках поскрежетывал тормозом. Данила стрелял кнутом, как заправский кучер, сбруя весело звенела, из-под полозьев летела ледяная кроха. Хорошая зимой езда, не то что летом. Никакой тряски, да и скорость совсем другая. Один фельдъегерь во дворце хвастал (Митя сам слышал), как по зимнему времени пролетел 600 верст до Москвы за 36 часов. Не ел, не спал, только лошадей менял.
Вскоре после полудня прибыли в Новгород, город настолько древний, что год его основания неизвестен – он появился еще прежде Руси. Щурясь на сияющий под солнцем купол Софии, Митридат проверил память: обширность сего поселения 452 десятины, население две тысячи душ. А в XV столетии людей здесь проживало в двести раз больше. Если задуматься, то же когда-нибудь и с Москвой будет, и с Петербургом, и даже с Парижем. Придут в запустение и обезлюдят, ибо всему на свете приходит конец.
Он зажмурился и представил будущие руины Москвы: обвалившиеся кремлевские стены; голая Красная площадь, по которой бредет одичавшая кошка; поросшая бурьяном Тверская; слепые окна домов. Бр-р-р, привидится же такая страсть.
– Что, мусенька, морщишься? – погладила его по голове Павлина. – Устал? А вот мы отдохнем, чаю с пряниками попьем, нам теперь бежать незачем. Город большой, никакие буки Митюшеньку не обидят. Это, сладенький, Новгород, Новый Город. Когда-то давным-давно он и вправду был новый, а теперь старый-престарый. Ты вот тоже сам собою молоденький, весь новенький, а пройдет много-много лет и будешь старый старичок, как дед Данила. Правда, смешно?
– Смесьно, – подтвердил Митя.
Животики надорвешь. Ничтоже ново под солнцем. Иже возглаголет и речет: се, сие ново есть, уже бысть в вецех бывших прежде нас…
Остановились в самой лучшей гостинице «Посадник». Данила проследил, как распрягают лошадей, и исчез – сказал, хочет навестить старинного знакомца, у него и отобедает. Митя же с Павлиной поели ухи с кашей и отправились за покупками – такое, видно, у графини было обыкновение: куда ни приедет, хоть бы даже в самое захолустное место, сразу идет на товары смотреть.
В Новгороде лавки были много богаче, чем в Любани, и Павлина затеяла Митю наряжать. Сначала увидела в магазине батистовое платьице, «прелесть какое милое», и загорелась одеть Митю девочкой, но он закатил такой рев (иных средств обороны в арсенале не было), что от этого плана графине пришлось отступиться. По взаимному согласию преобразовали Митю в казачка: досталась ему синяя бекеша, сафьяновые сапожки, а краше всего была мерлушковая папаха с алым шлыком. Посмотрелся он в зеркало и очень себе понравился – прямо запорожский лыцарь.
В общем, день провели с приятностью, а вечером сели в дворянской зале «Посадника» пить шоколад. Павлина распорядилась, чтоб седобородого старика по имени Данила, когда придет, вели прямо сюда. Собиралась наградить его щедро, ста рублями, сердечно поблагодарить за добро и отпустить обратно в лес. Кучер теперь был свой – Хавронская подрядила ямщика из местных.
Была Павлина весела, благодушна. Рассказывала Мите про то, как славно и покойно покатят они теперь до Москвы. Одни не поедут, упаси Господь, а только с хорошими попутчиками. И никакой Пикин тронуть не посмеет.
Похоже, по вечерам «Посадник» превращался в подобие салона или клоба, ибо чистой публики в зале собралось изрядно. Были и проезжающие, и местные дворяне. Закусывали, пили чай с кофеем, вели негромкие, приличные разговоры. Митя смотрел на приятную картину и думал: вот если б у нас в России все население было столь же пристойным, тогда жили бы не в грязи и пьянстве, а культурно, как в Голландии или Швейцарии. Прав Данила, тысячекратно прав: надобно всемерно увеличивать активную фракцию.
Подошел солидный человек, немолодой. Прилично представился:
– Коллежский советник Сизов, служу в канцелярии его превосходительства господина наместника. Почитаю долгом гостеприимства объезжать гостиницы, где останавливаются путешественники благородного звания, и спрашивать, нет ли в чем недовольства.
И это Мите тоже понравилось.
Павлина назвалась Петровой, московской дворянкой, поблагодарила за заботливость.
Местный чиновник погладил Митю по щеке:
– Славный какой казачок. Как тебя звать?
У самого взгляд цепкий, внимательный. Видно такой уж серьезный человек, что даже с детьми по-иному не умеет. Пролепетал ему:
– Митюса.
– Ну-ну.
Коллежский советник отошел к соседнему столу, где сидела путешествующая из Москвы помещица с сыном и дочкой. Поговорил и с помещицей, тоже и про детишек не забыл. Потом сделал козу маленькому краснощекому немчику, который с гувернером ехал в Тверь, где его фатер служил в акцизе. И лишь после этого, исполнив долг гостеприимства, сел к огню выпить пива.
А вскоре в залу вошел еще один господин – в коричневом камлотовом сюртуке, замшевых сапогах до колен, с аккуратно напудренными волосами. Постоял у порога, откашлялся и направился прямиком к камину, подле которого сидели Хавронская и Митя.
Посмотрев в лицо вновь прибывшему, Митя ахнул. Этот взгляд из-под черных бровей, скептические морщинки у глаз, высокий лоб не узнать было невозможно.
Данила! Но сколь преображенный!
Без бороды, с обнажившимся лицом – худым, тонкогубым, прорытым резкими складками – он вовсе не походил на старика. Скорее на зрелого мужа, не так давно преодолевшего цветущую пору жизни. Длинные волоса лесной лекарь обстриг чуть ниже ушей, вверху взбил, сзади завязал в косицу и теперь их седина выглядела обыкновенной припудренностью.
Смущенно подмигнув Мите, Фондорин поклонился графине. Та морщила лоб, словно не могла припомнить давнего, успевшего подзабыться знакомого.
– Раз уж я в городе… – Данила запнулся и слегка покраснел. – Одним словом, решил вот принять городской вид, чему поспособствовал мой друг и многолетний корреспондент, местный судья. Вот, одолжился из его гардероба.
Только теперь, по голосу, Павлина его признала.
– Ах! – воскликнула. – Так вы не поселянин? Мне следовало догадаться по вашей речи. Но кто вы? Какого звания?
– Данила Ларионович Фондорин, природный русский дворянин. Готов к услужению вашего сиятельства.
Хавронская ответила церемонным наклоном головы. Ее серые глаза взирали на преображенного Данилу с интересом.
– Как? Фон-Дорн? Не родственник ли вы генерал-поручику Андрону Львовичу Фон-Дорну, наместнику ярославскому? Но, прошу вас, садитесь.
– Как же, это мой кузен, сын родного моего дяди.
Данила сел на край стула, изящно оперся о стол локтем. От первоначального смущения, если оно вообще не померещилось Митридату, не осталось и следа. Бывший камер-секретарь держался уверенно, а говорил гладко и непринужденно, будто заправский посетитель салонов.
– Андрон уже генерал-поручик? Высока взлетел. Два года назад, когда я покинул Москву, он вышел из армейских полковников статским советником. Впрочем, нимало не удивлен. Их ветвь побойчее нашей. Мы с ними давно не знаемся – лет, пожалуй, тридцать. Это они, сударыня, называются Фон-Дорны, а я Фондорин, как дед наш Никита Корнеевич писался. В краткое царствование Петра III, когда в силу вошли немцы с голштинцами, дядя Лев всепокорнейше испросил позволения именоваться, подобно нашим старинным предкам, Фон-Дорном. При государыне же Екатерине, когда в моду попали природные русаки, дядя стал обратно в Фондорины проситься, да соизволения не получил. – Данила злорадно хмыкнул, а Митя подумал, что тут уж, верно, не обошлось без участия некоего камер-секретаря. – Приказано ему и потомству оставаться Фон-Дорнами. А многочисленные дядины бастарды, рожденные от крепостных девок, обходятся без «фона», их пишут просто «Дорнами».
Графиня рассмеялась – рассказ ее позабавил.
– Располагайтесь удобней, Данила Ларионович. Вытяните ноги к огню. Не угодно ли шоколаду или грогу? Мы с Митюней стольким вам обязаны! Право, кажется, что я вас знаю много лет. Сразу видно человека бывалого, много повидавшего. Расскажите о себе. Одно я из главных наслаждений жизни – в зимний вечер у камина послушать искусного и умного рассказчика.
– Вы в самом деле так полагаете? – Данила приятнейше улыбнулся. – Странное суждение из уст молодой и прекрасной особы. Обычно в ваши лета и с вашей внешностью предпочитают иные наслаждения.
Видно было, что комплимент графине приятен.
– Значит, я отлична от других, – молвила она, заправляя в точеную ноздрю щепотку душистого майнлибера из золотой табакерки. – Не угодно ли прочистить нос?
– Признателен за угощение, но ни грогу, ни табаку не употребляю. Я решил ограничить себя в привычках, которые ослабляют волю или ведут к изнеженности. Впрочем, – спохватился Фондорин, – эти добровольные ограничения я наложил на себя в зрелые годы. В молодости же чрезмерная воздержанность вредна, ибо может привести к высушиванию души.
Павлина улыбнулась и мелодично чихнула в шелковый платочек.
– Отменного вам здоровья, Павлина Аникитишна.
Вытерев слезы, она кивнула:
– Благодарю, любезный друг. Так расскажите же, отчего вам вздумалось сделаться лесным жителем? Признаюсь, мне и самой не раз хотелось бежать от суеты света в девственные леса, жить там простой, немудрствующей жизнью.
– Это вы, Павлина Аникитишна, начитались господина Бернардена де Сен-Пьера. – Данила вздохнул. – Опаснейший род чтения, отнявший у меня брата, юношу чувствительного и прекрасного душой. Он пустился в Новый Свет на поиски рая природной простоты, да так и сгинул. Нет, графиня, отшельником я оказался по иной причине. – Он помолчал, испытующе глядя на собеседницу, словно решал, говорить ли дальше, и, кажется, прочел-таки в ее глазах нечто, располагающее к откровенности. – Если желаете, расскажу, хотя должен предупредить, что история печальна.
– Душевно вас прошу! – воскликнула она, прижимая руки к груди. – Мне это очень интересно! А что до жизненной печальности, то вряд ли кто поймет вас лучше, нежели я.
Слушая этот во всех отношениях утонченный разговор, Митя таял сердцем. Истинно благородная беседа подобна менуэту, исполняемому искусными танцорами. Всяк знает свою партию в доскональности, а сколько изящества в каждом звуке, в каждом движении!
Он сел поудобнее, готовясь слушать. Павлина премило сцепила руки под округлым подбородком. Фондорин же обратил свой взор на пламя очага и в продолжение всего рассказа ни разу не оторвал глаз от алых языков флогистона, с потрескиванием покидавшего березовые поленья.
– Я не стану подробно описывать вам начало моей жизни, ибо оно не имеет прямой связи с обстоятельствами, понудившими меня искать лесного уединения. Скажу лишь, что в первую пору своего существования я, подобно большинству, брел наугад, не столько сам выбирая тропинку, сколько следуя той, что оказалась ближе. Временами случайные эти стези выводили меня на возвышенные холмы, иной раз заставляли спускаться в низменные расщелины, но путь мой все время был окутан туманом, и я, сколь ни тщился, мог видеть лишь малую часть окружающего ландшафта. Так бы я и блуждал до самой своей кончины, подобно несмышленому ребенку, если б однажды, безо всякой своей заслуги, а по одной лишь счастливой случайности, не наткнулся на свою дорогу.
– Как это? – с живым любопытством спросила Павлина. – Я понимаю, вы говорите в аллегорическом смысле, но все же как вы догадались, что это именно ваша дорога? На ней что же, был указатель с надписью «Для Данилы Фондорина»?
– Нет, указателя не было, но, когда попадаешь на свою дорогу, ошибиться невозможно.
– Почему?
– Потому что туман, прежде окутывавший твой взор, сразу рассеивается. И ты видишь окрестные леса, горы, моря, видишь высокое небо и, главное, зришь лежащий пред тобой путь, равно как и цель этого пути.
– Что же это за цель? Графине так не терпелось услышать ответ на свой вопрос, что она вся подалась вперед.
– Мне она явилась в виде отдаленного города, защищенного высокими стенами и увенчанного множеством сияющих злато-розовых шпилей. Другому человеку, устроенному иначе, чем я, несомненно была бы явлена иная цель – вполне возможно, обретающаяся не на земле, а на небе. Но я сразу понял: мне нужно туда, вперед, к этим зубчатым стенам, потому что за ними я найду град Разума, Достоинства и Красоты.
– А что было дальше?
– То, милая Павлина Аникитишна, что я пошел по этой дороге. И по прошествии некоторого времени, отшагав чрез страны и годы, обнаружил, что отнюдь не одинок на сем пути. У меня появились спутники, немногочисленные, но отрадные. Мы объединились в некое добросклонное общество, члены которого были слишком скромны в оценке собственных совершенств, чтобы стремиться к переустройству человеческого общежития, а потому более всего стремились к познанию Бога, Натуры или самих себя, ибо все сии тайны есть одно и то же.
– Я не вполне понимаю… – Павлина наморщила лоб. – Вы говорите не совсем ясно.
Ах, да что ж тут не понимать, подосадовал Митя. Право, только слушать мешает! От досады он даже крякнул и головой тряхнул так, что замечательная запорожская шапка слетела на пол – пришлось поднимать.
Данила же нисколько не раздражился, а, наоборот, кивнул, будто замешательство Хавронской было совершенно естественным.
– Разве вам неизвестно, любезная графиня, что все главные тайны и все главные происшествия имеют место не вовне, а внутри нас? Все происходящее вокруг нас – лишь обращенные к нам вопросы, а наши деяния – ответы, которые либо приближают нас к тайне, спрятанной в нас самих, либо отдаляют от нее. И мы, братья Злато-Розового Креста, хотели вначале понять свое собственное устройство, а уж после, если сие устройство окажется благим (и лишь в одном этом случае), позвать за собой всех прочих, кто пожелал бы идти с нами к Чудесному Граду. Однако все эти искания, разумеется, составляли лишь часть моей жизни, пускай наиважнейшую и наивысшую, но все же не препятствовавшую обыкновенным занятиям. Из странствий я привез жену, поселился с нею в Москве и зажил счастливым семьянином.
– Так вы женаты? – Павлина улыбнулась, словно обрадованная приятной неожиданностью. – И как же зовут вашу супругу?
– Ее звали Джулия, – ровным голосом ответил Фондорин, по-прежнему не отрывая взгляда от огня. – Она была прекрасным ребенком солнечной страны, полным жизни и любви, а я погубил ее, и это первое из свершенных мной преступлений, за которые я каждодневно казним своей совестью.
– Она погибла? – Графиня прикрыла пальчиками рот, а ее ресницы заморгали часто-часто, и видно было, что слезы уже готовы пролиться из широко раскрытых глаз. – Я не верю, что вы могли быть в этом повинны!
– Она не выдержала суровостей нашего климата. А кто привез ее сюда, да еще в канун зимы? Я. Мне не терпелось соединиться со своими единомысленниками, применить на деле добытые в странствиях знания, и я притащил послушную девочку, которая готовилась стать матерью, в чужую, холодную страну. Джулия так ждала весны, тепла, солнца, а умерла снежной ночью в слепом месяце феврале…
Вот слезы и покатились по щекам Павлины Аникитишны, легко и обильно. Фондорин же помолчал некоторое время, потом откашлялся и продолжил свой рассказ.
– Она скончалась родами у меня на руках. Я, верно, лишился бы рассудка от горя или прибег бы к последнему лекарству невыносимой боли – самоубийству, если б не потребность спасать ребенка. Мой сын появился на свет очень маленьким и слабым. Сам будучи врачом, я не надеялся, что мальчик выживет, однако сражался за его жизнь со всей яростью отчаяния и, благодарение Разуму, свершил невозможное. Дитя выжило. Вы легко можете себе представить, сколь мнительным и пугливым отцом после всего этого я стал своему сыну. Он был болезнен и хил, и потому я назвал его Самсоном, чтобы имя библейского богатыря придало ему здоровья и сил. Так мы и жили вдвоем, и мое существование было исполнено двойного смысла: высшего, который брезжил мне под сенью Злато-Розового Креста, и обыденного, без которого жизнь суха и невозможна. А потом, тому два года, в Москве случились Обстоятельства. То есть, собственно, первоначально случились они не в Москве, а в Париже, где толпа отсекла голову последнему Бурбону, но в самом скором времени волна страха и безумия, прокатившись по Европе, достигла нашей окраинной империи. Нет более удобного рычага для воздействия на сильных мира сего, чем страх. Известно, что наша государыня, добывшая корону ценой убийства, всегда жила и поныне живет в отчаянном опасении за свою жизнь.
Эти крамольные слова Данила произнес, нисколько не понизив голоса. Павлина и Митя не сговариваясь поглядели по сторонам, но соседи, слава Богу, были увлечены собственными делами и к речам Фондорина не прислушивались. Один лишь давешний коллежский советник (кажется, он назвался Сизовым?), неотрывно смотрел в эту сторону, однако не на рассказчика, а на Митю. Впрочем, сидел он довольно далеко и слышать ничего не мог. Чего тогда, спрашивается, уставился?
– Был подле Екатерины один черный человечек, некто Маслов, – как ни в чем не бывало продолжил Фондорин, и Митя при звуке знакомого имени сразу забыл про бесцеремонного туземца. – Из того хитроумного ведомства, которое кормится от пресечения государственных злоумышлении и потому без злоумышленников существовать не может. А поскольку таковые попадаются нечасто, сему ведомству часто приходится выдумывать их самому, да чтоб были пострашней. Чем больше власть боится, тем Масловым вольготней. А тут этакий подарок – французская революция. Поискал Маслов в Петербурге якобинцев среди тамошних масонов. Да только известно, для чего у нас дворяне в вольные каменщики вступают – чтоб ужинать без дам и полезные знакомства делать. Какие близ престола революционеры? Курам на смех. Все ложи с перепугу тут же верноподданнейше самораспустились. Тогда Маслов додумался на вторую столицу взглянуть. А тут свой ворон сидит, московский главнокомандующий князь Озоровский. Он и рад стараться. Есть, докладывает, общество и претайное. Книжки всякие печатают, хлеб голодным раздают, лечат бесплатно – а для какой цели-надобности? Ясно: чтоб бунт готовить. И название непонятное: Братья Злато-Розового Креста. В каком-таком смысле?
– А в самом деле, в каком? – спросила Павлина.
– Наш предводитель причислял себя к рыцарям-розенкрейцерам, которые поклоняются Розе и Златому Кресту. Я же вкладывал в это прозвание свой собственный смысл, памятуя о явленном мне чудесном видении злато-розового града. Но вышел все же не град, а крест, потому что именно на этом орудии мучительства тайный советник Маслов вкупе с князем Озоровским и распяли моих высокодуховных братьев. Снарядили сыскное дело, а товарищи мои были люди нехитрые, доверчивые, запретных книжек далеко не прятали, мыслей своих не скрывали – бери их, дураков, голыми руками. И взяли. Кого в Сибирь, кого в крепость, кто с ума сошел, кто сам помер – ведь чувствительные все, тонкой души. А мне повезло… Заступилась за меня некая высокая особа. Всего месяц продержали в гауптвахте и выпустили без последствий.
Это за него сама императрица заступилась, не забыла своего камер-секретаря, догадался Митя. И очень ему понравилось, что Данила перед графиней своим прежним положением не похвастался, умолчал как о несущественном.
– Так все обошлось? – вскричали Павлина с облегчением.
– Не обошлось. – Фондорин нагнулся, толкнул кочергой полено. Лицо его было бесстрастным, по изрезанным морщинами щекам метались красные отсветы. – Вернулся я к себе в дом из-под ареста нежданным манером. Дворня уж не чаяла своего барина вновь увидеть, ведь мне, по слухам, была уготована самое меньшее вечная каторга. Без хозяина слугам жить понравилось. Рожи сытые, масленые, все ренские да венгерские вина из погреба повыпили, мебель-картины распродали. Думали, чего жалеть – все одно на казну отпишут. Увидели меня – затряслись. Повалились в ноги, воют, прощения просят. Я им: «Пустое, друзья мои. Разум с ней, с мебелью, другую заведу». Они – пуще выть: «А еще за то, барин, прости, что сыночка, кровиночку твою, не уберегли». Ну, у меня в глазах и потемнело. Кажется, закричал я и даже на время чувств лишился, чего со мной во всю жизнь ни разу не случалось. Правды от слуг нескоро дознался… А вышло так. – Данила опять покашлял. – Меня ведь как арестовывали – с превеликим шумом, будто нового Пугачева хватали или самого Робеспьера. Явился целый воинский отряд, при ружьях, при лошадях. Что лязгу-то, крику. А Самсон у меня был мальчик трепетный душой. Он, бывало, на ярмарке медведя на цепи увидит, так после неделю ходит сам не свой, зверя жалеет. Тут же как-никак не медведя – родного отца в кандалы заковали, да на улицу поволокли… Ну, и слег мой Самсоша с нервной горячкой. Думаю, за ним толком и не ходил никто, потому что у слуг вольная жизнь началась, не до больного ребенка. А ведь жила у меня дворня всем на зависть. – Фондорин покачал головой, как бы вчуже удивляясь этакой странности. – На «вы» их называл, ни разу не высек никого, даже когда было за что. Беседы вел, чтоб из них граждан воспитать. Теперь-то я думаю, что так скоро граждане из рабов не происходят. Но это сейчас не к делу, не о том рассказ… Сын, говорят, все бредил, к батюшке рвался. Однажды слуги заглядывают к нему в комнату – кровать пуста, окно нараспашку. В одной рубашонке вылез и ушел неведомо куда. А зима была. Вроде бы даже и искали они его, а может, и врут. Дождь был в ту ночь со снегом. Поди, из тепла и вылезать-то не захотели…
Тут он замолчал надолго, все барабанил пальцами по столу. Павлина всхлипывала, утиралась платком. Митя крепился, слезы глотал, и небу оттого было солоно.
– Дальше что ж. Пустился я на поиски. Награду посулил, небо и землю, как говорится, перевернул. Только не видал никто отрока семи годков, темноволосого, худого, с бледным личиком. Пропал мой мальчик безо всякого следа. Умом-то я понимал, что больному и раздетому не уцелеть ему было. Всякое себе представлял, и видения были одно ужасней другого. Замерз где-нибудь, или под лед провалился, или того хуже – попался какому-нибудь извергу, охочему до запретных пороков.
Пальцы, барабанившие по скатерти, вдруг сжались в кулак и ударили по столу так сильно, что подскочили чашки. В зале заоборачивались, а графиня кликнула слугу – поменять скатерть.
Данила дождался, пока все успокоится, и продолжил свою повесть.
– И стало мне невмоготу смотреть на людей. Отписал крестьянам вольную, московский дом предал запустению, сам же поселился в лесу. Там мне хорошо показалось: растения, звери, птицы. Есть друг друга едят, а мучить не мучают. Только недолго я робинсонствовал. И в скиту не оставили меня человеки. Лечи их, постылых, бабам брюхатым отвары вари, ребятишкам гадючьи укусы притирай… И чем дальше, тем хуже. В прошлую весну явился преосвященный Амвросий, здешний викарий. Дошли до него слухи о некоем лесном деде, которого крестьяне чтут. Приехал проверить, не раскольник ли, не колдовством ли врачую. Я с Амвросием потолковал, полечил его от почечуя целебными свечками из травы-ликоцины, и так он меня полюбил, что повадился в гости ездить. Мало того, разнес повсюду, будто я старец святой жизни и даже угодник. Понесли про меня всякую небывальщину – мол, медведи ко мне за благословением ходят, как к Сергию Радонежскому, и прочее разное. Я в последнее время подумывал, не уйти ли из скита, найти место поглуше. А тут мне Разум вас послал…
– Так вы назад не вернетесь? – спросила графиня.
– Теперь, должно быть, уже некуда. У меня там свеча такая, особенная. Дмитрий вон видел, знает. Нынче утром, уходя, я ее гореть оставил. Думал, если ворочусь – успею загасить. А нет, пускай все сгорит огнем. Поселяне после скажут: вознесся Данила-угодник на небо в огненной колеснице, подобно Илье пророку. Этак, глядишь, в святцы попаду.
Павлина, еще не довсхлипывав до конца, улыбнулась, а Митя подумал: вот воистину искусный рассказчик. Завершив свою повесть, увел разговор в сторону от грустного и даже пошутил – это чтобы не оставлять на сердце у слушателей горького осадка.
– А что это у вашего сиятельства глазки красны и в дыхании хрипотца? – спросил Фондорин, повернувшись к Хавронской и внимательно глядя ей в лицо.
– Ваш рассказ тронул меня до слез.
– Нет, не то. Позвольте-ка. – Он осторожно поднес руку к ее лицу и приподнял веко. – Так и есть. Простыли, матушка. Надо болезнь в самом начале пригасить, не то расхвораетесь. Хорошо ли будет?
– У меня и в самом деле горло несколько саднит, – призналась Павлина. – Да что поделаешь? Ехать все равно надо.
– И поедете, отличным образом поедете. Только я вас сначала эликсиром напою, собственного сочинения. Как раз взял у своего знакомца необходимые ингредиенты. Так и знал, что пригодятся в дороге.
Он достал из кармана пару каких-то пузырьков, пакетик, пучок сухой травы. Махнул половому:
– Эй, принеси-ка шкалик самой лучшей водки и лимон.
В одну минуту соорудил лекарственное зелье. Половину велел выпить тотчас же, остаток смешал с горячей водой.
– Это – горло полоскать. Пойдемте к рукомойнику, я покажу, как. И воспаление как рукой снимет, вот увидите.
– Посиди здесь, крошечка, мы сейчас вернемся. – сказала Павлина, и Митя остался за столом один.
Стало быть, Данила лишился обожаемого сына два года назад, и Самсону тогда было семь, как сейчас Мите. Не мучительно ли осиротевшему отцу видеть перед собой отрока тех же лет?
И он стал мечтать, как сыщет пропавшего Самсона, который окажется жив и здоров, просто от горячки отшибло у него память. Живет он у хороших людей, ни в чем не ведает нужды. Но когда Митя приведет к нему родителя, Самсон, конечно, сразу все вспомнит. То-то будет счастья, то-то радости! И Данила из грустного сделается веселым, а ему, Мите, скажет…
– Дружок, смотрю я на тебя, и до того ты мне нравишься, – раздался вдруг у самого его уха вкрадчивый голос.
Митя обернулся и увидел совсем рядом местного чиновника, который так пялился на него из угла.
– Такой ты, братец мой, хорошенький, что захотелось мне сделать тебе подарок, – продолжил этот самый Сизов и улыбнулся, но глаза у него остались неулыбчивые, сосредоточенные. – Пойдем во двор. У меня там полный мешок пряников. И яблочки моченые тоже есть.
– Не хотю яблотьков, – ответил Митя докучливому дядьке.
Но тот взял его на руки, прижал к себе.
– Пойдем, детка. Я тебе свою лошадку покажу. Она мохнатая, с серебряными бубенцами. Накинь бекешку. Чудо что за бекешка. И шапка хороша.
Сдернул с головы шапку, погладил по макушке, снова надел.
Вот ведь привязался!
Митя забарахтался в крепких руках коллежского советника, крикнул:
– Пусти! Не хотю пряников! И лосядку не хотю!
Может, заступится кто-нибудь? Соседка-помещица оглянулась, сказала своим чадам:
– Вот какой мальчик крикун. Кобенится, ничего не хочет.
Сизов быстро понес сопротивляющегося Митю к дверям.
Ну уж это чересчур!
– Мама Пася! – отчаянно заорал Митя. – Данила-а-а!
В темном коридоре не было ни души.
– Тихо ты, бесеныш! – шикнул чиновник и внезапно перехватил пальцами горло, так что Митя сбился с крика на хрип. – Будешь шуметь, шейную жилу раздавлю!
«Вы что, с ума сошли?» – хотел спросить новгородца Митя уже безо всякого детского сюсюканья, но с губ рвался лишь сип.
Сизов же выдернул из кармана носовой платок и запихал ему в раскрытый рот, а потом сорвал с шеи галстух и повязал сверху. Только после этого отпустил горло, но с забитым ртом не очень разговоришься.
Опять подхватил на руки, через холодные сени выбежал наружу.
И там никого не было. По темной улице мела вьюга. Горел тусклый фонарь.
– Сейчас, сейчас, – бормотал сумасшедший, отвязывая от привязи каурую лошадь, никакую не мохнатую и безо всяких бубенцов.
Лошадь была впряжена в одноместный возок, похожий на повернутую боком корзинку.
– Тихо! – рявкнул коллежский советник на извивающегося и мычащего Митю. – Пришибу!
Откинул сиденье, под ним оказался пустой короб. Сизов сунул туда Митю головой вниз, захлопнул крышку и, судя по скрипу, уселся сверху.
Митридат попробовал вывернуться. Куда там! Тесно, не шелохнешься. Уперся спиной в сиденье – не сдвинул ни на полдюйма.
Господи Боже, что ж это творится?
– Н-но, пошел!
Сани тронулись, однако проехали недалеко. Раздался звук быстрых шагов, лошадь заржала, остановилась – видно, кто-то схватил за узду.
– Что вам нужно? – крикнул Сизов. – Пустите повод!
– Сударь, где мальчик?
Это был голос Фондорина!
Митя замычал, стал тыкаться в стенки проклятого короба. Я здесь! Данила Ларионыч, миленький, я здесь!
– Какой мальчик? Я спешу. Прочь!
– Казачок моей приятельницы. Мне сказали, что это вы вынесли его из залы.
– А, тот мальчонка? Право, не знаю. Дал ему леденец, он и убежал куда-то. Шустрый постреленок Прощайте, сударь. Мне недосуг.
– Убежал? А что это за стук доносится из-под скамьи?
Ага, услышал! Митя заерзал еще пуще.
– Это я лягавых щенков положил, чтоб не померзли. А впрочем, не ваше дело. Вы мне докучаете. Великое ли дело, казачок потерялся!
На это Данила ничего не сказал, но коллежский советник угрожающе повысил голос:
– Пусти руку, невежа! Я в Новгороде лицо известное! Коллежский советник Сизов! Мне и полицмейстер подвластен! Скажу слово – проведешь ночь в холодной! Ну!
– Моя спутница весьма привязана к своему казачку, – словно бы оправдываясь молвил Фондорин. – Что же я ей скажу?
Чиновник убавил грозности, очевидно, считая спор решенным.
– Скажите ей, чтоб уезжала из нашего города, да поживей.
– Уезжала? – с сомнением переспросил Данила. – Однако казачок – ее собственность. Он стоит денег, да и на его экипировку потрачено немало. Бекеша, мерлушковая папаха, сапожки на меху…
Сизов оборвал его – нетерпеливо, веско:
– Передайте вашей спутнице, чтоб забыла и о казачке, и о бекеше. Всякая попытка искать возмещения своих потерь обернется лишь против нее.
Глава тринадцатая
Жизнь взаймы
Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Эту немудрящую присказку Николас вспомнил не раз и не два, пока ехал неспешным товарным поездом на северо-запад. Жизнь отняла у магистра многое, но многому и научила.
Например, по новому относиться к основным категориям движения – времени и пространству. Привычные представления оказывались ошибочными. Когда состав стоял, пространство исчезало и оставалось только время; когда же несся на полной скорости, все было наоборот.
Нашлось чему поучиться и у попутчика Миши. Был он человек божий, легкий, из вечной русской породы бродяг, которая за тысячу лет существования России не так уж сильно и изменилась. Легко было представить Мишу сто или двести лет назад. Ну хорошо, вместо старых кроссовок на нем были бы лапти, а вместо китайской куртки какое-нибудь рубище, но по-детски безмятежные глаза смотрели бы на мир точно с таким же любопытством, и торчала бы веничком бороденка, и речь была бы обманчиво проста. Социальные потрясения, безработица и крах прежнего уклада в данном случае были ни при чем – Миша гулял по Руси уже двадцать лет, неоднократно проделав маршрут от Владивостока до Выборга и обратно.
От двухдневного общения с вневременным Мишей, от выпадения из привычного круга жизни, наконец, от диковинности конечного пункта своего путешествия – отшельнического скита – у Фандорина возникло ощущение, что сбылась его давняя мечта: он умудрился-таки попасть в прошлое. Правда, не окончательно, а как бы наполовину – повис где-то между исторических эпох. Как, впрочем, и страна, которую он разглядывал, лежа на тюках с ватой.
Так уж вышло, что все шесть лет своего российского гражданства Николас почти безвыездно провел в Москве. Из провинции видел только подмосковные дачи да дорогу до аэропорта Шереметьево-2. А Россия, оказывается, была совсем другая, вся состоящая из скачков во времени.
Мимо то проплывала деревенька вся сплошь из развалившихся изб: одна-две дымящие трубы, покосившаяся колокольня без креста – прямо картина из Смутного времени. То на пригорке вдруг нарисуется аккуратный, новехонький монастырек, какие строили году этак в 1870-м, когда у русских архитекторов началось нервное расстройство от смешения классического и славянского стилей. А потом откуда ни возьмись – современный, энергичный город, весь в новостройках и рекламах мобильной связи. Отчего одни местности выглядели процветающими, а другие пребывали в запустении, понять было невозможно, и ощущение загадочности игры, которую затеяли время и пространство, еще больше усиливалось.
На переезде, в пятнадцати километрах от Чудова, железнодорожная часть Никиного путешествия закончилась, дальше нужно было идти пешком.
Миша сунул Фандорину в карман вареное яичко, которым разжился на последней остановке, посоветовал: «Тапки-то обмотай, обезножишь!», и Николас спрыгнул на насыпь.
Поезд еле полз, так что обошлось без членовредительства. Магистр скатился вниз по чистому, выпавшему ночью снежку, отряхнулся и пошел напрямик через поле. Потом, как объяснил Миша, нужно будет взять вправо, пройти по шоссе самую малость и свернуть в лес – там указатель. Божий человек все знал, везде бывал, в том числе и у лесного старца, нынешней весной. Захотелось посмотреть на святого человека, послушать, что скажет. Но впечатлениями Миша при всей своей словоохотливости делиться не стал, сказал: сам увидишь, и загадочно улыбнулся.
Указатель на шоссе и в самом деле был – деревянный столбик, на нем опрятная табличка: «К ст. Сысою». Ника не сразу догадался, что «ст.» означает «старец», а когда догадался, только головой покачал. Кто бы мог подумать, что из этакого Карабаса Барабаса получится святой старец? Хотя, с другой стороны, разве мало в истории христианства, да и других религий подобных казусов? Из великих грешников праведники получаются более качественные, чем из добропорядочных членов общества. На то оно и Божье чудо.
Дорожка через лес была ухоженная, любовно вымощенная камнями. Эти-то камни и добили Николасову обувку, которая и без того дышала на ладан. Не послушался он Мишу, опытного бродягу, не обвязал истрепавшиеся тапочки тряпками, думая и так дойдет. И вот одна подошва расползлась на куски, через сотню шагов приказала долго жить и вторая. От обуви осталась одна видимость, поэтому, когда вдали показался бревенчатый частокол и увенчанные дубовым крестом ворота, Фандорин свои бессмысленные опорки скинул, припустил – по дорожке в одних носках. Ничего, как-нибудь – вот он уже, скит.
Скит-то скит, да только войти в него оказалось не так просто. У ворот топталась очередь, а за углом ограды обнаружилась автостоянка, где был припаркован сияющий длинный «БМВ».
Пришлось встать в хвост, прыгать поочередно то на одной ноге, то на другой.
Перед Фандориным стояла немолодая пара: женщина с бледным, исплаканным лицом, рядом седовласый красавец атлетического сложения. Покосился на Никину куртку (погоны с нее были сняты, но пуговицы с гербами остались), иронически пробасил:
– Зина, погляди, милиционер пришел грехи замаливать. По всей паломнической форме – босой и простоволосый.
Женщина подняла ворот норковой шубки, плохо сочетавшейся с черным монашьим платком, и укоризненно сказала:
– Костя, ты обещал.
У ироничного красавца сделалось виноватое выражение лица.
– Прости, больше не буду. Замерзла? Посиди пока в машине.
И показал на лимузин, из чего можно было заключить, что БМВ принадлежит не отшельнику. А что, со «старца Сысоя» сталось бы, подумал Фандорин.
– Так нельзя, – ответила женщина. – Это будет не правильно.
За исключением этой пары очередь состояла из людей бедно одетых и понурых. В воротах их встречал служка в рясе и скуфейке. Тихо поговорит с каждым, запишет что-то в книгу, пропустит.
Углядел Никину разутость, подошел, неодобрительно покачал головой.
– Зачем это вы самоистязанием занимаетесь? Старец не одобряет. Немедленно обуйтесь.
– Не во что, – пробормотал Николас, смущенный таким вниманием к своему опорно-двигательному аппарату.
Послушник не удивился, только проворчал что-то, окинув взглядом все два метра фандоринского роста. Ушел за ворота, через минуту вынес войлочные боты брэнда «прощай молодость».
– Сорок пятый размер, больше нет. И вернулся к своим обязанностям. Теперь Николасу ожидание было нипочем – он блаженствовал, наслаждался теплом. Даже улыбнулся, когда седовласый прогудел жене:
– Как тапки в музее, только завязочек не хватает.
И снова та жалобно воскликнула:
– Костя!
И снова он смутился.
– Ты не понимаешь, – заговорила она вполголоса. – Нужно верить, в этом все дело. И ты тоже должен верить, иначе не получится.
– Я понимаю, – ответил мужчина. – Самовнушение, психотерапия и все такое. Зин, я стараюсь, честно.
Она взволнованно схватила его за руку:
– Разве ты не чувствуешь, какой здесь особенный воздух, какая звенящая тишина! Это такое место, такое… как это, слово забыла…
– Магическое? – быстро подсказал муж.
– Ах нет, нет! Забыла!
Отчего-то такая простая вещь, как забытое слово, вызвала у женщины настоящий приступ отчаяния – по ее лицу потекли слезы.
– Ну что ты, что ты, – переполошился мужчина. – Подумаешь, я тоже иногда слова забываю.
– Но не такое! Я его все время говорю… Ну, когда хорошее место, где много молились.
– Намеленное, – обернулся старичок, стоявший впереди супружеской пары. – Еще бы не намеленное. Здесь в старинные времена жил святой праведник, Даниил-угодник. Единым прикосновением любые болезни исцелял, хоть у людей, хоть у зверей лесных. И за святость был живым вознесен в небесную сферу. Приходят на эту вот поляну местные жители, а праведника нету. Ну, они думали за травами какими ушел или за кореньями, на малое время. На столе-то у него свеча горела. А потом свеча как вспыхнет, сполохи от нее, и весь дом небесным огнем воссиял. Еле те, кто это видел, выскочить успели. Вот какое было знамение. И с тех пор тут много всяких чудес бывало. В последнюю войну каратели окружили партизанский отряд. Одних убили, других живьем взяли. Привели пленных на эту поляну расстреливать. Вдруг офицер ихний, самый главный эсэсовец, задрожал весь, руками перед собой замахал, будто увидел нечто. Командует своим по-немецки: «Кругом, марширен отсюда!» И ушли каратели, а партизан живых оставили. Мне один человек рассказывал, что старец Сысой – один из тех самых партизан.
– Что вы, мужчина, выдумываете? – вступила в беседу постного вида девушка в таком же, как у забывчивой дамы, черном платке. – Вы старца-то хоть видели? Ему лет пятьдесят, никак не больше. А партизанам вашим было бы уж все восемьдесят.
Старичок снисходительно улыбнулся.
– Э-э, милая моя, небольшая, я вижу, в вас вера-то. – И перешел на таинственный шепот. – В восемьдесят лет на пятьдесят выглядеть – это еще не штука. А я вам вот что скажу: старец Сысой и есть Даниил-праведник. В войну партизаном представился, чтоб святая поляна смертоубийством не осквернилась. А ныне вернулся сюда в облике отшельника, потому времена теперь такие, что без праведников пропадем все. Спроста, что ли, по-вашему, именно здесь скит построился?
– И ты хочешь, чтобы я верил в эти сказки Шехерезады? – тихо спросил жену седовласый.
– Во что? – удивилась та. – Какие сказки?
Мужчина растерянно заморгал глазами.
– Зиночка, ну что ты. Сказки Шехерезады, «Тысяча и одна ночь». Али баба, Аладдин. У нас на полке стоит, красивая – такая книга с золотым обрезом. Помнишь?
– Да, – неуверенно ответила женщина. – Кажется, помню…
Очередь двигалась довольно быстро. В ворота вошла и постная девушка, и старичок мистического уморасположения. Подошел черед состоятельной пары.
Выслушав, что нашептывает женщина, инок перелистнул амбарную книгу, сказал:
– Сегодня, в два. Проходите в скит, вас разместят.
Выразительно постучав костяшками по крепкому косяку, владелец лимузина спросил:
– Послушайте, человек божий, а что это вы от нас, недостойных, стенами да запорами отгородились?
Женщина испуганно схватила своего неуемного супруга за рукав, однако привратник на дерзкий вопрос не рассердился. Ответил, впрочем, непонятно:
– Это не мы от вас отгородились, а вы от нас. Следующий!
У Фандорина спросил:
– Вам что от старца нужно? Помощь или моление?
– Помощь, мне очень нужна помощь.
– Тогда… – Послушник снова перевернул страницу. – Послезавтра, в четверть седьмого утра.
– Но почему так нескоро? – возмутился Николас. – Этих вон на сегодня назначили! Или у вас в скиту по одежке встречают, как в миру?
– У нас две очереди, на помощь и на моление. За молением мало кто приходит, все больше за воспомоществованием, потому туда и очередь длиннее. – Посмотрев на обтрепанные брюки паломника, все в катышках от ваты, инок строго сказал. – Только учтите, зряшно старец никому не помогает. И мне наказал: «Халявщиков в шею». Старец деньгам счет знает, он в мирской жизни банкиром был.
Фандорин удивился: выходит, патрон своих прежних занятий не скрывает и не стыдится?
– Мне не денег надо. Мне бы просто с ним поговорить. Мы старые знакомые, даже друзья. Скажите ему – Николай Фандорин пришел.
Привратник зевнул, перекрестил рот.
– Старцу теперь все друзья, что знакомые, что незнакомые… Если вы не за денежным воспомоществованием, тогда запишу в очередь на моление. Нынче в два тридцать приходите. Следующий!
Устройство скита было такое: «пещера», где проживал сам старец, братская изба, гостевой дом для паломников, поделенный на две половины, мужскую и женскую, и хозяйственный блок с собственной мини-электростанцией. Все постройки из гладко оструганных бревен, с крышами из жизнерадостной зеленой черепицы. Ни церковки, ни часовни внутри ограды не было – только икона Спасителя, да и та в необычном месте: прямо на сосне. Над иконой остроугольный навес от дождя, по бокам защитные дощечки, отчего вся конструкция смахивала на скворечник.
Загадка разъяснилась за трапезой, когда Фандорин с другими паломниками ел постные щи с кашей (оба немудрящих блюда показались изголодавшемуся магистру необыкновенно вкусными). Соседи по длинному дощатому столу сообщили, что старец, оказывается, в монахи не постригался, да и в священники не рукоположен. Приходящих не благословляет, потому что не имеет такой власти, а просто молится вместе с ними, и это многим помогает. Один желчный дядька, приехавший за молением из Петербурга, сказал, что церковное начальство поначалу даже запрещало верующим ходить в лес к старцу и сменило гнев на милость, лишь когда Сысой пожертвовал миллион на иконную фабрику. Правда, несколько других паломников объявили эту информацию злостным измышлением и клеветой, в результате чего в трапезной разразился небольшой скандал, но скоро утих – настроение у присутствующих все же было торжественное, благостное.
Слушать, как о компаньоне, которого Ника знал совсем с иной стороны, говорят с замиранием голоса и благоговением, было удивительно. Неужто бывает, чтобы человек до такой степени изменился? Это правда, что он уже довольно давно стал увлекаться божественным и терять вкус к предпринимательству. В последний год мирской жизни партнер вел полузатворническое существование, они с Николасом совсем перестали встречаться. Но дистанция между набожным бизнесменом и лесным отшельником слишком уж велика. Он был такой жовиальный, любитель выпить и закусить, и вдруг – святой старец, к которому едут издалека за молением и помощью.
Моление Николасу, конечно, не повредило бы, но лучше все же было бы получить помощь. В прежние времена, когда Сысой еще не был Сысоем, вряд ли бы он стал молиться, но уж помог бы наверняка…
Ровно в половине третьего, ужасно волнуясь, Фандорин поднялся на крылечко «пещеры» – славного, аккуратного домика с белыми занавесками на окнах.
Оказалось, рано. Давешняя пара, которой было назначено придти в два, еще дожидалась своей очереди – сидела в прихожей, а из открытой двери кельи доносился негромкий, хорошо знакомый Николасу голос с легким кавказским акцентом.
– …Как «зачем»? – удивленно спросил голос. – Так-таки не знаешь, зачем на свете живешь? Смешная какая!
Дама держала свою норковую шубку на коленях, нервно мяла кружевной платочек с монограммой. Фандорину кивнула, как знакомому, и шепнула:
– Задерживаемся. Женщина, которая перед нами, никак не уйдет.
– Тсс, – шикнул на нее муж, прислушиваясь к разговору в келье.
Выражение лица у него было насмешливо-удивленное, но скорее все-таки удивленное, чем насмешливое.
– Не знаю, отче, – подтвердил унылый голос, женский. – Зачем родилась, зачем столько лет ела, спала, работала? Зачем замуж вышла, зачем четверых детей нарожала? Кому они нужны, кому я нужна? Я что к вам пришла-то. Мысль одна покоя не дает. Я в семь лет туберкулезом заболела. Все думали – помру. Но врачи попались хорошие, выжила. А теперь думаю: зачем выжила-то? Если б тогда умерла, всем лучше бы было, и мне первой. Никакой во мне искры нету, никакого таланта. Никогда не было ни мне от жизни радости, ни ей от меня…
– Это правильно, – охотно согласился старец. – Битый час с тобой толкую и вижу, что женщина ты нудная и глупая. Все ноешь, ноешь – у меня аж зуб под коронкой из-за тебя заболел. А все же жизнь свою ты не напрасно прожила.
Паломница вяло протянула:
– Это вы из доброты говорите, в утешение.
– Нет, раба Божья, я попусту воздух сотрясать не привык, не такой у меня бэкграунд.
– Что не такой?
– Биография не такая, чтоб языком болтать, поняла? Как же ты зря жизнь прожила, если четырех детей в мир привела? Знаешь, что такое ребенок, глупая? Это тебе лишний шанс свою жизнь оправдать. Выигрышный лотерейный билет. Пускай у тебя жизнь не задалась, пускай ты самое что ни на есть пустое существо, но если ты родила ребенка, все меняется. Поняла?
– Нет, отче, не поняла.
– Фу, дура какая! – загорячился Сысой. – Я тебе русским языком толкую: лотерейный билет, поняла? Может, для того тебя Господь от туберкулеза и спасал, чтобы ты ребенка родила – такого необыкновенного, какого прежде еще не бывало. Может, от твоего ребенка весь Божий мир лучше станет! А у тебя лотерейных билетов целых четыре, и на каждый ты можешь Грин-карту выиграть – да не в какую-то там Америку, а в рай!
– За детей-то? – усомнилась паломница. – Да мой старший в тюрьме сидит, по третьему разу. Сашка, второй, учиться не захотел, в армии сейчас. Дурень дурнем. А дочки-близняшки, Олька и Ирка? Тринадцать лет, а уж размалеванные ходят, по подвалам шляются. Глаза б мои на них на всех не смотрели.
Старец засмеялся:
– Что размалеванные – ничего. Это им любви хочется. Что тут плохого? И что Сашка твой дурень, тоже ничего. Может, поумнеет еще, да и не в уме главное. И на старшем крест не ставь. У Господа Бога чудес много, иному человеку и в тюрьме свет засияет. Ты вот что, Наталья Волосюк, ты ко мне приходи через десять лет. Расскажешь, как у твоих детей все сложится. Тогда и о смысле жизни поговорим. Запиши ее, Кеша, на 15 ноября 2011 года.
Раздалось быстрое щелканье клавиш, и Фандорин, не поверив ушам, заглянул в открытую дверь. Неужто компьютер?
Так и есть: в углу кельи стрекотал на клавиатуре молодой парень в черной рясе. Старец и ею собеседница сидели у стола, между ними мигал красным огонечком диктофон. На женщину Ника толком и не взглянул – его интересовал старец. Компаньон отпустил пышную получерную-полуседую бороду, вместо итальянского костюма на нем была черная хламида, но этим метаморфоза, пожалуй, и исчерпывалась. Обильная плоть былого чревоугодника нисколько не иссохла – поди все те же 125 килограммов, да и живые черные глаза блестели точно так же.
– Ва, Николай Александрович! – воскликнул старец, не удивленно, а обрадованно. – Какой молодец! Я за вас, безбожника, молился, а что приедете – и не надеялся.
– Так я через десять лет зайду, отче? – спросила паломница, поднимаясь.
Нагнувшись, чмокнула отшельника в мясистую руку и ретировалась.
– Ты знаешь, кто это, Иннокентий? – обратился старец к своему помощнику. – Это человек, который однажды дал мне правильный совет, после чего я сделал первый шаг в правильном направлении. Дорога в десять тысяч ли начинается с одного шага – это в Китае так говорят. Знаешь, что такое «ли»?
– Знаю, отче, – ответил ровным голосом очкастый Иннокентий. – Мера длины, равная четырем километрам.
– Всего получается сорок тысяч километров, то есть длина экватора, а стало быть что? Правильно, бесконечность, – назидательно сказал Сысой. – Вот какой бесценный совет дал мне мой друг Николай Александрович Фандорин.
Келейник бросил на Нику благоговейный взгляд и низко поклонился.
Момент был идеальный для того, чтобы завести разговор о деле, но тут в дверь заглянул седовласый скептик.
– Минуточку! Почему этот милиционер пролез без очереди?
Пришлось выйти. Оно и к лучшему: Николас был записан последним перед обеденным перерывом, так что обойдется без посторонних ушей.
Сидел на скамье, ждал, против воли прислушиваясь к разговору.
– Святой отец, у меня беда, – рассказывала женщина жалобно. – Ужасная болезнь, современная медицина бессильна. Болезнь Альцгеймера, слышали? Попросту говоря, старческое слабоумие.
– Знаю, знаю, – прогудел Сысой. – Как у Рональда Рейгана.
– У кого? – удивилась паломница. Муж нервным голосом подсказал:
– Бывший американский президент. Ну, голливудский актер. Помнишь, он в Москву приезжал, мы на прием ходили. Ты еще платье его жены все разглядывала.
– Нет, забыла…
Последовала пауза, прерываемая сморканием и всхлипами.
– Ой, – вдруг всполошилась женщина. – Извините, отче, я забыла серьги снять! Сюда ведь с бриллиантами наверное нельзя, тут святое место! Сейчас, сейчас сниму!
– Пустяки, – успокоил ее Сысой. – Не такие бриллианты, чтобы от них святости была помеха. Каратика полтора? Нестрашно. Ты, раба Божья, дело говори, а то у меня обед скоро. Плоть нам от Бога дана, ее беречь нужно.
– Спасите меня, отче! Мы все медицинские средства перепробовали! Я по три часа в день кладу эти… ну, перед иконой! Жертвую деньги, много. Уговорила вот мужа, чтобы к вам привез. Про вас чудеса рассказывают! Мне всего шестьдесят лет, отче…
– Шестьдесят четыре, ты забыла, – поправил муж.
– Да-да, извините, шестьдесят четыре! Наследственность плохая – с матерью было то же самое. Ее последние годы были чудовищны! Она пела детские песенки, по телевизору смотрела только мультфильмы про Чебурашку и Винни-Пуха. Я не хочу превращаться в идиотку! Лучше руки на себя наложу, чем буду, как мать!
Фандорин слушал жалобы несчастной и по профессиональной привычке думал, что бы ей посоветовать. Не так-то это было просто, а Сысой вот нисколько не затруднился.
– Руки на себя накладывать нельзя – это грех, – строго сказал он. – Даже и не думай. Жизнь для того Богом и дана, чтобы прожить ее всю, до старости, какая уж кому досталась. А болезнь Альцгеймера – это особенная милость от Господа. В младенчестве у человека душа постепенно просыпается, к телу привыкает, а в старости, наоборот, отвыкает от плоти, ко сну готовится. Да к какому сну-то – который и есть истинное пробуждение. Смотри, как твоей матери повезло. Она и не заметила, как от этой жизни к следующей перешла. И с тобой то же будет. Так что участь твоя легкая, завидная. Чем плохо – мультики смотреть? Вот кому тяжело будет, так это близким твоим, кто тебя любит.
Раздались быстрые шаги. Из кельи вышел седовласый. Лицо у него дрожало, и Николас понял, что этот человек действительно любит свою расфуфыренную старуху. Уж непонятно за что, но любит.
– Пойдем, Зина, – сказал мужчина. – Я тебе говорил – пустая трата времени. Пятьсот километров сюда, столько же обратно. Поедем с тобой в Швейцарию. Я читал, там новое лекарство нашли, «амилдетокс» называется.
Женщина безропотно поднялась и вышла, однако лицо у нее было уже не плаксивое, а задумчивое.
Седовласый же все не мог успокоиться. Сердито жестикулируя, сказал Сысою:
– Чушь это, святой отец! Капитуляция перед самим собой и перед жизнью. Меня, например, смерть если и возьмет, то на полном скаку – рухну, как из седла! Видали мышцы? – Он задрал рукав кашемирового свитера, показал крепкую, жилистую руку. – Я с сорока лет, когда впервые почувствовал, что молодость уходит, взял себе за правило каждое утро делать часовую зарядку, и чтоб непременно сорок отжиманий. С тех пор каждый год по одному отжиманию прибавляю, назло старости. Сейчас вот делаю шестьдесят шесть, а с первого января перейду на шестьдесят семь. Да еще штангу качаю, в проруби зимой купаюсь. Думаете, легко? Трудно, и с каждым днем все труднее. Когда-нибудь во время зарядки сдохну от разрыва сердца. И очень этим доволен!
Сысой вышел из кельи, сцепил пальцы на большом животе.
– И что тогда с твоей женой будет? Кому она кроме тебя нужна? Кто с ней нянчиться станет, мультики ей крутить? Так что ты, раб Божий, уж полегче с отжиманиями-то. Ну, храни Господь вас обоих.
Перекрестился, поманил пальцем Фандорина: заходи, мол.
Келейнику сказал:
– Иди, Кеша, обедай. И диктофон выключи, не понадобится.
Когда же компаньоны остались вдвоем, Сысой крепко прижал гостя к мягкой груди. Вполголоса спросил:
– Знаете, Николай Александрович, что самое трудное в христианском учении? Любить всех людей одинаково – что ближних, что дальних. С этим у меня пока не очень. Грешен, Господи. – Он покаянно перекрестился. – То есть любить-то всех уже научился, но некоторых пока еще больше, чем прочих. Например, вас. Сядем, поговорим, как раньше, а? Как хорошо, что вы приехали! Тут все приходят мне загадки загадывать, а у меня тоже вопрос есть. Кроме вас кто ответит?
Сели, помолчали. Николас ждал вопроса, Сысой готовился, подбирал слова. Наконец, начал:
– Вы что же думаете, я, как в Бога уверовал, сразу решил в скиту поселиться? И в голове не держал. Со смеху бы помер, если б мне кто такое сказал. Я сначала как хотел? Чтоб зла поменьше делать, а хорошего побольше, только и всего. Чтоб всех людей любить, такого плана у меня не было, честное слово. Я ведь раньше по другому закону жил. Помню, мне старший брат сказал, семилетнему; «Если ты мужчина, не давай себя…» Нет, не могу это слово сказать – отшельник все-таки. Не давай себя познать, если по-библейскому. Сам всех это, познавай. Такой у меня раньше закон был, пока в Бога не поверил. А познать и полюбить – это две очень большие разницы. Оказывается, не нужно никого познавать. Любить нужно! И все, и больше ничего.
– «All you need is love»? – кивнул Николас. – Во времена моего детства эта песня звучала из каждого радиоприемника. Я, помню, слушал и думал: как свежо, как просто и как верно. Всего-то и нужно, что относиться друг к другу с любовью, как люди этого не понимают? Потом, когда подрос, узнал, что ничего свежего тут нет. Люди всегда делились на тех, кто говорил: люби остальных, даже если они тебе ничего хорошего не сделали, и на тех, кто твердил: не давай себя … И это еще не самое печальное, потому что, когда так говорят, сразу видно, кто хороший, а кто плохой. А сколько в истории было случаев, когда любовь проповедовали злые? И учили всех любви, и заставляли любить насильно, и убивали тех, кто не хочет любить или любит не правильно?
– Э, зачем про этих говорить? – досадливо махнул рукой Сысой. – Какая может быть любовь, если людей не жалеешь? Я вот через жалость пропал. Сначала, чувствую, всех знакомых жалко стало: несчастных, потому что несчастные; счастливых, потому что счастье их когда-нибудь кончится. Дальше – хуже. Бизнесменов, с кем дела вел, жалеть начал. Обвожу их вокруг пальца, делаю, как последних лохов, а прежнего кайфа нет. Жалко. Тогда-то я от менеджмента и отошел, траст создал. Не разориться испугался – жалко стало людей, которые на меня работают. Куда денутся, на что жить будут? И пошло-поехало. Бедных жалко, больных жалко, детей жалко, стариков жалко, жителей Черной Африки жалко… Да не от случая к случаю, а все время. Тогда и решил: уеду в тихое место, буду жалеть там человечество с утра до вечера, с перерывом только на время сна. Правда, теперь и ночью жалею – такие уж сны снятся. Потом, смотрю, человечества мне мало сделалось. Зверей сильно жалеть начал. Зачем, думаю, мы их режем, шкуры с них сдираем? Грех это. И перестал мясо кушать. А помните, как раньше шашлык, сациви любил? Рыб есть тоже не могу. Как представлю: вот плавают они такие безмолвные, пучеглазые, шевелят своими губами, а сверху их сетью, и на палубу, где им дышать нечем… Бр-р-р!
Старец передернулся и вдруг с тревогой спросил:
– Николай Александрович, я тут в интернете прочел, что растения тоже боль чувствуют, тоже могут любить или ненавидеть. К одному садовнику листочками тянутся, от другого норовят отодвинуться. Как думаете, правда или нет?
– Не знаю.
– Если правда, то все, конец мне, – печально сказал Сысой. – От голода умру. Как почувствую, что капусту с морковкой жалко, тут-то мне со святыми упокой. Эх, Николай Александрович, Добро – опасная штука, если к нему приохотить человека без тормозов, вроде меня. Вы – другое дело, вы во всем меру знаете.
Эти слова, вовсе не показавшиеся Фандорину комплиментом, были произнесены уважительно и даже, кажется, с завистью. Впрочем, старец тут же просветлел, улыбнулся.
– Ничего, Господь милостив, даст пропитание. Буду йогурты диетические кушать, синтетические белки. Пшеницу тоже чего жалеть – все равно бы осыпалась. Плоды, которые не с ветки сорваны, а сами упали, тоже сгодятся. Такие даже еще вкусней… Ну вот, поговорил с вами, и на душе легче стало. А теперь вы мне расскажите, зачем пришли.
И Николас рассказал, за чем пришел – всю правду, без малейшей утайки.
– …Если кто-то и может мне помочь, то только вы. – Такими словами закончил он свою готическую новеллу.
Сысой насупился, долго ничего не говорил. Потом шлепнул пухлой ладонью по столу, выругался по-грузински и вдруг превратился из святого отшельника в прежнего флибустьера.
– Шени деда! Раньше бы я вашу проблему легко решил. Узнал бы, кто на вас наехал. Если серьезный человек – разрулил бы ситуацию. Если несерьезный, поручил бы своему департаменту безопасности. Помните, какие были орлы? Нет их больше. Уволил, с выходным пособием. Теперь на других работают. Один Гиви со мной остался. Его куда только не звали, большие деньги давали – отказался. Тут у меня ключником служит. А сам даже в Бога не верует. Во всяком случае, это он так думает. Я бы вам его одолжил, Гиви и один много что может. Но не пойдет он, не захочет меня оставлять…
– Но ведь прочие ваши структуры целы! Бизнес продолжается! Значит, и связи остались!
– Какие связи? – развел руками бывший олигарх. – Говорю же, траст всем управляет. У меня и денег никаких нет. Половина дохода на благотворительность идет, половина жене и дочке. Жена, конечно, у меня шалава, прости Господи за нехорошее слово (тут старец перекрестил рот), но она же не виновата, что такой на свет родилась. Вот и в Писании речено: «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Не под силу мне вас от суетного мира защитить. Ушел я из него, Николай Александрович. Совсем, безвозвратно.
– Значит, спасения нет?
Николас побледнел. Неужели рухнула последняя надежда? Нежели долгое путешествие из Москвы было пустой тратой времени?
– Спасение, раб Божий, всегда есть, – назидательно ответил Сысой, вновь превращаясь в святого старца. – Это я тебя в миру не могу от зла защитить, а здесь, на этом острове благости, запросто. Бери Алтын, бери детей, ставь избушку – я помогу. Будете жить да радоваться. Никто вас здесь не тронет.
Ника на секунду зажмурился, представив себе лесную идиллию.
Картина обрисовалась такая: вот он сам, в перепоясанной рубахе навыпуск, с топором в руке тешет бревно; вот Геля и Эраст, оба в лапоточках, несут корзинки с земляникой; а вот главный редактор газеты «Эросе», в платочке, с коромыслом через плечо.
– Нет, не получится, – сказал он вслух. – Алтын здесь не сможет.
– Это ничего, что она из магометан, – не так понял его старец. – Бог-то один, а все прочее – формальности.
Идя по шоссе обратно к железной дороге, Фандорин думал о предстоящем объяснении с женой.
Очень вероятно, что она с беглым мужем вообще разговаривать не захочет. Нечего надеяться на то, что Валя успел заменить в почтовом ящике записку. Скорее всего, ассистент уже нянчит свой сломанный нос где-нибудь за тридевять земель, спешно эвакуированный Мамоной подальше от неприятностей.
Стало быть, Алтын знает лишь, что муж ни с того ни с сего вдруг устал от семейной жизни и возжелал пожить в одиночестве. Помыслить страшно, в каком она сейчас пребывает негодовании. И ведь даже позвонить нельзя – наверняка прослушивают.
Нужно будет исхитриться и найти способ подстеречь ее где-нибудь в безопасном месте. Сначала она, конечно, накричит. Может даже ударить – прецеденты были. Но потом, когда он, наконец, расскажет о случившемся несчастье, они вместе найдут какое-нибудь решение.
Какое?
К прежней жизни, теперь представлявшейся утраченным раем, возврата быть не могло. Значит, выход только один – бегство.
Захочет ли Алтын с ним бежать, бросив дом, работу, родной город?
Неизвестно.
А если захочет, то куда бежать? За границу? Как это сказал храбрый капитан Волков? «За своего бандосы тебя точно порешат, я их повадки знаю. Хоть в Австралию умотай – все равно достанут».
Вот и получалось, что здесь, в лесу, под опекой мудрого Сысоя, безопасней. Никаким бандитам в голову не придет.
А что? Все главное, из чего состоит жизнь, тут есть. Алтын будет воспитывать детей, он станет ассистентом у Сысоя – в конце концов, оба они занимаются, в общем-то, одним и тем же делом: помогают людям, которым трудно.
Кому из паломников нужно духовное наставление или молитва – будут идти к старцу. Кому довольно практического совета – к Николасу.
И будет у них простая, ясная, добрая жизнь. Как у Поля и Виргинии.
Сзади зашелестели шины, скрипнули тормоза. Низменные звуки цивилизации вернули Николаса к реальности.
Рядом с пешеходом остановился большой автомобиль с темными стеклами. Испугаться Фандорин не успел, потому что одно из них опустилось – за рулем, слава Богу, была женщина. Молодая, стильная и очень, очень красивая, это было очевидно даже несмотря на то, что половину ее лица закрывали огромные сиреневые очки.
– Извините, вы местный? – спросила Венера, поглаживая рукой пышный воротник из чернобурки.
Странно, но у Фандорина возникло ощущение, что он эту красавицу уже где-то видел.
Быть может, на картине Крамского? Такой же холодный день, посверкивающий серебром мех, и прекрасная незнакомка с надменным, требовательным взглядом.
Тряхнув головой, отогнал наваждение. Должно быть, очередная паломница. Видимо, и у нее тоже стряслось какое-то несчастье, от которых, увы, не спасают ни красота, ни богатство.
– Мне бы разобраться, где я нахожусь. – Красавица беспомощно улыбнулась. – Я абсолютная топографическая идиотка. Даже не понимаю, в каком направлении еду. У меня тут есть карта, но я в ней запуталась. Не посмотрите?
Николас тоже улыбнулся – извечной мужской улыбкой, означавшей примерно следующее: о, современные хозяйки жизни, как быстро теряете вы уверенность и апломб, столкнувшись с неженскими атрибутами – дорогой, картой, простором.
Разве можно было отказать в столь невинной и отчасти даже лестной просьбе?
Он открыл дверцу, сел на пружинистое кожаное кресло.
– Ну и где ваша карта?
И ощутил невольный укол разочарования сзади сидел еще кто-то (даже, кажется, двое). Рассматривать постеснялся, да и темновато было в салоне, за тонированными стеклами.
Женщина нажала какую-то кнопочку. Полуобернулась к своим спутникам и снисходительно сказала, видимо, продолжая прерванный разговор:
– Учитесь, мальчики, работать интеллигентно. Без мордобоя, без пальбы.
Странные слова все же заставили Николаса посмотреть на сидящих сзади.
Один из них обиженно ответил пугающе знакомым голосом:
– Ага, без пальбы. А кто мента завалил?
Этот голос Ника слышал уже трижды: перед ночным клубом, потом на даче и еще в милицейских «жигулях», из темноты. Главный из бандитов! А рядом с ним сидел еще один недобрый знакомец, Утконос.
Фандорин дернул ручку дверцы, та не подалась. Машина взяла с места – мягко, но так мощно, что уже через несколько секунд стрелка спидометра была на отметке 100, не задержалась там, поползла дальше и потом не спускалась ниже 160 даже на поворотах.
– Как вы мне надоели, прекрасный сэр, – сказала сумасшедшая водительница, проскакивая в щель между двумя автофургонами и одновременно с этим зажигая узкую черную сигарку. – От самой Москвы за вами ехали, любопытно было выяснить, куда это вас понесло. А вы, оказывается, на богомолье отправились.
Выдохнула струйку пахучего дыма, выскочила из потока на встречную полосу. Летящий прямо в лоб бензовоз отчаянно загудел, но столкновения каким-то чудом не произошло – Фандорин только охнул.
– Пока тащилась за вашим поездом, мне собирали о вас инфо – и в Москве, и в Англии. Все не могла поверить, думала, недостаточно глубоко копаю. Оказалось, что вы пирожок ни с чем.
Затор остался позади, теперь ничто не мешало слаломщице ехать так, как ей нравится. Если бы кто-нибудь рассказал Фандорину, что по неказистому шоссе областного значения можно гнать на двухстах километрах, он нипочем бы не поверил. Как завороженный, магистр смотрел на бешено разматывающуюся серую ленту дороги, а в голове стучало: сейчас один ухаб, и все…
– Ну хорошо, теперь вы знаете, что я не представляю для вас опасности, – сказал он, сглотнув. – Зачем же тогда меня похищать? Убили бы, и дело с концом. Вы ведь все равно меня убьете, за вашего рыжего.
– Что моего мальчика грохнули, это бы еще полдела. Хуже то, что я впустую потратила на вас столько времени. А один день Моей работы стоит дороже, чем… – Она запнулась, небрежно взмахнула рукой с сигарой. – Если из вас вынуть все внутренние органы и продать на пересадку престарелым нефтяным шейхам, столько не получится.
Метафора была такая сильная, что Николас на секунду оторвал взгляд от шоссе.
– Грохнуть вас – штука нехитрая, – раздраженно продолжила красавица. – Вытолкнуть в дверцу, чтоб размазало по асфальту, и дело с концом…
Она сдернула очки, швырнула их под ветровое стекло, и Фандорин впервые разглядел ее лицо.
Он действительно видел эту женщину раньше, и «Незнакомка» Крамского здесь была ни при чем.
Как он мог не узнать голос? Правда, тогда грохотал «музон», да и говорила она не зло и отрывисто, а протяжно, с придыханием …
Соблазнительница из «Холестерина», вот кто это был. Так что логика событий прояснилась.
Сначала эта охотница за черепами попыталась заманить Николаса в ловушку при помощи женских чар. Когда не удалось – позвонила своим головорезам, поджидавшим на улице. И у пакгаузов станции Лепешкино, перед тем как погиб Волков, из подъехавшего джипа тоже вышла она, никаких сомнений.
Тут в голову готовящемуся к смерти магистру пришла отличная идея: схватиться обеими руками за руль и вывернуть его на себя, чтобы бешено несущийся автомобиль швырнуло под откос. А там уж пускай Господь решает, всех ли ездоков забрать к Себе на разбирательство или явить чудо и кого-нибудь пока оставить.
От этой сумасшедшей мысли страх немного отступил.
– Пожалуй, нет, – задумчиво произнесла Венера. – Грохнуть вас означало бы списать потраченное время в непродуктивные расходы, а я к этому не привыкла.
Она посмотрела на Николаса таким долгим, оценивающим взглядом, что он снова похолодел. Психопатка, а кто будет следить за дорогой, ведь сто девяносто!
– Будете отрабатывать долг, а там посмотрим. – Даже не повернув головы, Венера чуть шевельнула рулем – пропустила между колес неширокую, но довольно глубокую выбоину. – За вами числится следующее. Во-первых, четыре дня моей работы. Во-вторых, вы застрелили одного из моих помощников. Ну, и в-третьих, из-за вас скушал пулю капитан из МУРа, а это лишние хлопоты. Общая сумма выходит серьезная.
– Какая? – встрепенулся Фандорин, обнадеженный переходом на язык бухгалтерии. – Я небогат, но если мы договоримся о рассрочке…
Жестокая богиня коротко, зло рассмеялась:
– Из-за вас я осрамилась перед заказчиком. Пострадала моя репутация, а в профессии, которой я занимаюсь, репутация – самое главное. Этот ущерб деньгами не искупишь. Вы задолжали мне свою жизнь, Ника.
В устах страшной женщины это домашнее обращение прозвучало так дико, что Фандорин вздрогнул. Она же вдруг заулыбалась, кивнула каким-то своим мыслям. Пробормотала:
– Так-так-так… Умница девочка.
Кажется, у вершительницы Николасовой судьбы прямо на ходу зарождался какой-то план.
Фандорин нервно заерзал, оглянулся назад – оба пистолеро сидели неподвижно. Утконос бесстрастно смотрел в окно; второй же, которого Ника раньше так боялся, по сравнению с безжалостной Венерой показался ему не столь уж страшным. По крайней мере, в глазах бандита было что-то человеческое – пожалуй, даже сочувственное. И подумалось: представительницы прекрасного пола, конечно, в целом лучше мужчин – мягче, добрее, милосердней, но уж если женщина исчадие ада, то любого злодея за пояс заткнет.
– Мират ищет гувернантку для своей Золушки, – сказало исчадие ада таким тоном, будто рассказывало о каких-то общих знакомых.
– Что? – удивился Николас. Она продолжила, не обратив внимания на вопрос, и стало ясно, что это не приглашение к диалогу, а рассуждение вслух.
– Билингвальный англичанин, да еще настоящий баронет. Инга будет в восторге. Ни у кого такого гувернера нет, все подруги от зависти полопаются. От кого бы наводку кинуть, чтоб не догадалась? От агентства, чего уж проще. Она ведь посылала туда заявку. Элементарно! Решено, Фандорин, вы станете гувернером.
– Я? Гувернером? – пролепетал он, ожидавший чего угодно, быть может, даже приказа совершить убийство, но никак не такого мирного задания. – Но где?
– В семье одного богатенького дяденьки. Будете учить его обожаемую дочурку английскому языку и изящным манерам. Вы ведь джентльмен? – засмеялась она.
– А что еще я должен буду там делать? – спросил Николас, пытаясь уразуметь, в чем здесь подвох.
Улыбка с ее лица не исчезла, но голос стал жестким:
– Все, что скажу. Прикажу – ночью к Мирату в спальню залезешь и зубами ему глотку перегрызешь. Прикажу – станешь Ингину болонку трахать. Понял?
Переход к прямой агрессии и грубости был таким внезапным, что Ника отшатнулся.
– Послушайте, как вас…
– Ну, допустим, Жанна, – ответила она и снова чему-то рассмеялась.
– Послушайте, Жанна, я вам не зомби и не стану делать ничего, что противоречит моим принципам. Лучше сразу выкиньте меня из машины.
– Не хотите моську трахать, – резюмировала она. – И горло незнакомому дяде тоже грызть не желаете. Такие у вас принципы. Отлично вас понимаю. Конечно, лучше быть выкинутым из машины. Но это не самое ужасное, что может произойти с человеком. Особенно, если он такой примерный семьянин… – И тем же ровным тоном приказала. – Макс, подержи-ка господина Фандорина, а то не дай бог начнет за руль хвататься.
Мужчина, сидевший сзади (тот самый, в чьем взгляде Николасу привиделось сочувствие), легко и уверенно взял магистра в стальной зажим.
– Я вас убивать не стану, – продолжила Жанна. – Живите себе на здоровье. Но долг отдавать все равно придется. Согласна взять в уплату любого из ваших очаровательных двойняшек. Вы кого больше любите – Эрастика или Ангелиночку? Я не зверь, мне кого-нибудь одного хватит. Можете сами выбрать.
Николас забился, захрипел, мечтая только об одном – поскорее проснуться. Только теперь ему стало ясно, что все безумные события последних дней – кошмарный сон, и виноват во всем сумасшедший посетитель, назвавшийся судьей. Это он завел речь про заложников и про чудовищный выбор между собственными детьми. И вот нате вам, приснилось.
Но это, конечно, был самообман, защитная реакция ошалевшей психики. В следующую секунду Ника о пробуждении уже не думал – с ним случилось нечто странное, совершенно необъяснимое.
Он вдруг увидел происходящее извне, со стороны. Шоссе; мчащуюся по нему машину; в машине человек, которого держат за горло. Наблюдать за этой сценой было мучительно. Но потом он увидел ту же машину сверху – сначала в натуральную величину, потом, по мере того как точка обзора перемещалась все выше и выше, автомобиль превратился в жука, в букашку, в крошечную точку. Мир не был единым – их оказалось два: большой и маленький. В маленьком происходило несчастье, большой же сохранял величавость и равновесие. И мелькнула непонятная мысль: я могу все перевернуть. В моих силах восстановить в маленьком мире гармонию, но тогда большого мира больше не будет. Почему то это дикое допущение – что большого мира не будет – показалось Фандорину совершенно невыносимым.
– Нет, – просипел Николас.
– Нет? – удивилась Жанна, но тут же сама себе объяснила. – А, это у вас с воображением проблемы. О! Как кстати. Сейчас продемонстрирую.
Не поняв, что она имеет в виду, Николас проследил за ее взглядом.
За все время кошмарной поездки машина в первый раз остановилась – как раз подъехали к железнодорожному переезду. Мимо с грохотом несся поезд. У шлагбаума других автомобилей не было, только стоял белобрысый деревенский мальчишка, держа за руль слишком большой для него велосипед. Он с любопытством глазел на роскошное авто, вглядывался в темные стекла, от нечего делать состроил рожицу собственному отражению и засмеялся. В ухо Николасу хмыкнул железнорукий Макс – сорванец его развеселил.
Потом раздался звонок, шлагбаум поднялся, и мальчишка, вихляя тощим задом, покатил вперед. На спине у него подпрыгивал ранец с цветными наклейками.
– Смотрим внимательно, – сказала Жанна, трогаясь с места.
Все дальнейшее происходило на протяжении одной бесконечной, зависшей во времени секунды.
Увидев, как бампер разгоняющегося джипа нацеливается прямо в заднее колесо велосипеда, Николас закричал и рванулся. Макс тоже охнул, зажим не расцепил, но – видимо, непроизвольно – чуть-чуть ослабил. Этого люфта в два-три сантиметра хватило для того, чтобы Фандорин в отчаянном рывке достал до руля.
Нос машины вильнул влево, едва чиркнув по велосипедной шине. И тем не менее, маленький седок полетел в кювет.
Тут охранник вовсе выпустил Николаса, оба обернулись и увидели, как мальчишка сидит на земле рядом с упавшим велосипедом, машет вслед джипу кулаком и гневно разевает рот. Слава Богу, жив!
Утконос, тоже оглянувшийся назад, невозмутимо принял прежнюю позу. Макс же коротко дернул подбородком, и ресницы его слегка дрогнули, а когда он снова взял шею пленника в захват, то гораздо свободнее, чем прежде.
– То же самое я сделаю с вашим славным толстячком Эрастом, – пояснила Жанна. – Только отвести руль будет некому. Доходчиво показала? Нет? Тогда исполняю на бис. В этой глуши можно хоть все население передавить – никто не почешется.
Впереди, держась поближе к обочине, ехала целая стайка маленьких велосипедистов. Должно быть, где-то неподалеку находилась школа.
– Держи его крепче, – велела Жанна, разгоняясь.
Макс сглотнул, но приказ выполнил.
И снова Николасу было то же самое видение, только в обратной последовательности.
Сначала он увидел сверху грязный бинт шоссе, по которому шустро ползла жирная, блестящая муха. Зум дал увеличение, и муха превратилась в автомобиль. Стала видна внутренность автомобиля: четверо людей, искаженное лицо самого Ники. А потом мир сжался до размеров Никиного тела, и сделалось ясно, что маленький мир с немногочисленным его населением – Алтын, Геля, Эраст – куда важней мира большого. Без большого мира жить можно, без маленького – нет.
И Фандорин быстро сказал:
– Да. Да.
– То-то же, – усмехнулась Жанна. – И нечего про принципы болтать. У человека, который ради своих принципов не готов пожертвовать всем, нет права говорить «нет».
Свою часть сделки она выполнила – за долю секунды до столкновения с последним из маленьких велосипедистов слегка повернула руль.
Краткий миг облегчения в череде наползающих друг на друга кошмаров – вот что такое настоящее счастье, понял вдруг Николас. И в течение нескольких последующих секунд был по-настоящему счастлив – насколько человек вообще может быть счастлив.
Глава четырнадцатая
Тщетная предосторожность
– Ваше счастье, что я спешу! – вскричал коллежский советник, видно, утратив терпение. – У нас в Новгороде с невежами поступают просто. Сейчас кликну полицейских, сволокут на съезжую да отсыпят полета горячих. Не посмотрят, что в сюртуке.
– Вы грозите мне поркой? – недоверчиво переспросил Фондорин. – Ну это, пожалуй, уже слишком.
Раздалось два звука: один короткий, хрусткий, второй попротяженней, будто упало что-то тяжелое и покатилось.
Откинулась крышка проклятого короба, сильные руки вынули Митю из капкана.
– Дмитрий, ты цел? – с тревогой спросил Данила, наскоро ощупывая освобожденного пленника.
Тот утвердительно замычал, еще не вынув изо рта кляп. А когда вынул, показал на неподвижно раскинувшееся тело:
– Вы его убили?
Фондорин укоризненно развел руками:
– Ты же знаешь, что я убежденный противник намеренного смертоубийства. Нет, я вновь применил английскую науку, но только не палочного, а кулачного боя. Она называется «боксинг» и много гуманнее принятого у нас фехтования на колющих орудиях.
С этими словами он перевернул лежащего чиновника и коротко, мощно ударил его ногой в пах. Митя аж взвизгнул и присел – братец Эндимион один раз двинул его этак вот между ляжек, притом не со всего маху, а коленкой и несильно. Больно было – ужас.
– Зачем вы его?
– Для его же пользы. – Данила обхватил Митю за плечи, повел назад в гостиницу. – Видишь ли, Дмитрий, на свете есть изверги, у которых разгорается похоть на малых детей. После пропажи сына я к таким особенно пристрастен, хотя понимаю, что с медицинской точки зрения они никакие не изверги, а больные люди. Одним кратким ударом я произвел человеколюбивую хирургическую операцию, помог этому господину избавиться от плотских забот и вернуться в ряды цивилизованного общества. Причем прошла операция безо всякой боли, ибо, как ты мог заметить, твой обидчик пребывал в бесчувствии.
В сенях он еще прибавил:
– Друг мой, не расстраивайся из-за этого безобразного происшествия. На свете много темного, но немало и светлого. И вот еще что. Давай не будем рассказывать об этом маленьком случае Павлине Аникитишне, у нее слишком чувствительное сердце. Хорошо?
– Хорошо.
– Однако ты весь дрожишь. Неужто так замерз? А ведь и в шапке, и в бекеше.
Дрожал Митя не от холода, а от пережитого страха, но разве объяснишь это человеку, который, дожив до седин, кажется, так и не узнал значения этого слова? Как, должно быть, замечательно: жить на свете и ничегошеньки не бояться! Ничего-преничего. Можно ли этому научиться или сие дар природы?
– Годами ты львенок, но умом и сердцем настоящий лев, – сказал Данила. – Если б ты не принялся колотиться – и мычать, я поверил бы этому хитроумному безумцу и отпустил его.
Я – храбрый? Я лев? Митя перестал дрожать и стал думать о том, сколь велика разница между тем, каков ты есть на самом деле, и тем, как тебя видят другие люди. Вот плотоядный чиновник Сизов назвал его «бесенышем». Почему? Что такого привиделось его больной фантазии в семилетнем мальчике? Сколь интересно было бы заглянуть в мозг, помраченный недугом!
– Позволь спросить, – прервал его размышления Фондорин. – Отчего ты разговариваешь с госпожой Хавронской так странно? Верно, тут есть какая-нибудь особенная причина?
Митя заколебался: не рассказать ли всю правду – про коварного итальянца, про яд, про жизнь в Эдеме и изгнание из оного?
– Ты сомневаешься? Тогда лучше промолчи. Я вижу, здесь какая-то тайна. Не нужно раскрывать ее мне из одной лишь признательности. Данила Фондорин любознателен, но не любопытен. Давай лучше решим, как уберечь доверившуюся нам даму от хищных зверей. Один раз ты уже спас ее, – присовокупил он, великодушно уступая всю заслугу Мите, – так давай же доведем дело до конца. Павлину Аникитишну не оставят в покое, в этом можно не сомневаться. Путь до Москвы еще долог, изобилует пустынными местами. Я не стал говорить этого при графине, но вряд ли случайные попутчики станут ей защитой от гонителей.
– Это верно, Пикин свидетелей не испугается. – Митя оглянулся на дверь, ведущую на улицу. – Прежде всего нужно побыстрей уехать. Вы ведь слышали, что этому прооперированному подвластна городская полиция? Когда он вернется в сознание, гнев его обратится против нас.
Фондорин вздохнул.
– О, несчастная Россия! Отчего охрану закона в ней всегда доверяют не агнцам, но хищным волкам? А об этом человеке не беспокойся. Когда он очнется от полученного удара, ему будет о чем подумать и чем себя занять.
– …И посему мы с Дмитрием пришли к выводу, что нам лучше расстаться.
Так закончил Данила речь, обращенную к Павлине, – краткую и весьма убедительную.
Только Дмитрия зря приплел. Впрочем, Хавронская приняла последнее за шутку, призванную скрасить мрачный смысл сказанного, и слегка улыбнулась, но всего на мгновение.
– Вы покидаете нас, добрый покровитель? – грустно спросила она и поспешно оговорилась. – Нет-нет, я не ропщу и не осуждаю. Я и так подвергла вас слишком большой угрозе. Благодарю вас, Данила Ларионович, за все. У нас с Митюшей есть карета, есть кучер. Доберемся до Москвы сами. Бог милостив, Он не оставляет слабых.
Фондорин закусил губу, кажется, обиженный ее словами, но разуверять Павлину не стал. Вместо этого сухо сказал:
– Вы заблуждаетесь, графиня, по всем трем пунктам. У вас не будет ни кареты, ни кучера, ни мальчика. Я забираю их себе.
– Как так? – пролепетала она. – Я не понимаю!
– Карета хорошо известна вашим преследователям, по ней вас легко выследить. Нанятый кучер не понадобится – у вас будет другой возница. А что до Дмитрия, то он поедет со мной.
– Но я по-прежнему не понимаю…
– Да что тут понимать! В вашей карете поеду я. Сяду у окошка, надену ваш плащ, надвину на лицо капор. Казачок сядет на козлы к кучеру, чтобы его все видели. Никому в голову не придет, что вас в карете нет. Вашим преследователям скажут, что вы отправились дальше по Московскому тракту.
– А куда же я? – Павлина захлопала длинными ресницами.
– Сейчас я посажу вас в извозчичьи санки и отправлю к своему доброму знакомцу, о котором уже поминал. Вот письмо, в котором я прошу его отправить вас окольной дорогой в Москву в сопровождении верного слуги. Модест исполнит все в точности, он мерный человек и мой брат.
– Родной брат?
Графиня все не могла опомниться.
– Духовный брат, а это больше, чем родной.
– Но… но гнев этих злых людей обратится на вас, когда они обнаружат подмену!
– Пускай это вас не беспокоит.
– Как это «не беспокоит»?! – перешла она от растерянности к сердитости. – Неужто вы, Данила Ларионович, так про меня полагаете, что я способна бросить своего малыша на растерзание Пикину? Да и ваша судьба мне небезразлична. Нет-нет, ваш план решительно нехорош! Лучше оставим карету здесь и воспользуемся великодушной помощью вашего друга. Поедем окольной дорогой вместе!
Павлина порывисто вскочила, бросилась к Фондорину, умоляюще воздев руки. Ее глаза заблестели от слез.
Сидевшие в зале наблюдали за этой сценой с любопытством. Митя подумал: эк мы их нынче развлекаем, чистая пантомима.
– Ну пожалуйста! – прошептала графиня и вдруг пала на колени.
Данила осторожно погладил ее по волосам.
– Милая Павлина Аникитишна, нужно повести погоню по ложному следу. И не тревожьтесь за нас. Мы с Дмитрием никому не интересны. Догонят нас, увидят, что обмишурились, да и отпустят. На что им старик с младенцем? А вот если вы с мальчиком поедете в своем дормезе, вас непременно догонят и похитят. Какая участь тогда ожидает и вас, и бедного малютку?
Последние слова златоуст произнес с особенной выразительностью и подмигнул Мите: каково тебе понравилось про «малютку»?
Хавронская медленно поднялась.
– Вы правы, сударь… Но обещайте, что доставите мне Митюнечку в Москву, я так полюбила этого несмышленыша! – Тихо прибавила. – И вас, Данила Ларионыч, я тоже буду ждать…
Отъехали от «Посадника» самым явственным манером. Митя сидел на козлах рядом с кучером, Данила прислонился к окошку, лицо прикрыл и обмахивался белым платком, вроде как от духоты, хотя к ночи приморозило. На крыльце стояли двое из гостиничной прислуги, глазели. Прискачет погоня – расскажут: искомая особа отбыла со своим казачком в направлении Московской заставы. А подлинная госпожа Хавронская тем временем выскользнула через заднюю дверь, никем не замеченная.
Потом Митя переместился в дормез. Разогнались по снежку, оставили старый город Новгород мерзнуть под желтой луной, ждать рассвета.
Что-то Фондорин был на себя не похож. Спать не спал, а рта не раскрывал и на вопросы, даже самые соблазнительные, вроде наличия на Луне фауны или химического состава эфира, отвечал одним хмыканьем.
А когда Митя, отчаявшись подбить спутника на ученую беседу, начал клевать носом, Данилу вдруг прорвало.
– Это у них в крови, – заговорил он горячо, словно продолжая долгий и жаркий спор. – Даже у самых лучших! И они в том неповинны, как неповинен в жестокости котенок, забавляющийся с пойманным мышонком! Как неповинна роза, что источает манящий аромат! Вот и они манят, следуя голосу своего инстинкта, порождают химеры и несбыточные мечты!
– Кто «они»? – осведомился Митя, дождавшись паузы.
– Женщины, кто ж еще! Ах, друг мой, дело даже не в них, дело в тебе самом. Все ждешь, что эта напасть тебя оставит, надеешься, что с сединой придет блаженное упокоение и ясность рассудка. Увы, годы проходят, а ничто не изменяется. «Буду ждать», сказала она тем особенным тоном, каким умеют говорить только прекрасные женщины. Можешь не уверять меня, я и сам знаю: она не имела в виду ничего такого, что я хотел бы себе вообразить. Любезность, не более ТОГО. И даже быть ничего не может! Кто она и кто я? Довольно взглянуть в зеркало! О, как завидую я господину Сизову, что лежит сейчас в постели и досадует на приключившуюся с ним метаморфозу. Он должен быть благодарен мне за то, что я навсегда избавил его от проклятого бремени чувственности!
Митя слушал сетования старшего друга очень внимательно, но смысл слов, вроде бы понятных, ускользал. Однако последнее замечание было интересным.
– Вы избавили его от чувственности посредством удара в область чресел? Неужто центр, ответственный за чувства, находится именно там? – живо спросил Митридат и осторожно потрогал рукой мотню.
Фондорин покосился, проворчал:
– Беседуя с тобой, забываешь, что ты еще совсем дитя, хоть и весьма начитанное.
Отвернулся, больше делиться мыслями не захотел.
Ну и пожалуйста. Митя поднял воротник, прижался к печке и проспал до самых Крестцов, где поменяли графининых лошадей на казенных. Они, может, и плоше, зато свежие.
Поели горячей картофели с постным маслом. Покатили дальше.
Теперь уснул Данила, Митя же глядел в окно на белый зимний мир, кое-где чернеющий редко разбросанными деревеньками, и размышлял про страну Россию.
Что это такое – Россия?
То есть, можно, конечно, ответить просто, не мудрствуя: пятнадцать мильонов квадратных верст низменностей и гор, где проживает тридцать мильонов народу, а теперь, с присоединением Польши, и все тридцать пять. Так-то оно так, но что общего у этого огромного количества людей? Почему они все вместе называются «Россия»?
Что, у всех у них один язык? Нет.
Одна вера? Тоже нет.
Или они подумали-подумали и договорились: давайте жить вместе? Опять-таки нет.
Может, у них общее воспоминание о том, как оно все было в прошлые времена? Ничего подобного. Вчера нынешние сограждане воевали между собой и вспоминают про эти прежние свары всяк по-своему. У русских татары с поляками плохие, у тех, надо думать, наоборот.
А что же тогда всех нас соединяет?
Первый ответ пришел на ум такой: Россия – это воля, называемая государственной властью, на ней одной все и держится.
Тут стало страшно, потому что Митридат видел власть вблизи и знал, что она такое: толстая старуха, которая любит Платона Зурова, боится якобинцев и верит в волшебные зелья адмирала Козопуло. И старуху эту, наверное, скоро отравят.
Но ведь со смертью Екатерины Россия быть не перестанет. Значит, Россия – не власть, а нечто другое.
Он зажмурился, чтобы представить себе, непредставимо широкие просторы с крошечным пятнышком столицы на самом западном краю, и вдруг увидел, что это пятнышко источает яркое, пульсирующее сияние. Так вот что такое Россия! Это сгущение энергии, которая притягивает к себе племена и земли, да так сильно, что притяжение ощущается на тысячи верст и год от года делается все сильнее. Пока светится этот огонь, пока засасывает эта таинственная сила, будет и Россия. И сила эта не пушки, не солдаты, не чиновники, а именно что сияние, подобное привидевшемуся Даниле чудесному граду. Когда сияние станет меркнуть, а сила слабнуть, от России начнут отваливаться куски. Когда же пламень совсем затухнет, Россия перестанет быть, как прежде перестал быть Древний Рим. Или, может быть, на ее месте зародится некая новая сила, как произошло в том же Риме, а будет та сила называться Россией либо как-то иначе – Бог весть.
По быстрой езде да под сонное Данилино дыхание размышлялось хорошо, размашисто.
Мчать бы и мчать.
Так, останавливаясь лишь для смены лошадей, пролетели за ночь да за день три сотни верст. Фондорин на станциях платил щедро (видно, разжился у своего новгородского знакомца деньгами), и никакой задержки путникам не было.
Заночевали в Твери. Не в гостинице и не на почтовом дворе, а в обывательском доме, для незаметности. Утром, еще до света, двинулись дальше. Если этак нестись, уже к вечеру можно было и к Москве пригнать.
Как бы не так.
Часа через полтора после Твери, когда проезжали большую деревню, расковался коренник. Кучер повел его в кузню, а путешественники вышли пройтись, размять ноги.
Деревня называлась Городня, и творилось в ней что-то непонятное.
Отовсюду неслись бабьи вопли, солдаты в треугольных шляпах, белых гамашах, с длинными косами волокли из дворов молодых парней. Кто упирался – колотили палкой.
– Что это за иноземное нашествие? – нахмурился Данила. – Мундиры-то прусские!
Однако на вторжение германской армии было непохоже, ибо солдаты употребляли выразительные слова, которых подданные прусского короля знать никак не могли. Пленников сгоняли на площадь, к церкви.
Туда Митя с Фондориным и направились. На площади лениво постукивал барабан, стояли телеги, а на складном стуле сгорбился офицер в наброшенном на плечи полушубке, скучливо возил тростью по снегу. Лицо у начальника было мятое, похмельное. Данила подошел, спросил:
– Могу ли я узнать, господин поручик, что здесь происходит? С какой целью ваши солдаты забирают и вяжут веревками этих юношей? Быть может, все они преступники?
Офицер посмотрел на вопрошавшего, увидел, что имеет дело с благородным человеком, и поднялся.
– Обычное дело, сударь. Берем рекрутов, а они прячутся, не желают служить отечеству. Одно слово – скоты безмозглые. Не понимают, что на солдатской службе и сытней, и веселей.
Поблагодарив за разъяснение, отошли в сторонку. Слушать душераздирающие крики несчастных матерей, у которых отбирали сыновей, и взирать на слезы дев, лишавшихся своих суженых, было тяжко.
– Что ты о сем думаешь, друг мой? – спросил Данила.
Митя увлеченно стал излагать свои мысли по поводу армии свободных людей – те самые, которые не так давно пытался привить государыне и которые привели к неожиданным и печальным следствиям. Фондорин слушал, кивал.
– Как это верно, мой добрый Дмитрий. Странно, что наши властители не понимают простой вещи. Оборона отечества – важнейшее и благороднейшее из занятий. Как можно поручать его зеленым юнцам, которые к тому же, судя по их сетованиям, не испытывают к сему ремеслу ни малейшей склонности? Я бы вообще поостерегся доверять столь ненадежным гражданам смертоносное оружие еще, не приведи Разум, нанесут увечье себе или окружающим. Пускай под ружье встают те, для кого этот жребий желанен.
– Так ведь одних волонтеров, наверное, не хватит? – усомнился Митя. – Где их столько взять, чтобы всю империю оборонить? У нас недоброжелателей много. Только турков с поляками и шведами побили, а уже вон французы подбираются.
– Хватит, отличным образом хватит. Видишь ли, Дмитрий, природа устроила так, что каждый год на свет нарождается известное количество храбрых и непоседливых мальчиков, от которых в мирной жизни одно беспокойство. Войдя в возраст, они начинают безобразничать, буйствовать, бить своих жен, а иные даже становятся ворами и разбойниками. Вот из подобных нелюбителей спокойной жизни и нужно набирать войско. Плати таким воинам за опасную службу щедро – деньгами, уважением, нарядной одеждой – и будешь иметь лучшую армию в мире. Очень большого войска и не понадобится, потому что один твой солдат десять этаких горе-вояк побьет.
Данила показал на зареванных рекрутов и жалостливо поморщился. Тут подошел партионный начальник, и интересная беседа вынужденно прервалась.
– А что, сударь, – обратился к Фондорину офицер, помявшись, – нет ли у вас в карете погребца с каким-нибудь напитком? Простыл по морозу таскаться. Так недолго и внутреннюю застудить.
– Отчего же, есть, – вежливо ответил Данила. – И не в погребце, а прямо с собой. Ром для медицинских целей, первое средство от простуды.
И достал из кармана плоскую медную фляжку.
– О да! – просиял поручик. – Лучше рома только можжевеловая водка! Вы позволите?
Потянул лапу к фляжке, но Фондорин накапал ему в крышечку – на один глоток.
– Более не рекомендую. Вы ведь на службе.
Офицер опрокинул крышечку и протянул ее за добавкой.
– Скажите, поручик, а что это у вас за невиданный мундир? Я думал, букли, пудра, гамаши, тесный кафтан в русской армии давно отменены?
– В русской точно отменены, а в нашей, гатчинской, все заведения по уставу великого короля Фридриха. Одна пуговка где расстегнись, двадцать палок. Даже офицерам. Недопудришься – пощечина. А просыплется пудра на воротник – того хуже, гауптвахта. Его высочество государь Наследник с этим строг.
– Ах вот оно что, вы из Гатчины… – протянул Фондорин и выразительно взглянул на Митю.
– Точно так. Велено набрать в Новгородском и Тверском наместничествах новый батальон. О, нас теперь много, целая армия! – Офицер получил-таки добавку, выпил и снова протянул руку. – Случись что в Петербурге… Ну, вы понимаете? – Он подмигнул. – Через три часа форсированного марша будем у Зимнего.
– Через три часа? В этаких тугих рейтузах и штиблетах на кнопочках? Навряд ли, – отрезал Данила и отобрал крышечку. – Всего хорошего, сударь.
– Наслышан я о гатчинских заведениях, – продолжил он уже для одного Мити. – У Наследника там свое маленькое немецкое княжество. Дома для крестьян преотличные, каменные, стоят по ранжиру. Поселяне одеты чисто, на европейский манер. У хозяек на кухне одинаковый набор кастрюль и сковородок, его высочество сам устанавливает, каких именно. За нарушение бьют. Нужно, чтобы подданные ничем не отличались друг от друга – такое у Наследника мечтание.
– Сущая правда, – подтвердил поручик. Он, кажется, нисколько не обиделся на Фондорина и, вероятно, надеялся получить еще одну порцию противу простудного средства. – Давеча стою на вахтпараде. Все в роте как есть в полном аккурате: сапоги носочек к носочку, усы у солдат торчат одинаково, глаза тоже пучат единообразно. А его высочество, гляжу, хмурится – недоволен чем-то. Присел на корточки, головой этак вот повертел. «Это, говорит, что такое?» И показывает шеренге на середину фигуры, где обтяжные панталоны спереди топырятся. Я рапортую:
«Сие у роты причинные места, ваше императорское высочество!» А он мне: «Вижу, что причинные, болван! Почему в разные стороны глядят – у одних направо, у других налево? Чтоб у всех было направо!» Вот как у нас в Гатчине. Хм. Не позволите ли еще ромом одолжиться?
Данила отдал ему всю фляжку. Покачал головой.
– Пойдем, Дмитрий. Спаси Разум бедную Россию. Что ожидает ее с этаким императором?
Митя подумал немного и спросил:
– Так не лучше ли, если следующим императором станет Внук государыни? Я видел его. Он производит впечатление юноши умного и доброго.
– Возможно. Правда, Наследник тоже некогда был отроком добрым и рассудительным. Увы, мой славный друг: жизнь близ престола губительна для ума и для сердца…
Они были на середине площади, когда один из конвойных, приложив ладонь к глазам, присвистнул:
– Ишь чешет. Как только шею не свернет. Со стороны Москвы, сопровождаемый шлейфом снежной пыли, мчался верховой.
– Не иначе кульер, на казенной, – лениво сказал капрал, пыхнув дымом из трубки. – Свою лошадку так гнать не станешь.
Фондорин взял Митю за руку.
– Вернемся к карете. Полагаю, операция по перемене подковы завершена, и мы можем следовать дальше.
Всадник тяжело проскакал мимо, Митя разглядел только развевающийся черный плащ и круп вороного жеребца. Видно, дело у казенного человека было срочным.
Но возле дормеза тот вдруг осадил коня и гаркнул:
– Вот она где, голуба!
Голос был осипший от холода, но до дрожи знакомый. Пикин! Догнал!
– Если я не ошибаюсь, этот господин явился по нашу душу, – спокойно молвил Данила, чуть ускоряя шаг.
Митя же ничего не сказал, потому что стало очень страшно.
Ужасный капитан-поручик соскочил с коня, постучал в дверцу:
– Ваше сиятельство! – крикнул он. – Пустая затея от Пикина бегать! Как это я мимо-то прогрохотал, ведь по одной дороге ехали! В Твери на заставе говорят: был дормез, в Завидове говорят – не было. Чудеса да и только. Дай-ка, думаю, вернусь. Павлина Аникитишна, что вы молчите? Ау!
Он распахнул дверцу, а тут как раз и Данила подошел. Митя благоразумно остался сзади.
Ну сейчас будет!
Фондорин тронул преображенца за плечо:
– Кто вы, сударь, и что вам нужно в моей карете?
– В вашей карете?
Пикин озадаченно уставился на незнакомца.
– Это дормез графини Хавронской, я отлично его знаю!
– Карета прежде и в самом деле принадлежала даме, имя которой вы назвали, однако от самого Новгорода в ней еду я. Графиня была так любезна, что уступила мне свой экипаж, причем за самую скромную цену. Вам дело до ее сиятельства? Сожалею, но не имею представления, где она сейчас находится.
– Черррт!
Пикин в бешенстве двинул кулаком по дверце.
– Триста верст зря! Проклятая баба! – Он еще и ногой размахнулся, чтоб ударить ботфортом по колесу, но вместо этого спросил. – А не было ли с ней старого мужика – косматого, звероподобного, с седой бородищей?
Данила насупился, сдержанно произнес:
– Нет, описанного вами субъекта я рядом с ее сиятельством не видел. С ней был маститый, почтенный поселянин зрелых лет.
Пикин оглядел Фондорина с головы до ног.
– А вы-то кто такой? Назовите имя!
Тот скрестил руки на груди.
– Сначала представьтесь вы, как это заведено у приличных людей.
– С чего вы взяли, что я приличный? – хмыкнул капитан-поручик.
– С того, что на вас мундир ее императорского величества Преображенского полка.
Спокойные, с достоинством произнесенные слова возымели действие.
Злодей вскинул голову, представился:
– Гвардии капитан-поручик Пикин. – И, выдержав паузу, со значением прибавил. – Адъютант его светлости князя Платона Александровича Зурова. Ну, а вы кто? Куда едете? Зачем?
– Данила Фондорин, отставной гвардии капитан и кавалер. – Митин покровитель слегка наклонил голову и в следующую секунду совершил страшную, неисправимую ошибку – произнес. – Путешествую со своим воспитанником из Санкт-Петербурга в Москву, где проживал прежде и намерен обрести жительство вновь. Позвольте же и мне, в свою очередь, осведомиться…
Он не договорил, заметив, что преображенец его более не слушает и смотрит мимо, да еще разинул рот.
Вероятно, это была всего лишь гримаса изумления, но бедному Митридату померещилось, что капитан-поручик хищно, по-волчьи ощерил зубы.
– Шишки зеленые! – задохнулся Пикин. – Вот удача!
– Что вы хотите этим…
Капитан-поручик оттолкнул своего визави в сторону.
– Уйди, старый дурень! Если это твой воспитанник, то я – персидский евнух. Ну, Андрюша, нынче твоя масть!
И пошел на Митю, растопырив руки – будто куренка ловил.
– Вы меня толкнули, и весьма невежливо, – сказал ему вслед Данила. – Что вам нужно от мальчика? Мы еще не закончили разговор про графиню.
Пикин отмахнулся.
– Черт с ней, с Хавронской! За нее князь обещал чин и только! А за этого цыпленка другая особа сулила мне много больше! Иди-ка сюда, цып-цып-цып.
Митя попятился. Он отлично знал, о какой особе толковал Пикин. Слыхал и о награде – половине долга.
За момент до того как монстр ухватил бы его за шею, самого капитан-поручика взяла за ворот крепкая, жилистая рука и развернула к Мите спиной.
– Во-первых, вы оскорбили достойнейшую даму, послав ее к черту. Во-вторых, оскорбили моего воспитанника, обозвав его детенышем нелетающей птицы. В-третьих же, вы оскорбили меня – дворянина и кавалера.
Пикин был так доволен встречей с Митей, что даже не озлился. Только сбросил Данилину руку.
– Не знаю, старый брехун, чего ты там кавалер и какой отставной козы капитан, но ежели ты сей же миг не уберешься, я вобью тебе в глотку твою собственную челюсть.
Фондорин удивился:
– Это так в Преображенском полку нынче принимают вызов на дуэль? В мои времена были другие обычаи.
– Дуэль? – поразился капитан-поручик. – С тобой? Да ты шпагу-то удержишь, Полтавский ветеран?
– Это не ваша забота, – наставительно сказал Данила. – Ваша забота – восстановить честь, которой я сейчас нанесу рукоприкладное оскорбление.
С этими словами он звонко, хоть и несильно, шлепнул преображенца по щеке.
На лице капитан-поручика отразилась крайняя степень изумления, он даже дотронулся до уязвленного места, словно желая удостовериться, в самом ли деле с его щекой могла произойти подобная оказия.
Фондорин развел руками:
– Ну вот, сударь. Полна площадь свидетелей, в том числе военного сословия. Или бейтесь, или из гвардии вон. Так гласит дуэльный статут.
Задумчиво глядя ему в лицо, преображенец негромко произнес:
– Что ж, старичок, будь по-твоему. Это я сгоряча, на радостях, тебе убираться велел. А отпускать тебя, пожалуй, нельзя. Начирикал, поди, тебе воробьишка, о чем не следовало…
– Нет! – крикнул Митя. – Я ни слова!
– А все же так, шишки моченые, верней выйдет. Пойдем, Аника-воин, пыряться. Где шпагу возьмешь?
– Одолжу у господина партионного начальника. – Данила указал на гатчинского офицера, наблюдавшего за ссорой с чрезвычайным интересом. – Поручик, вы окажете мне эту любезность?
– С великим удовольствием, – немедленно откликнулся тот, и видно было, что не соврал – глаза так и заблестели. – Дворянин дворянину! В деле чести! Всегда! Могу и секундантом быть. А вторым… – Он оглянулся на своих солдат. – Ну вот хоть капрал Люхин. Он служака исправный и грамоте знает.
– По мне хоть кто. – Пикин уже скинул плащ и шляпу. – Условие одно: бьемся до смерти. Посему господ секундантов прошу не соваться, не разнимать, а кто полезет – уши отстригу. Ясно?
Поручик с готовностью пообещал, что лезть ни в коем случае не станет, а капрал Люхин даже встал навытяжку, из чего следовало заключить, что он без приказа и не шелохнется.
– Ну и орудие у вас, – вздохнул Фондорин, разглядывая шпажонку гатчинца. – Только на вахт-параде салютовать. Ладно, делать нечего. Приступим, пожалуй?
Они встали друг напротив друга: Данила в одной рубашке, Пикин же раздеваться поленился – очевидно, не сомневался, что и так легко совладает с противником.
Телеги и пойманных рекрутов поручик велел убрать на края площади, чтобы не мешали поединку. Он и капрал встали шагах в десяти, прочие зрители боязливо жались на отдалении.
Более всего Мите хотелось зажмуриться или вовсе убежать, чтобы не видеть, как Пикин зарежет Данилу. Но он заставил себя выйти вперед и смотреть. От подлого гвардейца можно было ждать любой каверзы, на щепетильность секундантов тоже рассчитывать не приходилось, но ведь он, Митридат, не зря обучался фехтованию. Заметит от Пикина какую-нибудь пакость – не спустит, закричит.
Взглянув на небрежно помахивающего оружием капитан-поручика, Фондорин спросил:
– Я вижу, вы отдаете предпочтение женевской позитуре? А я придерживаюсь мантованской школы, она из всех мне известных наилучшая.
И принял позу неописуемого изящества: одна нога согнута в колене и выставлена вперед, другая вывернута носком в сторону, левая рука уперта в бедро, правая воздела шпагу диагонально вверх.
– Ого! – хохотнул Пикин. – Бойкий старичок! Подагра не скрючит?
– Подагра происходит от неумеренности в потреблении вина и жирной пищи. – Данила быстро переступил вперед-назад, пробуя, достаточно ли утоптан снег. – Я же сторонник умеренности. И, прошу вас, перестаньте называть меня стариком. Мне шестой десяток, а эти лета мудрецы древности почитали возрастом мужской зрело…
Фраза осталась незаконченной, потому что Пикин вдруг сделал выпад. Это было не вполне правильно, поскольку секундант еще не выкрикнул «En avant!», но в то же время не могло почитаться и явным нарушением артикула – ведь оба противника уже стояли друг к другу лицом и с обнаженным оружием.
Тяжелый клинок ударился о неубедительную шпажонку Данилы и со звоном отскочил, а Пикину пришлось отпрыгнуть, чтобы не получить удара в грудь. Развивая успех, Фондорин мелко засеменил вперед. Его выставленная рука шевелила одной только кистью, однако шпага перемещалась так стремительно, что казалась подобием серебристого конуса.
– Шишки еловые! – Капитан-поручик отбежал назад, стал снимать кафтан. – Кажется, будет интересно.
– Я вам говорю: в фехтовальной науке итальянцы продвинулись значительно далее швейцарцев, – уверил Данила противника, дожидаясь, пока тот выдернет руку из рукава.
Митя воспрял духом. Если лекарь изучал науку-фехтования столь же усердно, как премудрость дубинного и кулачного боя, то берегись, Пикин.
Снова сшиблись, только теперь преображенец был осторожней: на рожон не лез, пытался достать врага издали, пользуясь преимуществом в длине клинка. И все же медленно, шаг за шагом отступал.
Через минуту-другую он уперся спиной в телегу, и Фондорин тут же отошел, жестом приглашая гвардейца вернуться на середину. Пикин снял и камзол, швырнул на солому. Схватились в третий раз.
Данила качнулся вбок, пропуская выпад капитан-поручика, а сам перегнулся вперед и достал острием ключицу противника. Если б его клинок был на вершок подлинней, тут бы поединку и конец, а так Пикин только шарахнулся назад.
Сорвал и жилет. На белой рубашке расплывалось красное пятно. Что, выкусил? Это тебе наука, а не душегубство!
– Куда, оголец? – ухватил Митю за кушак гатчинец. – Затопчут!
Оттащил от дуэлянтов подальше.
– Давай, Данила, круши его! – закричал Митя, начисто позабыв об артикуле.
Фондорин, видно, и сам решил, что хватит. Поднял кисть до уровня глаз, а шпагу, наоборот, направил сверху вниз.
Выписывая в воздухе свистящие круги, стал апрошировать к преображенцу, переступая все быстрей и быстрей.
Вдруг, при очередном скрещении клинков, раздался пронзительный звук, словно лопнула струна – проклятая гатчинская спица переломилась!
Поручик жалобно охнул:
– Пятьдесят рублей!
Пикин немедленно перешел от обороны к наступлению – теперь Данила едва успевал отбивать своим обломком мощные удары сверху.
– Остановить схватку! – заголосил Митя. – Не по правилам!
И партионный начальник тоже вступился:
– Господин гвардии капитан-поручик, остановитесь! Вы его убьете, а кто за шпагу заплатит?
– Прочь! – взревел преображенец. – Уговорено на смерть, значит на смерть!
Как ужасно все переменилось! Фондорин был обречен, в этом не оставалось ни малейшего сомнения.
Пикин сменил тактику. Убедившись, что эфеса и десятивершкового куска стали противнику довольно, чтобы парировать рубящие удары, он перешел к беспроигрышной атаке посредством быстрых коротких выпадов, против которых у Данилы защиты не было.
Некоторое время тот пятился, уворачиваясь от уколов. Потом остановился.
– Увы, – сказал обреченный, вытирая пот со лба. – Следует признать, что с таким огрызком наука мантованской школы бесполезна.
Капитан-поручик дернул усом.
– Хоть на колени повались, не помилую!
– Сударь, во всю свою жизнь я вставал на колени только перед иконой, да и того давно уж не делаю. – Фондорин взглянул на свое жалкое оружие. – Пожалуй, придется разжаловать тебя из шпаг в рычаги.
И вдруг выкинул штуку: достал из кармана платок, быстро обмотал лезвие и взялся за него рукой, так что теперь сломанная шпага была выставлена эфесом вперед. Все же решил сдаться на милость победителя? Тщетно! Этот не помилует.
Митя застонал от безнадежности.
Так и есть – Пикин рыкнул:
– Капитуляций не принимаю!
И сделал выпад, целя противнику прямо в живот.
Данила поймал острие в позолоченную петлю гарды, чуть дернул кистью, и шпага вырвалась из руки опешившего капитан-поручика, отлетела в сторону. Фондорин же размахнулся и ударил противника рукоятью по затылку, что, конечно, тоже не предусматривалось дуэльным артикулом, но Митя все равно завизжал от восторга.
Оглушенный, Пикин упал лицом в снег. Почти сразу же перевернулся, но поздно: Данила наступил ему сапогом на грудь, а обломок, уже перевернутый сталью вперед, уперся побежденному в горло. Клинок, хоть и тупой, при сильном нажатии несомненно пропорол бы шею до самых позвонков.
– Ага! – возликовал Митя, бросаясь вперед. – Что, съел?
Прочие зрители тоже подбежали, чтобы увидеть, как гвардейца будут лишать жизни.
Но Фондорин, не оборачиваясь, сказал громко:
– Прочь! Смерть – великое таинство, оно не терпит досужих глаз.
И как прикрикнет зычным голосом:
– Прочь, плебеи!
Все шарахнулись, один Митя остался. Не потому что дворянин, а потому что уж он-то имел право видеть, как поверженный змей будет пронзен булатом и испустит дух.
Фондорин сказал:
– Судя по тому, что я о вас слышал и что наблюдал собственными глазами, вы дряннейший из людей. Я убежденный противник смертоубийства, но все же сейчас лишу вас жизни – не сгоряча и не из мести, а во имя спасения дорогих мне существ. Если веруете в Бога, молитесь.
Пикин облизнул губы, оскалился:
– Молиться мне поздно. Одолел – коли. Мне еще когда цыганка насулила от железа умереть.
И не стал больше смотреть на клинок, перевел взгляд на небо, раздул ноздри, открыл рот – жадно вдыхал напоследок холодный воздух.
Фондорин подождал – очевидно, давал негодяю попрощаться с жизнью.
Или дело было в ином?
– Опыт учит меня, – произнес он раздумчиво, – что если в самом закоренелом злодее сыщется хоть одна привлекательная черта, значит, он еще не потерян для Разума и человечества. У вас же я обнаруживаю целых две: вы смелы и не чужды понятия о достоинстве… Вот что. Хотите отдалить час своей смерти?
Преображенец закрыл рот, посмотрел на победителя.
– Кто ж не хочет?
– Дайте мне слово офицера и дворянина, что впредь не станете преследовать ни этого мальчика, ни известную вам даму. Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже если вам прикажут ваши начальники.
Пикин часто заморгал. Лицо у него сделалось сначала безмерно удивленное, а потом бледное-пребледное. Даже странно: пока жизнь висела на волоске, он был румян, теперь же, обретя надежду на спасение, вдруг побелел.
Ах, Данила Ларионович, что вы делаете? Да этот бесчестный даст какую угодно клятву, а после над вами же и смеяться будет!
Митя даже замычал от обиды за простосердечного верователя в Добро и Разум.
Однако преображенец за соломинку хвататься почему-то не спешил. Лежал молча, смотрел Фондорину в глаза.
Наконец, сглотнул и заговорил – тихо-тихо:
– Даю слово офицера, дворянина и просто Андрея Пикина, что ни черт, ни дьявол, ни сам Еремей вкупе с Платошкой не заставят меня больше гоняться за этим воробьишкой и за той ба…
– За Павлиной Аникитишной, – строго перебил его Данила.
– За Павлиной Аникитишной, – еще тише повторил капитан-поручик.
– Хорошо. – Фондорин убрал обломок от пикинского горла. – Я тоже дам слово – слово Данилы Фондорина. Если вы нарушите обещание, клянусь, что найду вас и убью, чего бы это ни стоило. И можете мне верить: любые ваши ухищрения избежать сего конца – хоть спрячьтесь под самый царский трон, хоть сбегите на край света – будут с полным основанием названы тщетною предосторожностью.
Глава пятнадцатая
Гости съезжались на дачу
Все предосторожности оказались тщетны. Нарочно позвонил в одиннадцать утра, когда Алтын на работе, а дети в саду. Собирался наговорить на автоответчик заранее обдуманный, неоднократно отредактированный и заученный наизусть текст. Если Алтын вдруг окажется дома, намеревался повесить трубку. Все начиналось нормально: гудки, включился автоответчик. После сигнала Николас заговорил, стараясь, чтобы голос звучал как можно жизнерадостней:
– Алтын, это я. Записка в почтовом ящике – чушь, Валина самодеятельность. Дело совсем в другом. У меня срочный и очень важный заказ. Извини, но объяснять ничего не могу, по контракту должен соблюдать конфиденциальность. Я не в Москве, поэтому…
– А где же ты? – раздался голос жены.
Фандорин стукнулся плечом о звукозащитный эллипсоид телефона-автомата и глупо пролепетал:
– Ты дома?
– Что случилось? Где ты? Во что ты вляпался? Почему Глен в больнице? А ты? Ты здоров?
Чтобы прервать пулеметную очередь коротких, истерических вопросов, Николас заорал в трубку:
– В какой он больнице?
– Где-то за границей. Мать не сказала, где именно. Она вообще была очень груба. Я спрашиваю про тебя, а она мне: «Жаль, что ваш муженек исчез, а то бы я ему за моего Валечку хребет сломала». Господи, я две ночи не спала. Все мечусь по квартире, не знаю, звонить Семену Семеновичу или нет.
Это был полковник из Управления по борьбе с организованной преступностью, оберегавший газету «Эросс» от всякого рода неприятностей как с нарушителями закона, так и с его блюстителями. Алтын мужа не посвящала в подробности этих деликатных отношений, говорила лишь: «Сейчас все так делают».
– Не надо Семена Семеновича, – быстро сказал Фандорин и, поняв, что версия с «важным заказом» не пройдет, добавил. – Вообще ничего не предпринимай! Сиди тихо!
Алтын судорожно втянула воздух. Николас понимал, что врать бесполезно – слишком хорошо она его знает. Но и говорить правду тоже было нельзя. Отправить бы ее с детьми подальше из Москвы, как осмотрительная Мамона Валю, но разве Жанна позволит?
– Все очень плохо, милая, – глухо проговорил он. – Но я постараюсь. Очень постараюсь. Надежда есть…
И нажал на рычаг, чувствуя, что сейчас разрыдается самым позорным образом.
Хороший получился разговор, нечего сказать. Называется, успокоил жену. Слабак, разамазня! «Очень постараюсь, надежда есть». Бред, жалкий лепет! Бедная Алтын…
А, с другой стороны, что еще мог бы он ей сказать?
Даже если б за спиной не стояли Макс с Утконосом.
На новую службу Ника ехал, как на эшафот.
Нет, хуже, чем на эшафот, потому что, когда везут на казнь, от тебя требуется немногое: не выть от ужаса, перекреститься на четыре стороны, положить голову на пахнущую сырым мясом плаху, да покрепче зажмуриться. Тут же задача была помудреней, с мазохистским вывертом.
Не просто явиться к месту экзекуции, но еще и лезть вон из кожи, чтобы позволили подняться на проклятый помост. В загородном доме господина Куценко, директора клиники «Фея Мелузина» (да-да, того самого Куценко, из шибякинского списка приговоренных), кандидата на гувернерскую должность ожидают, он рекомендован хозяйке самым лестным образом, но все равно нужно пройти собеседование. Если же Николас будет почему-либо, не важно по какой причине, отвергнут, то… – Жанна разъяснила последствия с исчерпывающей ясностью. И еще присовокупила (словно слышала совет, не так давно данный Фандориным по поводу именно такой ситуации): «Только не думайте, что если вы наложите на себя руки, то тем самым спасете своих детей. Просто в этом случае я заберу в счет долга не одного вашего ребенка, а обоих».
Ни перед одним экзаменом магистр истории не трясся так, как перед этим. Вступительный экзамен в ад, каково?
Пальцы так крепко сжимали руль, что побелели костяшки. Фандорин вел машину совершенно несвойственным себе образом – рывками и зигзагами, обгонял и слева и справа, а после поворота с Кутузовского на Рублевку, когда поток несколько поредел, разогнался за сотню. Что это было: нетерпение пациента перед мучительной, но неизбежной операцией или подсознательное стремление угодить в аварию, причем желательно с летальным исходом? Вспомнив, к каким последствиям приведет подобный поворот событий, Николас резко сбрасывал скорость, но ненадолго – через минуту «фольксваген-гольф» снова начинал рваться с узды.
Машина была хорошая, хоть и не новая. Жанна сказала, что именно на такой должен ездить небогатый, но уважающий себя аристократ, который вынужден зарабатывать на жизнь учительством. Одежду Николасу купили в магазине «Патрик Хеллман»: два консервативных твидовых пиджака, несколько двухсотдолларовых рубашек, неяркие галстуки. Продавщицы умиленно улыбались, наблюдая, как стильная дамочка в мехах экипирует своего долговязого супруга, а он стоит бука-букой, ни до чего ему нет дела. Ох уж эти мужчины!
Сверяясь по плану, Фандорин свернул на загородную трассу, потом еще раз, на Звенигородское шоссе. Теперь уже близко.
Вот он, съезд на новехонькую асфальтированную дорогу, обсаженную молодыми липами. Указатель с витиеватой надписью «Усадьба Утешительное» (новорусский китч во всей красе), под указателем «кирпич».
Усадьба была видна издалека: ложноклассический дом с колоннами, флигели и хозяйственные постройки, вокруг – высокая каменная стена.
Подъехав ближе, Николас увидел, что на стене через каждые десять метров установлено по видеокамере, да и ворота непростые – бронированные, такие танком не прошибешь. Непросто будет «Неуловимым мстителям» добраться до этого «гада и обманщика». Агент по внедрению зажмурился, затряс головой. Нужно взять себя в руки, успокоиться. Не дай боже, чтобы нанимательница уловила в его голосе или мимике искательность – тогда все, провал.
– Опустите стекло, – сказал механический голос из динамика.
Опустил, раздвинул губы в равнодушной улыбке.
– Въезжайте, господин Фандорин. Стоянка для гостей справа от клумбы.
Ворота бесшумно раздвинулись. Въехал. А дом-то был не новодельный, как показалось Фандорину издали. Самый что ни на есть настоящий русский классицизм. Если приглядеться, то сквозь позднейшие перестройки и перелицовки в фасаде и колоннах проглядывало восемнадцатое столетие. Жаль только, нынешние нувориши еще не научились понимать красоту обветшалости – очень уж все свежекрашенное, прилизанное. Ничего, научатся. Богатству, как бронзе, нужно время, чтобы покрыться благородной патиной.
Николас нарочно заставил горничную (до смешного кинематографичную – в фартучке и даже с кружевной наколкой) немножко подождать, пока со скептическим видом разглядывал потолок в прихожей: облака, упитанные амурчики, Аполлон на колеснице – ерунда, бескрылая стилизация под рококо. Неопределенно покачал головой. Мол, не решил еще, согласится ли работать в доме, где хозяева столь невзыскательны к интерьеру.
В гостиную вошел с видом снисходительным и чуть-чуть настороженным: художник Маковский, картина «Посещение бедных». А сам диктовал сердцу ритм биения: не тук-тук-тук-тук, а тук… тук… тук… тук. Сердце изо всех сил старалось, но получалось у него плохо.
Только все это было зря – и напускная величавость, и насилие над адреналиновым балансом. Хозяйку интересовал только один вопрос: правда ли, что Николас настоящий баронет. (А Мадам Куценко оказалась женщиной молодой и неправдоподобно красивой. Все в ее лице было идеальным: кожа, рисунок губ, изящный носик, форма глаз. Николас попытался мысленно хоть к чему-то придраться, но не сумел – Инга Сергеевна являла собой само совершенство. Ей бы легкое косоглазие, или чуть оттопыренные уши, или рот пошире – одним словом, хоть какой-то дефект – и была бы неотразима, подумал Фандорин. А так вылитая кукла Барби, свежезамороженная клубника.
– People at the agency told me that you have a hereditary h2. Is it true?[11] – спросила хозяйка, произнося английские слова старательно, но не очень чисто.
– I am afraid, yes, – по-аристократически скромно улыбнулся соискатель, да еще слегка развел руками, как бы извиняясь за это обстоятельство своей биографии. – Nobody is perfect.[12] Правда, баронетство наше недавнее, первым баронетом Фандориным стал мой отец.
– Для британца вы слишком хорошо говорите по-русски, – забеспокоилась госпожа Куценко. – И потом… – Она замялась, но все-таки спросила. – Скажите, а как человек может ну… подтвердить, что он действительно имеет титул? Что, прямо в паспорта пишут: лорд такой-то или баронет такой-то?
– Зачем в паспорте? Выдается грамота, подписанная монархом. Хотите, покажу, как это выглядит? Она у меня с собой. Там собственноручная подпись королевы Елизаветы.
Фандорин сделал знак горничной, чтобы принесла из прихожей саквояж, а сам подивился Жанниной предусмотрительности. Вместе с ключами от машины, водительскими правами и телефоном он получил отцовский баронетский патент, который должен был храниться дома, в шкафчике, рядом с прочими родовыми реликвиями. Выводов отсюда проистекало как минимум два. Первый: оказывается, помощники Жанны умеют проникать в чужие квартиры и производить там обыск, не учиняя погрома и вообще не оставляя каких бы то ни было следов. И второй вывод, еще более пугающий: Алтын и дети от подобных вторжений абсолютно ничем не защищены. Именно это Жанна, должно быть, и хотела ему лишний раз продемонстрировать.
Пока Инга Сергеевна с любопытством разглядывала геральдических зверей на грамоте, Николас для пущего эффекта прибавил:
– Как видите, нашему баронетству нет и тридцати лет, но вообще род Фандориных очень древний, еще от крестоносцев.
Хозяйка смущенно попросила:
– Можно я сделаю ксерокопию? Нет, нет, не для проверки, что вы! – Блеснув голливудской улыбкой, призналась. – Хочу подругам показать, а то не поверят. Знаете, я ведь тоже из дворянского рода. Мой прадед, Серафим Пименович Конюхов, при царе Александре Третьем получил личное дворянство. Вот он, видите? Я по старой фотографии заказала.
Посреди стены, на самом почетном месте, висел сияющий лаком портрет чиновника, судя по выпученным глазам и носу картошкой, а в особенности по имени-отчеству, выслужившегося из поповских детей. Николасу стало стыдно, что он расхвастался своими крестоносцами, однако Инга взирала на своего предка с гордостью. Наверное, полагала, что личное дворянство – это какая-то особенно почетная разновидность аристократии, с личным шофером и личной охраной.
А дальше разговор перешел в аспект практический: сколько гувернер будет получать, где жить, с кем питаться. Из этого Николай понял, что пропуск на эшафот он себе благополучно добыл, и внутреннее напряжение немного ослабло.
– Наша Мирочка – девочка необыкновенная, вы сами увидите, – стала рассказывать хозяйка про ученицу. – В чем-то она гораздо взрослее своих сверстниц, а в чем-то, наоборот, сущий ребенок.
Могу себе вообразить, кисло подумал Фандорин, представив себе, что за чадо могло взрасти в этом кукольном доме за глухой стеной, сплошь утыканной видеокамерами. Что было, действительно, необычным, так это имя. Во внешности Инги Сергеевны ничего семитского не было. Быть может, господин Куценко?
– Девочку зовут Мирра? – переспросил Николас.
– Нет-нет, – засмеялась хозяйка. – Имя у нее, конечно, ужасное, но не до такой степени. Не Мирра, а Мира, уменьшительное от «Миранда». Претенциозно, согласна, но нас не спрашивали.
Это загадочное высказывание поставило Фандорина в тупик, однако лезть с расспросами он не решился.
– Во-первых, нужно заняться с Мирочкой английским – чтоб был такой же чудесный выговор, как у вас. – Инга Сергеевна стала загибать тонкие пальцы с серебристыми ногтями. – Во-вторых, хорошо бы, чтобы она и по-русски тоже говорила, как вы. Неграмотное строение фразы, вульгаризмы – это еще полбеды, но ей нужно избавиться от этого жуткого прононса! Далее. Общий уровень. Выработайте культурную программу, привейте ей хороший вкус, базовые представления об изобразительном искусстве, музыке. Особенное значение мы с мужем придаем правильному чтению. Не обязательному, которое включено в школьную программу, а внеклассному. Именно по начитанности этого рода тонкие люди определяют, что ты за человек.
Николас с серьезным видом кивнул, подумав, что потуги новой элиты на утонченность по-своему трогательны. Мужьям, конечно, не до «внеклассного чтения», они слишком заняты проблемами выживания и пожирания себе подобных, всякими там откатами, обналичками и заморочками. Но женщины, извечные оберегательницы и покровительницы культуры, уже устремляются душой к прекрасному, даже если пока оно еще имеет вид пухлых купидончиков на расписном потолке и чудовищных портретов в золотой раме. Ничего, они наймут своим отпрыскам дорогих бонн и гувернеров, научатся отличать искусство от китча. Скоро, очень скоро взбитое молоко российской жизни обрастет слоем нежнейших сливок.
– Агбарчик, золотце! – воскликнула вдруг хозяйка, прерывая свой монолог. Вытянула губы трубочкой, протянула руки книзу, и на колени ей впрыгнула беленькая ухоженная болонка. – Познакомься, это наш новый друг. Лаять на него нельзя, кусать тем более.
К собакам Фандорин всегда относился с симпатией, но от вида этой его передернуло – вспомнились слова Жанны, сказанные во время безумной гонки по шоссе.
Болонка соскочила на пол и дружелюбно потыкалась Николасу в ботинок. С отвращением глядя на ее мокрый нос и болтающийся розовый язычок, магистр сдавленным голосом сказал:
– Славный песик. Но почему «Агбар»? Разве это не мужское имя?
– А он у нас и есть мальчик, – просюсюкала хозяйка, подхватывая повизгивающего Агбара на руки. – Смотрите, как он на вас смотрит. Вы ему понравились… Так на чем я остановилась? Ах да. Про внеклассное чтение я уже сказала. Теперь самое главное. Девочку нужно обучить манерам, она монструозно невоспитанна. Школьные предметы – не ваша забота. К Мирочке ходят профильные учителя, и она очень неплохо успевает по всем дисциплинам. Но как она держится, как разговаривает, как ходит! Девочка кошмарно запущена. Во весь рот зевает, даже не прикрываясь ладонью. Когда икнет, говорит: «Икотка-икотка, беги на Федотку». Если кто-то чихает, желает доброго здоровья. Представляете?
Николас сочувственно покивал.
– Я бы хотела, чтобы уже к Новому году ее можно было вывозить в свет.
Он с трудом сдержал улыбку, представив этот «свет»: вчерашних завмагов, райкомовских работников и бухгалтеров, изображающих из себя салон Анны Павловны Шерер.
– Но еще до того, в ближайший вторник, Мирочку ждет первое серьезное испытание. Отец решил устроить прием в честь ее дня рождения. Соберется много гостей. Она не должна ударить лицом в грязь. Как вы думаете, сэр Николас, многого ли вы сумеете добиться за столь короткий срок?
Он озабоченно покачал головой и нахмурил лоб, как это делает ДЭЗовский сантехник, когда говорит: «Ну не знаю, командир, сам гляди, работы тут много, а у меня смена кончается».
Окончательно входя в роль, сказал:
– Сделаем. Зевать она будет с закрытым ртом, это я вам гарантирую. Кстати, сколько вашему ребенку лет?
Ответ был неожиданным:
– Через три дня исполнится восемнадцать.
Вот тебе на! Хозяйка выглядела максимум лет на тридцать.
Инга Сергеевна улыбнулась, правильно истолковав удивление собеседника в лестном для себя смысле.
– Вы думали, что Мирочка моя дочь? Нет-нет, это дочь моего мужа. Там целая романтическая история… – Госпожа Куценко сделала неопределенный жест, однако от пояснений воздержалась, вместо этого сочла нужным сообщить. – Вместе мы живем совсем недавно, но я успела полюбить Миру как родную дочь.
За окном раздался шелест колес по гравию, и лицо хозяйки просветлело.
– Это муж! Он ненадолго, скоро снова уедет по делам, но я хочу, чтобы он на вас взглянул. Посидите, пожалуйста.
И вышла, оставив Фандорина одного.
Вежливей было бы сказать: «я хочу вас познакомить», мысленно поправил он работодательницу и сам усмехнулся – надо же, учитель изящных манер. Не поменять ли профессию? Пятьсот долларов в неделю на всем готовом, плохо ли?
Госпожа Куценко вернулась в гостиную, сопровождаемая невысоким мужчиной лет сорока пяти – пятидесяти с некрасивым, но, пожалуй, значительным лицом: высокий лоб, бугристый плешивый череп, внимательные глаза за толстыми стеклами и неожиданно сочный, толстогубый рот.
Так-так, вычислил Николас. История семьи угадывалась без большого труда. Этот самый Куценко несколько лет назад разбогател, женился на молодой фифе, а прежнюю подругу дней своих суровых, как это водится у мужчин предклимактерического возраста, отправил в отставку. Недавно же отобрал у нее и дочку, должно быть, хорошо за это заплатив. Нет повести банальнее на свете.
Вошедший протянул руку с длинными, как у скульптора или пианиста, пальцами и тихо сказал:
– Мират Виленович. Рад, что вы понравились Инге.
– Очень приятно познакомиться, Марат Виленович, – ответил на рукопожатие Фандорин, решив, что не совсем точно расслышал имя.
– Не «Марат», а «Мират», – поправил хозяин. Примечательные губы тронула мягкая ироническая улыбка. – Сокращенное «Мирный атом». Отец работал инженером в КБ, а времена были технократические.
– Пообедать успел? – спросила Инга Сергеевна, сняв нитку с его рукава.
Он помотал головой, перестав обращать внимание на гувернера. Устало потер веки.
– Некогда было. Сделай какой-нибудь бутерброд и поеду. В дороге нужно еще видеодосье пациентки посмотреть.
Жена со вздохом подала ему пластмассовую коробочку.
– Так я и знала. Вот, с докторской и огурчиками, как ты любишь. Рубашку смени, несвежая.
Мират Виленович, кажется, не на шутку проголодался. Цапнул из коробки красивый маленький сэндвич, откусил половину и пошел к дверям.
– Извините, – бросил он на прощанье Фандорину, сосредоточенно работая челюстями. – У меня в час операция.
И удалился.
– Я дам рубашку! – крикнула Инга Сергеевна и бросилась вдогонку.
Эта сцена произвела на Николаса самое удручающее впечатление. Он бы предпочел, чтобы хозяин оказался противным, тогда было бы не так тяжело за ним шпионить. Но Куценко магистру скорее понравился, да и отношения между обитателями кукольного дома были вполне человеческие, не как у Барби с Кеном.
– Ваш муж оперирует? – спросил Фандорин, когда хозяйка вернулась. – Я думал, он бизнесмен.
– Да что вы! – удивилась госпожа Куценко. – Мират – светило косметологической хирургии. У нас в стране ему нет равных, а, может, и во всем мире. Он один из первых, еще в конце восьмидесятых, открыл частную клинику. Сейчас, конечно, менеджмент отнимает много времени, но он продолжает оперировать сам. Неужели вы не слышали о методике Куценко?
– Да, что-то такое читал, про чудеса омоложения и рукотворную красоту. И рекламу видел: как фея касается Золушки волшебной палочкой, и чумазая замарашка превращается в ослепительную красавицу.
– Напрасно вы улыбаетесь, – строго сказала Инга Сергеевна. – Это не преувеличение, а истинная правда. Мират настоящий кудесник. Дурнушку он делает интересной женщиной с шармом, а лицо обыкновенное, так сказать, среднестатистическое, превращает в настоящее произведение искусства. Он хирург от Бога!
Снисходительно улыбаться, кажется, не следовало. Николас поспешил исправить свой faux-pas:
– Я заметил, какие у него тонкие, красивые пальцы.
Прекрасные глаза хозяйки затуманились, голос стал мечтательным.
– Ах, вы даже не представляете, какие у него гениальные руки! Иногда они бывают сильными, даже безжалостными, а иногда такими нежными! Знаете, как Мирата любят растения? Они чувствуют животворную энергию! У нас в зимнем саду есть ужасно капризные цветы. Когда их поливает прислуга, они начинают сохнуть, а у Мирата расцветают, как в джунглях. И животные к нему тоже льнут – собаки, кошки, лошади. Они тоже умеют видеть настоящую, внутреннюю силу!
Николас несколько растерялся от столь откровенной демонстрации супружеского обожания. На душе стало совсем отвратительно.
Господи, зачем кошмарной женщине по имени Жанна, верней, ее таинственному заказчику понадобился этот доктор?
Последняя надежда оставалась на дочку, эту новорусскую инфанту, наверняка испорченную скороспелым папашиным богатством, и к тому же еще, очевидно, редкостную тупицу, раз она, несмотря на всех репетиторов, к восемнадцати годам не сумела закончить школу.
Хозяйка вела Фандорина знакомиться с падчерицей – через анфиладу комнат, в которых евроремонт причудливо сочетался со старинной мебелью и сохранившейся кое-где лепниной, рассказывала про историю усадьбы. Кажется, ее не то выстроил, не то перестроил кто-то из приближенных императора Павла – впрочем, Николас слушал вполуха, готовясь к встрече с ученицей: никаких нервов, максимум терпения, главное же – сразу правильно себя поставить, иначе учительство превратится в унизительную пытку.
Комната принцессы находилась на втором этаже. Через огромное полукруглое окно открывался прелестный вид на поле, лес, реку, но Николасу было не до любования природой. Он быстро оглядел просторную – нет, не комнату, а самую настоящую, залу, с белыми колоннами и небольшой галереей, опоясывавшей внутреннюю стену. Самой обитательницы чертога видно не было, однако, судя по разбросанным там и сям нарядам, по отсутствию книжных полок, по навороченному компьютеру, на здоровенном мониторе которого застыла жалкая игра «Крестики-нолики», Никины предположения относительно интеллектуального уровня девицы Куценко полностью оправдывались.
– Мирочка, ты что, спишь? – позвала хозяйка, направляясь к завешенному портьерой алькову.
– Нет, Инга Сергеевна, – донесся откуда-то сверху, будто с самих небес, звонкий, чистый голосок. – Я здесь.
Николас обернулся, задрал голову и увидел над перилами балюстрады истинного ангела: тоненькое личико в обрамлении очень светлых, почти белых волос, широко раскрытые голубые глаза, худенькие голые плечи с бретельками не то от лифчика, не то от комбинации.
– Почему ты там сидишь? И почему неодета?
– Сняла платье, чтобы не испачкать. Тут пылища – ужас. Не вытирает никто, так я решила тряпкой пройтись, – ответила спрятавшаяся за перилами нимфа, разглядывая Николаса. – А села, потому что неодетая. Стыдно. Вы ведь не одна…
Опомнившись, Николас смущенно отвернулся.
– Сейчас поднимусь, принесу тебе платье и туфли. Сэр Николас не смотрит. Кстати, познакомься. Это гувернер, он будет руководить твоим воспитанием и готовить тебя к балу.
– Здравствуйте, – проворковал ангельский голос.
Фандорин, не оборачиваясь, слегка поклонился, что было довольно глупо. Определенно мадам Куценко самой не помешал бы гувернер. Неужто не могла подождать с представлениями, пока девушка оденется и спустится вниз?
Но вот Мира сошла с небес на землю, и оказалось, что никакая она не девушка, а девочка, совсем еще ребенок. На вид ей можно было дать лет тринадцать, да и то без поправки на современную акселерацию. Ее макушка приходилась магистру где-то на уровне локтя, фигурка была щупленькая, без каких-либо намеков на женские округлости. Уж во всяком случае, лифчик, проглядывавший сквозь тонкое батистовое платье, Мире был точно ни к чему.
– Я вас оставляю наедине, чтоб вы могли как следует познакомиться. Не дичись. – Госпожа Куценко ласково погладила девочку по кудрявой головке. – Обещаешь?
– Хорошо, Инга Сергеевна.
– Сколько раз говорить, называй меня просто «Инга». Сэр Николас, я скажу Клаве, чтобы она пришла через десять минут и помогла вам разместиться.
Когда за хозяйкой закрылась дверь, Мира сделала два шага назад – не от застенчивости, а чтобы удобнее было рассматривать двухметрового учителя.
– Вас че, правда «сэр Николас» зовут? – недоверчиво спросила она и не удержалась, прыснула.
– Зовите меня «Николай Александрович». И давайте сразу договоримся: я буду исправлять неправильности вашей речи, а вы за это не будете на меня обижаться. Идет?
Дождавшись, когда она кивнет, Николас продолжил:
– Первое. Слово «что» по-русски произносится нередуцированно, то есть полностью: што. Второе. Вместо просторечного «правда» в данном случае изысканней было бы употребить выражение «в самом деле». И третье. В беседе с малознакомым человеком, каким я для вас пока являюсь, одного кивка в знак согласия недостаточно. Нужно обязательно произнести вслух: «Да» или «хорошо». Вы меня поняли?
– Да. Только не говорите мне «вы», ладно? Я себя на «вы» покамест не ощущаю.
Мира посмотрела куда-то вниз – Николас подумал, от стеснения. Но нет, это она украдкой полюбовалась на свои часики. Поймав взгляд учителя, прошептала:
– Это французские, с настоящими бриллиантами. «Картье» называются. Папа купил. Ужас какие деньжищи стоят. Правда, красивые? Ой, – спохватилась она, – я хотела спросить: в самом деле красивые?
Фандорин вздохнул. О, великий и могучий, сам черт в тебе ногу сломит.
А девочка ему, увы, понравилась. Да и как она могла не понравиться – такая славная, хорошенькая, и к тому же совсем не испорченная, а искренняя, простодушная. И так мило, по-волжски окает. Должно быть, именно это госпожа Куценко обозвала «жутким прононсом». Вероятно, Мира жила с родной матерью не в Москве, а где-нибудь в провинции.
Чтобы с самого начала не обозначить себя как педанта и зануду, Николас не стал придираться к «покамест» и к «ужасу». Подошел к письменному столу, склонился над компьютером.
– В «Крестики-нолики» играешь? Нравится?
– Воще-то не очень, – призналась Мира и шмыгнула носом. – Но я ни во что другое не умею. У меня раньше компьютера не было.
– Лучше говорить не мягко «компьютер», а твердо: «компьютóр». И каким же играм ты хотела бы научиться?
– А вы умеете? В самом деле? – Мира схватила его за рукав. – Я по телеку видела, там пацаны играли по компьютОру в приключения! Подземелье с сокровищами, скелеты, а не правильно угадаешь – тебе кранты! Вы в такую играть умеете?
Он кивнул, глядя в ее ясные, полные радостного ожидания глаза, и подумал: очень инфантильна для своего возраста, но это делает ее еще очаровательней.
– Ага, а сами кивнули, – засмеялась Мира. – И «да» не сказали! Так научите меня играть в приключения?
Улыбнувшись, Ника пообещал:
– Научу. Не только играть. Если захочешь, мы будем с тобой сами придумывать новые игры. Это еще интересней.
Девочка взвизгнула от восторга, подпрыгнула и с меткостью дрессированного дельфина чмокнула Фандорина точно в середину щеки.
Похоже было, что контакт с ученицей наладился.
Из «детской», как внутренне окрестил Ника комнату Миры, гувернера отвели к управляющему усадьбой, уютному усачу Павлу Лукьяновичу с белорусским выговором и повадками армейского отставника. Он вручил новому жителю Утешительного ключи от «партаментоу» (апартаментов) и магнитную карточку, чтобы открывать ворота. Предупредил, что на «террыторыи объекту» действуют особые правила безопасности, потому что «Мырат Виленовитш большой тшеловек, а у большого тшеловека и проблэмы большие». Эти слова Павел Лукьянович сопроводил странным безулыбочным подмигиванием, что, видимо, означало: шучу, но не совсем.
Следуя за горничной в свои «партаменты», Фандорин видел из окна, как хозяин выезжает из ворот: впереди джип охраны, сзади еще один, а в лимузин рядом с шофером сел какой-то человек-гора – ростом с Николаса, но вдвое шире. Что-то многовато лейб-гвардейцев для светила хирургии, подумал Ника и спросил, кивнув в сторону великана:
– Личный телохранитель?
– Нет, это секретарь Мирата Виленовича, Игорек, – ответила горничная, милая женщина средних лет по имени Клава. – Он в Америке университет закончил.
Должно быть, по футбольной стипендии, предположил Николас.
«Партаменты» оказались, двухкомнатной квартиркой, небольшой, но вполне комфортабельной. Правда, вид из окон был так себе – на хозяйственные постройки.
Развешивая в шкафу вещи, Клава попросила:
– Вы уж, Николай Александрович, помягче с Мирочкой, без строгостей. Такая девочка хорошая, деликатная. Не обвыклась еще здесь. У нас в обслуге все ее знаете как жалеют.
– За что же ее жалеть? – удивился Фандорин. – Дай бог всякой девочке расти в таких условиях.
Горничная аж рубашку уронила.
– Всякой? Да вы что! Над Мирочкой вся страна слезы лила!
На лице гувернера отразилось полнейшее недоумение, и Клава шлепнула себя по лбу:
– Ах да, вы же англичанин. Очень уж чисто по-русски говорите, я и забыла. «Надейся и жди», наверно, не смотрите?
– Это ток-шоу, да? Нет, я телевизор почти не смотрю, только новости по шестому каналу.
– И газет наших не читаете? О Мирочке писали «Комсомольский москвич», «Факты и аргументы», «Фитилек», да все писали!
Ника виновато развел руками:
– Нет, я этих изданий не читаю. Только газету «Таймс». – И, просветлев, вспомнил. – Еще иногда еженедельник «Эросс».
– А-а, тогда понятно, – протянула Клава и отвернулась.
Кажется, Николас безвозвратно погубил себя в ее глазах. Она быстро закончила свою работу и вышла, даже не попрощавшись.
Ну и ладно. Фандорину сейчас было не до ханжеских предрассудков обслуживающего персонала.
Он встал у окна, попытался собраться с мыслями.
Итак, пропуск в ад получен. Оттого что это место скорее напоминает рай, только хуже. Тогда получается, что он прислан сюда соглядатаем от Сатаны. Никаких инструкций или заданий Николасу не дали – только устроиться гувернером, и все. Но телефон ему выдан не случайно. Скоро он зазвонит, можно в этом не сомневаться. Неизвестно, чего именно потребует Жанна от своего агента, но это наверняка будет нечто, несущее обитателям Утешительного беду…
Короткий стук в дверь. Снова вошла горничная. Положила на стол какую то папку, сухо сказала:
– Хорош учитель, не знает, кого учить собрался. Вот, почитайте. Это я подбираю публикации, про Мирочку.
И с надменным видом удалилась.
Фандорин развязал тесемки. Увидел сверху женский глянцевый журнал «ККК». На обложке – робко улыбающаяся Мира. И крупно анонс: «МИРАНДА КУЦЕНКО: ЗОЛУШКА НАШИХ ДНЕЙ».
Сел в кресло, стал читать.
«ФЕЯ ПРИЕХАЛА НА „МЕРСЕДЕСЕ“…В детском доме райцентра Краснокоммунарское таких девочек и мальчиков больше двух сотен. Большинство попали сюда совсем крошками, прямо из Дома малютки.
„Детский дом“ или „интернат“ – слова не правильные, обманные. Не нужно стесняться названия „сиротский приют“, потому что именно этим святым делом здесь и занимаются: дают приют сиротам – уж как могут. У этих детей никогда не было настоящей семьи, они всегда носили только казенную одежду и питались только казенной пищей – увы, скудной, потому что область здесь бедная, дотационная, и своих сироток ей баловать особенно не на что.
Но чем суровей и безрадостнее реальная жизнь, тем больше человеческая душа стремится к полету, к мечте, к несбыточному. И каждый из маленьких жильцов приюта, конечно же, грезит о том, что родители его не бросили, а потеряли, что они ищут свое драгоценное дитятко и однажды непременно найдут. Сколько трогательных, наивных и совершенно фантастических историй впитали крашенные масляной краской стены спален! О папах-разведчиках, о мамах-актрисах, о роковых подменах в родильном доме…
Как рассказал автору этих строк директор Краснокоммунарского детдома Р. Мовсесян, обычно такого рода фантазии иссякают к тринадцатилетнему возрасту, когда подрастающий человечек начинает готовить себя к реальной, взрослой жизни. Иссякают, но не исчезают совсем, они продолжают жить на самом донышке юного сердечка.
О, как всколыхнулась, забурлила вода в этих глубоких омутах после чуда, которое произошло в тихом волжском городке! Сказка спустилась с небес на землю и озарила жизнь всех сироток нашей бескрайней страны волшебным светом надежды. И рассказывать эту историю нужно именно так – как сказку.
Жила-была на свете девочка с чудесным именем Миранда. Но кроме звучного имени ничегошеньки у нее не было, даже отца с матерью. Росла она, как травинка в поле. Мамина ласка и папина забота не оберегали ее ни от злого ветра, ни от ледяного дождя, и потому выросла она тоненькой и чахлой. В детстве много болела, из-за этого два раза оставалась на второй год, а потом, хоть и выздоровела, но осталась худенькой и бледненькой, совсем не такой, как ее румяные сверстницы, у кого есть родители.
Больше всего на свете Миранда, как и многие ее подружки, любила сказку про Золушку, к которой однажды явилась добрая фея и одним взмахом волшебной палочки подарила ей новую, чудесную жизнь. Годы шли, сказка оставалась сказкой, а жизнь жизнью. Другие девочки-сироты уже зачитывались повестью „Алые паруса“ и мечтали не о фее – о принце, Миранда же взрослеть не торопилась, она по-прежнему верила в свою детскую сказку. И была вознаграждена за верность.
А теперь позвольте перейти от языка сказочного к языку фактов.
В феврале 1983 года молодой москвич с необычным именем Мират проводил отпуск в крымском санатории. Отдыхала там и юная пермячка по имени Настя. Мертвый сезон, холодное море, пустые пляжи. Стоит ли удивляться, что между ними завязался короткий, но бурный курортный роман? Любовники знали друг друга только по имени, даже фамилией поинтересоваться не удосужились. И вдруг, месяца через два, в московской квартире Мирата зазвонил телефон. Это была Настя. Она сказала, что ждет ребенка. „Как ты меня нашла?“ – спросил молодой человек, одолеваемый самыми недобрыми подозрениями. „По имени, – ответила она. – Оно у тебя такое редкое!“ „Сделай аборт, – сказал он и мрачно прибавил, уже догадавшись, что, как говорится, запопал. – Я вышлю денег. Диктуй адрес“. Но Настя разрыдалась и бросила трубку. Больше она его не беспокоила.
Шли годы. Мират стал знаменитым хирургом и преуспевающим предпринимателем, владельцем нескольких косметических клиник, Вы наверняка видели рекламу этой фирмы и в нашем журнале, и в других гламурных изданиях. Называется фирма – вот он, мистический почерк судьбы! – „Фея Мелузина“.
Мират Виленович женился на писаной красавице, и все у них с женой было прекрасно, только вот детей им Бог не дал. Тогда-то миллионер и вспомнил давнюю историю. Стал разыскивать Настю из Перми, только оказалось это совсем не просто, ведь имя у нее было не то что у него, а самое что ни на есть обыкновенное. Но Мират Виленович не жалел ни средств, ни усилий, и после нескольких лет беспрестанных поисков выяснил и фамилию Насти, и адрес. А также то, что она умерла, родив девочку, и что ребенка отдали в детский дом.
Дальнейшее было делом техники, и здесь я снова перехожу на сказочную волну.
Однажды семнадцатилетняя воспитанница Краснокоммунарского интерната Миранда открыла окно палаты, где она жила с пятью другими девочками, и увидела, как по дороге, сверкая черной полировкой, катит чудо-экипаж, каких в райцентре отродясь не видывали…»
Статья была длинная, но Николас прочитал ее до конца. Иногда морщился от слащавости стиля, но история и в самом деле была необычная, трогательная.
Посмотрел и другие публикации, их было несколько десятков, и почти все с портретами трогательной большеглазой девчушки: и на фоне детдома, и в лимузине, рядом со смущенным Куценко. Вот сколько шума, оказывается, наделала история краснокоммунарской золушки и владельца «Феи Мелузины». Еще бы, настоящая мыльная опера, «Богатые тоже плачут».
Фандорин закрыл папку, подошел к зеркалу.
Лицо у него было такое же, как всегда, но он-то знал, что видит перед собой не Нику Фандорина, а оборотня.
Спасти маленький мир ценой большого?
Зажмурился.
Чтоб не раскиснуть, заставил зрительную память показать жителей маленького мира: вот Алтын, вот Эраст, вот Геля.
Вдруг вспомнилось, как дочка спросила:
«А как это – душу потерять?»
Передернулся. Задал бессмысленный вопрос, звучавший с библейских времен бессчетное количество раз. Господи, за что мне такое испытание? Оно выше моих сил. Я не выдержу!
Потом открыл глаз и сказал своему отражению: «Я подлец».
По договоренности с хозяйкой, уроки должны были занимать два часа перед обедом (воспитание и английский) и два часа перед ужином (английский и воспитание), но с первого же дня сложилось так, что учитель и ученица расставались лишь на время ночного сна, да еще утром, до двенадцати, когда Мира занималась с предметниками. То есть урокам английского-то отводилось столько времени, сколько полагалось по расписанию, но вот «воспитание» растягивалось самым недопустимым образом, поглощая весь вечер, а то и половину ночи – до тех пор, пока гувернер, спохватившись, не отправлял девочку спать.
Собственно воспитание и обучение изящным манерам происходило урывками, от случая к случаю, как гарнир к главному делу – разработке компьютерной игры про Эраста Петровича Фандорина. Незаконченного «Камер-секретаря» Ника трогать не стал, поскольку та история уже наполовину сложилась, а затеял сочинять новый сценарий.
В первое утро, пока Миранда была на уроках, сгонял в Москву за необходимыми программами. Убедился, что дома никого нет, и только тогда вошел в квартиру.
Повздыхал в детской, глядя на аккуратно убранную кроватку Эраста и разбросанные куклы Гели. Жене записки не оставил – просто положил на постель купленную по дороге лилию, символ надежды. Алтын поймет.
И скорей назад, в Утешительное. Как раз обернулся к назначенному часу.
Азы программистской науки Мира схватывала на лету, тем более что он не стал утомлять ее техническими деталями – поскорее перешел к рассказу про своего замечательного предка. Вывел на монитор его портрет и был очень доволен, когда девочка воскликнула: «Красивый – помереть!». Даже вульгаризм поправлять не стал.
Миранде было предложено на выбор три приключения героического сыщика (ни про одно из них сколько-нибудь достоверных сведений не сохранилось, так что простор фантазии не был ограничен): «Эраст Петрович против Джека Потрошителя», «Эраст Петрович в Японии» и «Эраст Петрович в подводном городе».
К изумлению учителя, выяснив исходные данные каждого из сюжетов, ученица без колебаний выбрала самый кровавый, про Уайтчепельского монстра.
Сначала Николас решил, что это следствие запоздалого эмоционального развития – нечто вроде ностальгии по детским «страшилкам», которыми, должно быть, пугали друг друга по ночам маленькие детдомовки. Но, узнав свою воспитанницу поближе, он понял, что ночная готика про «Летающие гробики» и «Желтые перчатки» здесь ни при чем. Ангелоподобная инженю с поразительным хладнокровием относилась к вещам, которых обычно так боятся девушки ее возраста: к смерти, крови, страданиям.
А впрочем, ничего поразительного тут не было. За свою недолгую, да к тому же проведенную в замкнутом пространстве жизнь Мира не раз видела, как мучаются и умирают ее сверстники, ведь многие из них были от рождения болезненны, а казенному уходу, каким бы он ни был добросовестным, далеко до родительского.
– И лекарства не всегда достанешь, особенно если дорогие, – беспечно рассказывала Миранда, заливая красным цветом лужу крови на месте очередного злодеяния Потрошителя. – Роберт Ашотыч из кожи вон лезет, но он же не волшебник. У меня в третьем классе подружка была, Люсьенка, с пороком сердца. Ждала очереди на операцию, но не дождалась. И Юлик тоже не дождался, пока его в Туапсе переведут, задохся от астмы.
Роберта Ашотовича она поминала часто. Это был директор интерната – судя по рассказам, человек неординарный и энергичный. Всем своим питомцам он придумывал имена сам, одно причудливей другого, а если у ребенка в графе «отец» стоял прочерк, то дарил и отчество.
– Пока меня папа не нашел, я звалась Миранда Робертовна Краснокоммунарская, – похвасталась Мира, произнося это несусветное прозвание, словно какой-нибудь громкий титул. – Красота, да? Мы там все, у кого своей фамилии не было, назывались Краснокоммунарскими. Во-первых, звучит, а во-вторых, Роберт Ашотович говорил, что ни у кого кроме наших такой фамилии быть не может. Как где встретите какого-нибудь Краснокоммунарского, сразу поймете: это свой.
Странно, но про отца она говорила гораздо меньше, чем про этого самого Роберта Ашотовича. То есть почти совсем не говорила. Но когда видела Мирата Виленовича или когда кто-нибудь просто упоминал его имя, в глазах Миранды зажигались особенные огоньки, а на щеках проступал румянец. Вот как нужно добиваться пылкой дочерней любви, думал Николас. Отказаться от своего ребенка, помариновать его лет семнадцать в приюте, а потом прикатить на «мерседесе»: здравствуй, дочурка, я твой папа. Думать-то думал, но сам, конечно, понимал, что несправедлив, что просто завидует.
За четыре дня хозяина Фандорин видел только однажды. Мират Виленович уезжал рано, возвращался поздно, и лишь в понедельник, накануне дочкиного дня рождения, поспел к семейному ужину. Но пообщаться с ним возможности не представилось. Господин Куценко и в столовой то говорил по телефону, то просматривал бумаги, которые без конца подсовывал ему мамонтоподобный Игорек.
Вот это мужчина, уныло размышлял Ника, поглядывая на магната. С каким обожанием смотрят на него красивейшая из женщин и прелестнейшая из дочерей, а ведь собою отнюдь не Эраст Петрович и даже не Том Круз. Дело не во внешности, дело во внутренней силе, тут Инга Сергеевна абсолютно права. Интересно, а как бы он обошелся с Потрошителем? Все-таки врач, представитель гуманной профессии.
Дело в том, что как раз перед ужином у Николаса произошел ожесточенный спор с Мирой – как должен поступить Эраст Фандорин, если ему удастся изловить это чудовище. По мнению гувернера, несчастного психопата следовало поместить в тюремную больницу, чтобы врачи попробовали исцелить его больную душу. Именно так бы и сделал Эраст Петрович, который, будучи защитником правопорядка и человеком истинно цивилизованным, свято верил в то, что слово эффективнее насилия. Мира же о подобном исходе не желала и слышать. «Наш Эраст нашел бы эту гадину и прикончил», – безапелляционно изрекли нежные девичьи уста.
Характер у девочки был крепкий, бойцовский. Например, она ужасно боялась предстоящего приема по случаю своего дня рождения. При одном упоминании о неотвратимо приближающемся вторнике ее личико, и без того худенькое, вытягивалось, а мелкие ровные зубы впивались в нижнюю губку, но Миранда ни за что не призналась бы, как мучительно для нее предстоящее испытание – ведь это расстроило бы папу, который хотел сделать ей приятное.
Николас не жалел усилий, чтобы придать девочке уверенности. Убеждал, что в пышном платье с кринолином она божественно хороша (это было сущей правдой), показывал, как нужно ходить, как держать осанку. Целый час посвятил инструктажу по пользованию столовыми приборами, хотя был совершенно уверен, что новорусский бомонд этих премудростей знать не знает.
Больше всего Миранда боялась что-нибудь не то сказать и тем самым опозорить Мирата Виленовича.
– А ты говори поменьше, – посоветовал ей Ника. – Это и есть самый хороший тон для молоденькой девушки в присутствии взрослых. Спросят что-нибудь – ответишь, ты же не дурочка. А так смотри на всех с улыбкой, и больше ничего. Улыбка у тебя, как у мадонны.
В знаменательный день, когда в доме уже ждали гостей, Фандорин отвел нарядную Миру в сторону и ободряюще сжал ее затянутый в длинную перчатку локоток:
– Ты знаменитость. На тебя будут смотреть, в том числе ревнивыми глазами. Выискивать промахи, особенно женщины. Это не должно тебя пугать. Так уж устроен свет – не важно, в девятнадцатом веке или в двадцать первом. Будь со всеми доброжелательна и вежлива, но если почувствуешь насмешку или вызов, не теряйся. Я постараюсь держаться неподалеку и приду тебе на помощь.
– Ничего, Николай Александрович, – улыбнулась девочка белыми от страха губами. – Мне бы только папу не подвести. А если кто на меня наедет, дам сдачи. Роберт Ашотович всегда говорил: «Кто добрый, с тем надо по-доброму, а если кто обидел – давайте сдачи». Еще песню нам пел, свою любимую.
И Миранда пропела хрустальным голоском:
– «При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать». А во двор уже въезжал автомобиль первого из гостей.
– Ну, в бой, – подмигнул Николас. – Ой, мамочки…
Мира деревянной походкой двинулась в сторону передней, откуда уже доносился звучный, известный всей стране бас режиссера Оскарова:
– Миратушка! Ингушетия! У, затворники, старосветские помещики! Визит Магомета к горе! А где именинница?
Николас выглянул из коридора, увидел, как киноклассик, склонив львиную голову, целует ручку мертвенно бледной Миранде. Рядом стояла умопомрачительная мадам Оскарова, с великодушной улыбкой взирала на дилетантку и – с точно таким же выражением лица – на празднично расчесанного Агбара, который возбужденно подпрыгивал и повизгивал у ног хозяйки.
– Ты что это фрак нацепил, низкопоклонник? – Куценко шутливо снял с плеча режиссера несуществующую пылинку. – Хватило бы и смокинга. Девочке всего восемнадцать.
– Да я не из-за вас. Был на открытии фестиваля «Русский меценат». Бабки на картину нужны, я тебе говорил.
– Ну и как? Достал? Режиссер махнул рукой.
– Сказал бы я тебе русским языком, если б не присутствие этого волшебного дитяти.
«Меценат, лови откат» – вот какой у них фестиваль.
Тут каннско-венецианский лауреат все-таки не сдержался и выразился самым энергичным, идиоматическим манером, отчего Мира вздрогнула и испуганно оглянулась на Николаса. Тот пожал плечами: ничего не поделаешь, видно, так в этой среде заведено.
Куценко засмеялся, жестом пригласил проходить в салон, где стояли столы с винами и закусками, но другой рукой приобнял госпожу Оскарову.
– Маруся, ты через пять недель ко мне, на техосмотр. Помнишь?
– Уж про что про что, а про это я помню всегда.
Красавица нежно поцеловала хозяина в щеку, а по лестнице уже поднимались новые гости – и тоже такие, которых знала вся страна. Это был истинный парад планет!
Сначала обомлевшей Мире вручил букет Максим Кафкин, ведущий телешоу «Как украсть миллион». Не успела она прийти в себя, а ей уже тряс руку колумнист Михаил Соколов, реставратор некогда славной и теперь снова входящей в моду профессии сатириков-государственников. Потом бедняжку целовала светско-парламентская львица Ирина Оригами. А следом, шурша шелками и туманами, уже наплывала блистательная Изабелла Марченко (народная кличка «Средство Макропулоса») – на великую актрису Николас воззрился с особенным интересом, вспомнив, что она судится с газетой «Эросс» за диффамацию: редакция поздравила легенду кинематографа с совершеннолетием правнука.
Миранда держалась молодцом: подарки принимала грациозно, разворачивала, мило ойкала и даже розовела. На вопросы отвечала тихо, но без робости, иногда же ограничивалась одной улыбкой, что было уже высшим пилотажем.
Успокоившись за воспитанницу, Фандорин переместился в салон, где джазовый секстет исполнял вариации на темы классических шлягеров из Доницетти и Беллини. Теперь можно было подумать и о себе.
Странное у него было предчувствие: сегодня, наконец, что-то произойдет. Не может же затишье продолжаться вечно? Сколько можно выгибать шею и всматриваться в небо: когда же выползет грозовая туча? Воздух насыщен электричеством, где-то за горизонтом перекатываются булыжники грома, а бури нет и нет. Уж скорей бы.
За все эти дни ни одного звонка от Жанны. Выданный ею телефон молчал, но Ника не забывал о нем ни на секунду, был готов к тому, что проклятая машинка в любое мгновение запищит – так истинный самурай живет в непрестанной готовности к внезапной смерти.
В салоне, среди выпивающих, хохочущих, целующихся звезд магистру сделалось совсем тоскливо – будто он по случайности угодил на глянцевый разворот журнала «Семь дней».
Он выскользнул в прихожую, чтобы через боковой коридор ретироваться в свои «партаменты» – и как раз налетел на чету Куценко. Они стояли спиной к двери и приближения гувернера не слышали, потому что, производя свой маневр, Николас старался ступать как можно тише. В результате чего и сделался невольным свидетелем маленькой супружеской сцены.
Инга Сергеевна говорила с ласковой укоризной:
– Дурачок ты, ей-богу. Нашел к кому ревновать. Сколько лет прошло! Ты бы еще татаро-монгольское иго вспомнил. Глаза мои этого Яся не видели бы, пропади он пропадом. Ведь ты сам его пригласил, у вас свои дела.
– Дела делами, но как вспомню… – глухо рокотал Мират Виленович.
Беседа явно носила интимный характер, однако пятиться назад было глупо – еще подметка скрипнет, только хуже получится. И Фандорин поступил самым тривиальным образом – кашлянул.
Мадам Куценко обернулась, вспыхнула и, бесстрастно улыбнувшись Николасу, спустилась по ступенькам вниз. Хозяин же, тоже покашляв, счел нужным задержаться – должно быть, от смущения.
Выход в такой ситуации один: завести разговор на какую-нибудь нейтральную тему. Поэтому, глядя через распахнутые двери на столичный бомонд, Фандорин сказал:
– Все-таки не зря русских женщин называют самыми красивыми. Всего несколько лет раскрепощенности, богатства, и вот наши светские львицы уже ничем не уступают лондонским или парижским. Вы только посмотрите, это же просто конкурс «Мисс Вселенная».
– Скорее, «Миссис Вселенная», – хмыкнул Куценко. – Жены наших политиков и богатеньких буратин в последние годы стремительно хорошеют и молодеют, это правда. Но дело тут не в генах, а вот в этих руках. – Он продемонстрировал свои замечательные пальцы и засмеялся. – Три четверти дам, которых вы тут видите, прошли через мою операционную. И каждый год я делаю им коррекцию – этого требует разработанный мною метод. Если какая-нибудь из моих лолобриджид опоздает на очередную профилактику, то с боем часов превратится в тыкву. Что делать – красота требует квалифицированного ухода.
Николас вспомнил, как Мират Виленович поминал жене режиссера про какой-то «техосмотр». Так вот что имелось в виду.
– Но как вы все успеваете? И заниматься бизнесом, и оперировать, и еще эта профилактика.
Куценко вздохнул:
– За счет сна, отдыха. Не помню, когда ел по-человечески – знаете, чтобы не спеша, с удовольствием. А что прикажете делать? Посвятить в свой метод ассистентов? Народ сейчас ушлый – враз свою клинику откроют и, конкурировать начнут. Прецеденты уже были. Опять же клиентки у меня особенные. – Он кивнул в сторону зала. – С ними личный контакт нужен.
Кажется, за финансовые перспективы фирмы «Фея Мелузина» можно не тревожиться, подумал Николас. В пациентках у чудо-доктора нехватки не будет, и за деньгами они не постоят.
Внезапно лицо Мирата Виленовича изменилось. Из устало-насмешливого стало сосредоточенным, напряженным. Но не более чем на мгновение. Затем хирург просиял широченной улыбкой и, глядя мимо Фандорина, воскликнул:
– Ясь! Как обычно, опаздываешь! А ну давай дневник и чтоб без родителей не приходил!
На площадку поднимался стройный господин с импозантной проседью в тщательно уложенных волосах. Смокинг сидел на нем так, словно припозднившийся гость прямо в нем родился и с тех пор другого кожного покрова не знал – только время от времени линял, обрастая новой элегантной шкуркой.
Красавец дружески хлопнул хозяина по плечу, после чего оба исполнили странный ритуал: вместо рукопожатия стукнулись открытыми правыми ладонями, а потом еще и шлепнули друг друга по лбу.
– Салют, Куцый. Как говорится: здрасьте, давно не виделись.
– Это точно. Инга уж спрашивала, чем это вы с Ясем ночи напролет занимаетесь. Вы что, говорит, ориентацию поменяли? – засмеялся Мират Виленович. – Но на сегодня брейк, лады? Только бумажку тебе одну покажу, и все. Зайдем в кабинет?
– Угу, – промычал Ясь, вопросительно глядя на Николаса.
– Фандорин, гувернер дочери Мирата Виленовича, – представился тот, но руку первым протягивать не стал, ибо гувернер – фигура второстепенная и должен знать свое место.
Правильно сделал. Рукопожатием с наемной рабочей силой гость обмениваться не пожелал – только оглядел Николаса с головы до ног и еще раз повторил, но уже с другой интонацией:
– Угу.
Вежливый Куценко представил своего знакомого:
– Это Олег Станиславович Ястыков, мы когда-то в одном классе учились. А теперь главный мой конкурент, ему принадлежат аптеки «Добрый доктор Айболит». Вы их, конечно, знаете.
Тот самый Ястыков, из списка приговоренных!
Стараясь не выдать волнения, Фандорин спросил:
– Какая же может быть конкуренция между косметическими клиниками и аптеками? Скорее сотрудничество.
– Вот и я тебе говорю, Куцый, – засмеялся Ястыков. – Ты бы лучше со мной сотрудничал, а не бодался. Гляди, уши на нос натяну, как в пятом классе.
На мгновение лицо Мирата Виленовича исказилось странной гримасой, но, может быть, Николасу это показалось – Куценко весело двинул однокашника локтем в бок.
– Что ж ты один? Не узнаю грозу сералей и борделей!
– Почему один? Я с дамой. Сейчас познакомлю – супер-класс.
– Ну, и где твой супер-класс? Ястыков оглянулся.
– Ее внизу твоя подхватила, повела гостиную показывать. Инга-то цветет! Счастливчик ты!
И снова лицо хозяина дома дернулось теперь уже совершенно явственно.
Криво улыбнувшись Ястыкову, Мират Виленович попросил Фандорина:
– Николай Александрович, не сочтите за труд. Спуститесь, пожалуйста, вниз и скажите жене, что я поднимусь с Олегом Станиславовичем в кабинет, но к выносу праздничного торта мы непременно спустимся.
Подавив порыв низко поклониться и прошелестеть: «Слушаю-с, ваше сиятельство», Николас отправился на первый этаж. Раз ты обслуживающий персонал, умерь гордыню, знай свое место.
Инга и спутница неприятного Ястыкова были в гостиной – стояли перед портретом личного дворянина Конюхова.
Заслышав шаги, гостья, высокая брюнетка в алом платье с глубоким вырезом на загорелой спине, обернулась.
Ника покачнулся, ухватился за дверной косяк.
Это была Жанна!
Время и пространство переключили регистр и перешли в иное измерение, так что ровный, безмятежный голос Инги Сергеевны казался звучащим откуда-то из иного мира, из позапрошлого столетия:
– Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности…
Глава шестнадцатая
Бригадир
– Дмитрий, будет безнравственно, если ты и дальше станешь хранить молчание о причинах твоего бегства из Петербурга, – строго молвил Данила, едва дормез отъехал от площади.
Митя стоял на коленках, забравшись на заднее сиденье, и смотрел в окно: на поручика-гатчинца, пересчитывавшего полученные за шпагу деньги, на угрюмого Пикина – тот стоял один, накинув поверх рубахи плащ, и жадно дымил длинной трубкой. Карету взглядом не провожал, разглядывал землю под ногами.
– Я не понуждал тебя к откровенности, – продолжил Фондорин все тем же решительным тоном, – однако же, согласись, что после случившегося я вправе получить ответы на некоторые вопросы. Первое: кто таков упомянутый капитан-поручиком Еремей? Второе: почему за тебя обещано вознаграждение, и судя по всему немалое? Третье: что ты делал Петербурге – один, без родителей? Четвертое…
Всего вопросов было ровным счетом двенадцать, перечисленных в строгой логической последовательности, из чего следовало, что занимали они Данилу уже давно.
– Простите меня за скрытность, мой почтенный друг и благодетель, – повинился Митридат. – Она была вызвана отнюдь не недоверием к вам, а нежеланием вовлекать вас в эту не до конца ясную, но опасную интригу.
И Митя поведал своему спасителю все, как на духу, сам не замечая, что заразился от лесного философа привычкой изъясняться длинными грамматическими периодами.
Фондорин изредка задавал уточняющие вопросы, а дослушав, долго молчал – обдумывал услышанное.
– Рассказанная тобой история настолько запутанна и смутна, – сказал он наконец, – что, если позволишь, я попытаюсь осмыслить ее суть, а ты меня поправишь, коли я в чем-то ошибусь. Итак. В законах о российском престолонаследии еще со времен Великого Петра нет определенности. Государь вправе назначать себе преемника по собственной воле, не считаясь с династическим старшинством. Известно, что по насмешке судьбы сам Петр назвать своего преемника не успел – испустил дух, так и не произнеся имени. С тех пор монархов на престол возводит не право, а сила. И первая Екатерина, и второй Петр, и Анна, и младенец Иоанн, и Елисавета, и третий Петр, и Екатерина Вторая были возведены на трон не законом, а произволом. Неудивительно, что в окружении Фаворита возник прожект миновать естественную очередность престолонаследия и сделать преемником императрицы не Сына, который известен упрямством и вздорностью, а Внука, который по юности лет и мягкости нрава станет воском в руках своих приближенных. Очевидно, завещание на сей счет уже составлено, но осторожная Екатерина пока хранит его в тайне, по своему обыкновению выжидает удобного момента. Однако, как говорится, у мертвых голоса нет. Если Екатерина сама, еще при жизни, не передаст скипетр Внуку, то едва у нее закроются глаза, как в столицу явится Павел во главе своего пудреного воинства и займет трон силой. Тогда всем его гонителям и обидчикам не поздоровится, а в первую голову самому Фавориту и его приспешникам. Твой приятель Еремей Метастазио умен и отлично понимает, что время не терпит. А тут еще скудоумный Платон совсем потерял голову от страсти и затеял сам рубить сук, на котором сидит. Не сегодня-завтра зуровский неприятель Маслов добудет верные доказательства Фаворитовой неверности, и тогда случаю его светлости конец. Вот итальянец и решил сократить земное пребывание императрицы. Она должна умереть поскорее, пока Зуров еще в силе, но умереть не в одночасье, а после болезни, чтобы у нее хватило времени утвердить Внука в державном преемничестве. Для этого и понадобился медленнодействующий яд. Верно ли я понимаю последовательность и смысл событий?
– Верно! – воскликнул Митя. – О, как верно! Только теперь интрига Метастазио раскрылась передо мной в полной ясности!
– М-да? – скептически покачал головой Данила. – А мне для полной ясности чего-то недостает.
– Чего же?
– Пока не могу сказать. Нужно хорошенько все обдумать. Вот что, дорогой мой товарищ, не будем торопиться в Москву. Во-первных, надобность в спешке отпала, потому что погони за нами больше нет. Во-вторых, я обещался доставить тебя к Павлине Аникитишне, а она едет кружным путем и прибудет к своему дяде не ранее, чем через два-три дня. В-третьих же, в рассказанной тобой истории есть некая странность, которую я чувствую, но назвать не могу. Пока мы досконально во всем не разобрались, я счел бы рискованным возвращать тебя в родительский дом – итальянцу будет слишком легко отыскать там опасного свидетеля. У господина Метастазио наверняка есть и другие помощники кроме Пикина.
Да и Пикина списывать нельзя, заметил Митя, но не вслух, а мысленно – чтобы не расстраивать своего легковерного друга.
– Не в Москву? – сказал он. – Тогда куда же?
Данила раскрыл дорожную карту.
– Мы миновали Городню… Если в городке Клине повернуть с тракта и проехать верст двадцать в сторону Дмитрова, там находятся обширные владения бригадира Любавина. Это мой старинный приятель и университетский соученик. Надеюсь, Мирон жив и находится в добром здравии. С началом гонений на мнимых якобинцев он удалился из Москвы и наверняка поныне пребывает у себя в подмосковной.
– Этот господин тоже был членом вашего общества? – явил проницательность Митя. – Как ваш новгородский приятель?
– Нет, Любавин из практиков. Идеи нравственного преобразования, исповедуемые братьями Злато-Розового Креста, казались его деятельному уму слишком медленными. Но это весьма достойный и добрый человек. Решено, едем к Любавину, в Солнцеград.
В Клину снова произошло переодевание. Зная фондоринские привычки, Мирон Любавин весьма удивился бы, увидев старого друга путешествующим в сопровождении казачка. К тому же, если гостевание продлится несколько дней, не селить же Митридата со слугами? Поэтому после непродолжительных, но, должно быть, чувствительных для сердца колебаний Данила решился представить Митю как собственного сына. Бригадир, анахоретствовавший у себя в имении еще с той поры, когда Фондорина не постигли прискорбные Обстоятельства, вряд ли был осведомлен о судьбе маленького Самсона.
С бекешей и замечательной запорожской папахой пришлось расстаться. Мите были куплены беличья шубка, камзол, кюлоты, башмаки, полотняные рубашки и все прочие предметы туалета, необходимые дворянину, а волосы опять побелели, смазанные салом и присыпанные пудрой.
– Эким ты версальским маркизом, – пошутил Данила, оглядывая преобразившегося спутника.
Митя лишь небрежно пожал плечом: эх, Данила Ларионыч, видели бы вы меня в Зимнем.
Вскоре после съезда с Московской дороги начались владения Мирона Антиоховича Любавина, растянувшиеся не на одну версту.
– Мирон богат, – рассказывал Фондорин. – Кроме Солнцеграда у него тут еще три или четыре деревеньки, да хутора, да мызы, да заводы, да лес, да вон сколько мельниц по холмам. Полутора тысячами душ владеет, а с бабами получится вдвое. Брать по германским меркам – владетельное графство. И погляди, Дмитрий, сколь славно живут.
Как раз подъезжали к селу Солнцеграду, и вправду на диво благоустроенному и опрятному.
Улица была всего одна, но широкая, расчищенная от снега и – невероятный для деревни феномен – мощенная камнем. Таких домов, как в Солнцеграде, Мите тоже доселе видеть не доводилось. Хоть и бревенчатые, все они были крыты не соломой и даже не дранкой, а самым настоящим железом, и хоть одни из строений были побольше и побогаче, а другие поменьше и поскромней, обычной российской нищеты не ощущалось вовсе.
– Смотрите, неужто клумба? – показал Митя на выложенный кирпичом круг перед одной из изб.
– В самом деле! – воскликнул Фондорин, взволнованный не менее Мити. – А окна! Из настоящего стекла! Это просто невероятно! Я был здесь тому двенадцать лет, когда Мирон только-только вышел в отставку и вступил в права наследства. Солнцеград просто не узнать! Взгляни, взгляни сюда! – закричал он во весь голос и потянул спутника за рукав. – Видал ли ты когда-нибудь подобных поселян?
По улице шло крестьянское семейство: отец, мать и трое дочек. Одеты во все новое, добротное, у женщины и девочек цветные платки.
– Ай да Мирон! Мы все мечтали да спорили, а он дело делал! Ах, молодец! Ах, герой! – все не мог успокоиться Данила.
Между тем карета въехала в ворота английского парка, устроенного таким образом, чтобы как можно достовернее походить на девственное творение природы. Должно быть, в летнее время все эти кущи, лужайки, холмы к озерца выглядели чрезвычайно живописно, однако бело-черная зимняя гамма придавала парку вид строгий и немного сонный.
Над верхушками деревьев показалась крыша господского дома, увенчанная круглой башенкой, и в следующий миг грянул пушечный выстрел, распугав многочисленных птиц. – Это нас дозорный заметил, – объяснил Данила, радостно улыбаясь. – Старинное московское гостеприимство. Как завидят гостей, палят из пушки. И на кухне сразу пошла кутерьма! Тебе понравится здесь, вот увидишь.
А Мите и так уже нравилось.
Дом оказался большим, размашистой постройки: с одной стороны стеклянная оранжерея, с другой колоннада, сплошь уставленная свежевыкрашенными сельскохозяйственными орудиями, из которых Митя узнал лишь английскую двуконную сеялку, которую видел на картинке.
У парадных дверей в ряд выстроились дворовые – молодец к молодцу, в синих мундирах на манер гусарских. Двое подбежали открывать дверцу дормеза, остальные поклонились, да так весело, без раболепства, что любо-дорого посмотреть.
А по ступенькам уже сбегал плотный, невысокий мужчина с кудрявой непудреной головой и румяным лицом. Он был в кожаном фартуке поверх рубашки, в нарукавниках, засыпанных опилками.
– Мирон!
Фондорин спрыгнул на снег, побежал навстречу хозяину, и тот тоже просиял, распростер объятья.
Они троекратно облобызались, оба разом что-то говоря и смеясь, а Любавин, не удовлетворившись объятьями, еще принялся стучать гостя по спине и плечам.
– Ну порадовал! Ну утешил, Даниил Заточник! – хохотнул Мирон Антиохович и пояснил присоединившемуся к нему красивому юноше. – Однокашник мой, Данила Фондорин, тот самый! А Заточником его прозвали после того, как ректор его за дерзость в карцер заточил.
– Да, батюшка, вы рассказывали, – улыбнулся юноша. – Я про вас, Данила Ларионович, очень наслышан:
– Сын мой, Фома, – представил Любавин. – Ты его в пеленках помнишь, а ныне вон какой гренадер вымахал. Ох, опилками тебя перепачкал!
Он засуетился, отряхивая кафтан Фондорина. Тот, смеясь, спросил:
– Все мастеришь?
– Да, придумал одну штуку, которая произведет la revolution veritable[13] в мясо-молочном сообществе. Но показать не могу, даже не упрашивай. Не все еще додумал.
Данила засмеялся.
Тут Мирон Антиохович увидел прилипшего к каретному окну Митю.
– Э, да ты, я смотрю, не один? Улыбка на лице гостя угасла.
– Я тоже с сыном. Поди сюда, Самсон не дичись.
Когда Митя подошел и поклонился, Фондорин присовокупил:
– Ему девять, но разумен не по годам. Мите показалось, что Любавин и его сын смотрят на него каким-то особенным образом. Но впрочем почти сразу же оба, переглянувшись, радушно заулыбались.
– Мал для девяти годов-то, мал. – Мирон Антиохович шутливо тронул Митю пальцем за кончик носа. – Поди, Данила, ученостью сынка сушишь? Знаю я тебя, книжника. Ах, да что же я, как нехристь какой! – переполошился вдруг хозяин. – В дом, в дом пожалуйте! Лидия-то моя умерла. Да-да, – закивал он всплеснувшему руками Даниле. – Ладно, ладно, отплакано. Нечего. Теперь я, как и ты, бобылем. Вдвоем с Фомой управляемся, без женского уюта. Не взыщи.
Это он скромничал, насчет уюта-то. Дом замечательного бригадира был устроен самым разумным и приятным для проживания манером. Мебель простая, без затей, но тщательно продуманная в видах удобства: спинки стульев и кресел вырезаны в обхват спины, чтоб покойней сиделось; на широких подоконниках турецкие подушки – вот, поди, славно почитывать там хорошую книжку и любоваться парком; полы покрыты дорожками деревенского тканья – и не скользко, и ступать мягко.
Но больше всего Митридата, конечно, заинтересовали полезные приборы, имевшиеся чуть не в каждой комнате. Были тут барометры с термометрами, обращенные на обе стороны дома, и подзорные трубы для лицезрения окрестностей, и буссоль с астролябией, а лучше всего оказалось в библиотеке. Что книг-то! Тысячи! Вот где провести бы годик-другой!
На стенах три портрета старинных людей: один в круглой шапочке и с длинными прямыми волосами, молодой, двое других – в плоских, именуемых беретами, возрастом постарше.
– Это у тебя Пико де ла Мирандола, контино моденский, – покивал Фондорин, признав молодого. – Это преславный Кампанелла, а третий кто ж?
– Великий английский муж Фома Мор, в честь которого я назвал единственного сына и наследника. Портрет писан художником не с известной гравюры, а по моим сугубым указаниям, вот ты и не узнал.
– Отменная Троица, лучше всякого иконостаса, – одобрил Данила и оборотился к Стеклянному кубу, в котором стояла черная трубка на хитрой подставке. – А это что? Неужто диоптрический микроскоп?
– Он самый, – гордо подтвердил Любавин. – Самоновейший, с ахроматическим окуляром. В простой капле воды обнаруживает целый населенный мир. Выписан мною из Нюрнберга за две тысячи рублей.
Митя затрепетал. Читал о чудо-микроскопе, много сильнейшем против прежних, давно мечтал при его посредстве заглянуть в малые вселенные, обретающиеся внутри элементов. Была у него собственная гипотеза, нуждавшаяся в опытном подтверждении: что физическая природа не имеет границ, однако же ее просторы не линейны, а слоисты – бесконечно малы в одном направлении и бесконечно велики в другом.
– Милостивый государь, а не дозволите ли заглянуть в этот инструмент? – не выдержал он.
Мирон Антиохович засмеялся:
– «Милостивый государь». Ишь как ты его, Данила, вымуштровал. Гляди, не переусердствуй с воспитанием, не то вырастишь маленького старичка. Всякому возрасту свое. – А Митридату ответил. – Извини, дружок, не могу. Очень уж нежный механизм. Я и собственному сыну не дозволяю его касаться, пока не постигнет всей мудрости биологической и оптической науки. В твои годы должны быть иные игрушки и занятия. На токарном станке работать умеешь? Нет? А с верстаком столярным знаком? Ну-ка ладоши покажи. – Взял Митины руки в свои, зацокал языком. – Барчук, сразу видно – барчук. Вот вы каковы, злато-розовые, лишь языком молоть да слезы лить, а надобно работать. Ты-то вот, Данила, своих крепостных, поди, отпустил, вольную им дал, так?
– Так.
– Держу пари, что половина на радостях поспивались. Рано нашим мужикам волю давать, много воли это как много сильного лекарства. Отравиться можно. Понемногу следует, по чуть-чуть. Я вот своим крепостным свободы не даю и не обещаю. Зачем человеку свобода, если он ею пользоваться не умеет? Иной раз и посечь нужно, по-отечески. Зато я каждому помогаю на ноги встать, хозяйство наладить. Известно ли тебе, сколько доходу дает помещику в России одна ревизская душа? Нет? А я справлялся. В среднем семь рублей в год, не важно натурой или деньгами. Я же с каждого работника имею средним счетом по сорока пяти рубликов. Каково?
– Невероятно! – воскликнул Фондорин.
– То-то. И это не считая дохода от мельниц, ферм, скобяных мастерских, полотняного и конного заводов. Ты зависимому человеку перво-наперво дозволь жить: дом ему обеспечь хороший, ремеслу научи, дай на ноги встать, а после и бери по справедливости. Женатый мужик первые три года мне вовсе ничего не платит, даже, наоборот, на обзаведение получает. Зато потом и возвращает сторицей. Данила заметил:
– Это, конечно, превосходно у тебя устроено. Да только возможно ль воспитать в человеке достоинство, если такого хозяина всегда посечь можно?
– Не всегда, не по моему произволу, а по установленному порядку, за известные нарушения! – горячо возразил Любавин. – Для их же блага!
– А вот я, чем дольше на свете живу, тем более склоняюсь к убеждению, что человеку, если он здоров, лучше дать возможность самому своим благом озаботиться. Иначе выйдет, как у наследника в Гатчине. Слыхал? Он тоже своим крестьянам благодетельствует, но они у него должны в немецких полосатых чулках ходить, спать в ночных колпаках и чуть ли не волосы пудрить.
– Ну, с чулками это, пожалуй, чересчур, – засмеялся Мирон Антиохович, – однако у меня на цесаревича большие надежды. Он знает, что такое несправедливость, а для государя это великая наука. Уже четверть века, со дня совершеннолетия, он пребывает отстраненным от законного престола. И, подобно любимому тобой некогда принцу Датскому, принужден бессильно наблюдать за бесчинствами преступной и распутной матери. А ведь эта новая Иезавель много хуже шакеспировской Гертруды. Та всего лишь совершила грех кровосмесительства, эта же умертвила двух законных государей, Петра с Иоанном, и не подпускает к короне третьего!
Здесь Любавин взглянул на детей и осекся. – Ладно, после об этом потолкуем, а то у счастливых обитателей грядущего девятнадцатого столетия уже ушки на макушке. Сейчас обедать, всенепременно обедать!
После обеда, сытного и вкусного, но очень простого, хозяин все же не утерпел – повел гостей в коровник показывать свое революционное изобретение. Оно являло собой сложнейший механизм для содержания скотины в телесной чистоте. Дело в том, что коровы, отменно крупные и ленивые, у Любавина на пастбище не ходили вовсе, а проводили всю свою коровью жизнь в узких деревянных ячеях. Ели, спали, давали молоко и соединялись с быком, не двигаясь с места. По уверению Мирона Антиоховича, мясо и молоко от этого обретали необычайную вкусность и жирность. Теперь же неутомимый эконом замыслил устройство, посредством которого навоз и урина ни на секунду не задерживались бы в стойле, а попадали на особый поддон, чтобы оттуда быть переправленными в отстойные ямы. Обычное отверстие в полу для этой цели не годилось, так как глупое животное могло попасть в него ногой. Посему Любавин разработал пружинную планку, нечувствительную к давлению копыта, однако переворачивающуюся при падении на нее груза весом более трех унций.
– Соседские крестьяне моим коровам завидовать будут, ей-богу! Буренки у меня и так содержатся много сытней, теплей, чище, а скоро вообще царевнами заживут, – оживленно объяснял изобретатель, демонстрируя работу хитроумной конструкции.
– Не будут, – сказал Данила. – Коровник, спору нет, заглядение, но человеку одних лишь сытости, крова и устроенности бытия мало. Большинство предпочтут голод, холод и грязь, только бы на свободе. Да и коровы твои разбрелись бы кто куда, если б ты их стенками не запер.
– И были бы дуры! Пропали бы в одночасье. Кого б волки задрали, а прочих крестьяне на мясо бы разворовали.
– Неужто твои мужики воруют? – удивился Фондорин. – Невзирая на сытость? Любавин досадливо покривился:
– Мои-то нет, зачем им? У кого достаток и работы много, тому не до воровства. Голодранцы из соседних деревень шастают, тащат что на глаза попадет. После того как мои мужики конокрада до смерти забили, я у себя милицию завел. Чистые гусары! Много лучше казенной полиции, уж можешь мне поверить.
– Верю, – усмехнулся Данила, – Однако в чем незаконченность твоего навозного клапана?
Любавин встал на четвереньки, оттянул пружину.
– Да вот, видишь? У меня тут насосец, доску водой споласкивать. Включается качанием планки, но не успевает ее дочиста вымыть – пружина захлопывается. Митя сказал:
– А если вот сюда пружинный замедлитель?
Все же девятилетним мальчиком быть гораздо вольготнее, чем шестилетком! Можно предложить разумное техническое усовершенствование, и никто особенно не удивится.
– Толковый у тебя сынок! – воскликнул Мирон Антиохович. – Ну-ка, Фома, беги в слесарную за инструментами. Попробуем!
Провозились в коровнике дотемна. Перепачкались в пыли, да и в навозе тоже, но своего добились: струя воды вымывала планку начисто.
Счастливый хозяин повел гостей в баню – отмываться.
Уж как Митю хвалил, как его сметливостью восхищался.
– Наградил тебя Бог сыном, Данила. За все твои мучения. – Любавин показал пальцем на грудь Фондорина, и Митя, вглядевшись через густой пар, увидел там белый змеистый шрам, и еще один на плече, а на боку багровый рубец. – Ты его в офицеры не отдавай, пошли в Лондон. Пускай на инженера выучится. Много пользы может принести, с этакой головой.
Он любовно потрепал Митю по волосам.
– Ты зачем сыну волоса дрянью мажешь? От сала и пудры только блохи да вши. Это в тебе, Данила, бывшый придворный проступает. Стыдись! К естеству нужно стремиться, к природности. А ну, Самсоша, поди сюда.
Схватил, неуемный, Митю за шею, лицом в шайку сунул и давай голову мылить. Сам приговаривает:
– Вот так, вот так. Еще бы коротко обстричь, совсем ладно будет.
– Ой, пустите! – запищал Митя, которому в глаз попало мыло, но все только засмеялись.
Сильные пальцы, впрочем, тут же разжались. Митридат, отфыркиваясь, распрямился, протер глаза и увидел, что смеются только Данила и Фома, а Любавин стоит бледный, с приоткрытым ртом и смотрит на него, Митю, остановившимся взглядом. Это заметил и Данила, бросился к старому другу. – Что, сердце?
Мирон Антиохович вздрогнул, отвел глаза. Трудно сглотнул, потер левую грудь.
– Да, бывает… Ничего, ничего, сейчас отпустит.
Но и за ужином он был непривычно молчалив, почти не ел, а если и отвечал на Данилины слова, то коротко и словно через силу.
Наконец Фондорин решительно отодвинул тарелку и взял Любавина за руку. – Ну вот что, братец. Я как-никак доктор… – Посчитал пульс, нахмурился. – Э, да тебе лечь нужно. Больше ста. В ушах не шумит?
Любавин-младший встревожился не на шутку – сдернул с груди салфетку, вскочил.
– Да что вы переполошились, – улыбнулся через силу Мирон Антиохович. – В бане перегрелся, эка невидаль. – Глаза его блеснули, улыбка стала шире. – Вот ты, Данила, давеча, в коровнике, мне упрек сделал. Неявный, но я-то понял. Про то, что я своих крестьян, как коров содержу – только о плоти их забочусь, а духом пренебрегаю. Подумал про меня такое, признавайся?
– Мне и в самом деле померещилось в твоей чрезмерной приверженности к порядку и практической пользе некоторое пренебрежение к…
– Ага! Плохо же ты меня знаешь! Помнишь, как мы с тобой, еще студиозусами, сетовали на убожество деревенской жизни? Что крестьяне зимой с темна на печь ложатся, иные чуть не в пятом часу, и дрыхнут себе до света вместо того чтоб использовать зимний досуг для пользы или развлечения? Помнишь?
– Помню, – кивнул Данила. – Я еще негодовал, что иной крестьянин и рад бы чем заняться, да нищета, лучину беречь надо.
Любавин засмеялся:
– А как про клобы крестьянские мечтал, помнишь? Где поселяне зимними вечерами, когда работы мало, собирались бы песни играть, лапти на продажу плести или ложки-игрушки деревянные резать?
Засмеялся и Фондорин:
– Помню. Молод был и мечтателен. Ты надо мной потешался.
– Потешаться-то потешался, а нечто в этом роде устроил.
– Да что ты?!
Мирон Антиохович хитро прищурился.
– Между Солнцеградом и Утопией (это другая моя деревня) в лесу стоит старая водяная мельня, от которой зимой все равно никакого прока. Так я там лавки, скамьи поставил, самовар купил. Кто из крестьян хочет – заезжай, сиди. Свечи за мой счет, а если кому баранок или сбитня горячего – плати по грошику. Дешево, а все же не задарма. Пускай цену досугу знают. Там же книги лежат с картинками, кому охота. Станочек токарный, пяльцы, ткацкий станок для баб.
– И что, ходят? – взволнованно воскликнул Данила.
– Сначала-то не больно, приходилось силком. А теперь привыкли, особенно молодые. У меня там милицейский дежурит и дьячок из церкви, чтоб не безобразничали. Хочешь посмотреть?
– Еще бы! – Фондорин немедленно вскочил. – За это заведение тебе больше хвалы, чем за любые хозяйственные свершения!
Едем! – Но вдруг стушевался. – Извини, друг. Ведь ты нездоров. Съездим в клоб завтра… Хозяин смотрел на него с улыбкой.
– Ничего, можно ведь и без меня. Фома дорогу покажет. Там и заночуете, а утром вернетесь.
– Едем? – повернулся Данила к Мите, и видно было, что ему страсть как не терпится на свою осуществленную мечту посмотреть.
– Конечно, едем!
Митридату и самому было любопытно на этакую невидаль взглянуть. Крестьянский клоб – это надо же!
– С Самсошей не получится, – сказал Любавин. – Тропу снегом завалило, только верхами проехать можно, гуськом. Лошади у меня собственного завода, норовистые. Неровен час упадет мальчуган, расшибется. Вдвоем поезжайте. Мне с твоим сыном не так скучно хворать будет, да и Самсону скучать я не дам. Ты, кажется, хотел в микроскоп посмотреть?
– Неужто? – задохнулся от счастья Митридат. – Тогда я останусь!
Полчаса спустя он и хозяин стояли в библиотеке у окна и смотрели, как по аллее рысят прочь два всадника – один побольше, второй поменьше.
Вот они уже и скрылись за последним из фонарей, а Мирон Антиохович все молчал, будто в каком оцепенении.
Митридата же снедало нетерпение. В конце концов, не выдержав, он попросил:
– Ну давайте же скорее изучать водяную каплю!
Тогда Любавин медленно повернулся и посмотрел на мальчика сверху вниз – точь-в-точь так же, как в бане.
В первый миг Митя подумал, что у Мирона Антиоховича снова схватило сердце, и испугался. Но взгляд был гораздо более долгим, чем давеча, и значение его не вызывало сомнений. Солнцеградский владетель смотрел на своего маленького гостя с нескрываемым отвращением и ужасом, будто видел перед собой какого нибудь склизкого ядовитого гада.
И тут Митя перепугался еще больше. От неожиданности попятился, но Любавин сделал три быстрых шага и схватил его за плечо. Спросил глухо, с кривой усмешкой:
– Так ты Данилин сын? – Да… – пролепетал Митя.
– Тем хуже для Данилы, – пробормотал Мирон Антиохович как бы про себя. – Он думал, я не слыхал, как ты сбежал-то. Не хотел я про это говорить, чтоб не бередить… Надо думать, там, в бегах, это с тобой и случилось. Так?
– Что «это»? – взвизгнул Митридат, потому что пальцы хозяина больно впивались в плечо. – Дяденька Мирон Антиохович, вам нехоро…
Второй рукой Любавин зажал ему рот. Нагнулся и прошептал, часто моргая:
– Тс-с-с! Молчи! Слушать тебя не велено! Кто ты был раньше, не важно. Важно, кем ты стал.
Он провел рукой по лбу, на котором выступили капли пота, и Митя, воспользовавшись вернувшейся свободой речи, быстро проговорил – дрожащим голосом, но все же стараясь не терять достоинства:
– Сударь! Я не возьму в толк, к чему вы клоните? Если мое пребывание здесь вам неприятно, я немедля уеду, единственно лишь дождавшись возвращения Данилы Ларионовича.
– И говорит не так, как дети говорят. – Мирон Антиохович рванул ворот рубашки. – Родного отца по имени-отчеству… Сомнений нет! Тяжек жребий, но не ропщу.
Он на миг зажмурился, а когда вновь открыл глаза, в них горела столь неистовая решительность, что Митя, позабыв о достоинстве, заорал в голос:
– Помогите! Кто-нибудь, помо… На висок ему обрушился крепкий кулак, и крик оборвался.
Очнувшись, Митридат не сообразил, где он, отчего перед глазами белым-бело и почему так холодно. Хотел повернуться из неудобной позы – не вышло, и только тогда понял, что его несут куда-то, перекинув через плечо. Услышал хруст снега под быстрыми шагами, прерывистое дыхание, и рассудок разъяснил смысл происходящего: свихнувшийся Любавин тащит свою маленькую жертву через парк.
Куда? Зачем?
Что за жизнь такая у маленьких человеков, именуемых детьми? Отчего всякий, кто старше и сильнее, может ударить тебя, обругать, перекинуть через плечо и уволочь, словно некий неодушевленный предмет?
Дыхание Митиного обидчика делалось все чаще и громче, а шаги медленней. Наконец он остановился вовсе и бросил свою ношу на снег, тяжело сел на корточки, прижал пленника коленом.
– Куда вы меня, дяденька? – тихо спросил Митя.
Снизу, на фоне темно-серого неба, Любавин казался великаном с огромной, косматой башкой.
– К пруду, – хрипло ответил Мирон Антиохович. – Там прорубь. Ты хитер, но и я не промах. Вон гляди. – Он коротко, одышливо рассмеялся и повернул Митину голову назад.
Там, за деревьями, белели стены дома.
– Видишь окно открытое? Это твоя спальня. Скажу, уложил тебя спать, а ты через окно сбежал. Данила подумает, что ты снова в уме тронулся. Жалко его, пускай у него надежда останется. Ни к чему ему правду знать.
Подавляя неудержимое желание закричать от ужаса, Митя спросил еще тише:
– Почему вы хотите меня убить?
– Не хочу, а должен.
Внезапно Любавин нагнулся и снова зажал своему пленнику рот. Секунду спустя Митя услышал приближающийся стук копыт. Кто-то скакал по аллее галопом в сторону дома.
– Пора, – пробормотал сумасшедший. Вскинул мальчика на плечо, понес дальше.
– Я ничего дурного не сделал! – крикнул Митя.
– Не лги, сатана, не обманешь! – пропыхтел Мирон Антиохович, продираясь через кусты.
Вот ветки расступились, и впереди открылась белая поляна с черным пятном посередине.
Нет, не поляна – пруд, а черное пятно – прорубь!
Митя забарахтался, закричал – не о помощи, ибо кто ж тут услышит, а от раздутия легких. Они, бедные, истово хватали воздух, словно понимали, что это напоследок, что скоро им суждено наполниться жгучей черной водой.
– Остудись, остудись перед геенной огненной, – приговаривал на ходу Любавин.
– Стой! – раздалось вдруг сзади. – Мирон, ты что?!
– Д-Данила! Я здесь! – завопил Митя, выворачиваясь и брыкаясь.
Любавин перешел на бег, но Фондорин тоже бежал, быстро приближаясь.
Безумец споткнулся, упал, но Митю из рук не выпустил.
– Врешь, – шептал он, подтаскивая мальчика к проруби. – Мирон Любавин свой долг знает!
Видно, понял, что не успеет утопить. Схватил Митю обеими руками за шею, но сжать не сжал. Налетел Данила, отодрал Любавина от жертвы, швырнул в сторону. – Опомнись! У тебя мозговая горячка! Деменция! Я еще за ужином приметил…
– Зачем ты вернулся? Зачем? – с болью воскликнул тот.
Бросился было снова на Митю, но Фондорин был начеку – перехватил и больше уже не выпускал.
– Ну, ну, успокойся, – заговорил он медленно, рассудительно, как бы убаюкивая. – Это я, твой старый товарищ. Это мой сын, Самсон. А тебе что померещилось? Много работаешь, себя не жалеешь, вот и надорвал рассудок. Это ничего, я тебя вылечу…
– Зачем ты вернулся? – в отчаянии повторял Мирон Антиохович. – Ты все испортил! Зачем ты вернулся?
– Вернее сказать, почему, – все так же умиротворяюще ответил Данила. – По двум причинам. Дорога через лес оказалась не столь уж узкой и заснеженной. Вполне можно было поехать в санках. А еще я все думал и не мог понять, с чего это вдруг ты решился малому мальчонке свой драгоценный микроскоп дать. Ведь даже родного сына не подпускаешь. Опять же блеск у тебя в глазах был особенный, знакомый мне по медицинским занятиям. Так глаза горят, когда человек вообразит, что он один в здравом уме, а все прочие безумцы и против него сговорились. У тебя припадок, временное ослепление разума…
– Это у тебя ослепление! – бессвязно закричал Мирон. – Ты что, не видишь, кто с тобой? Отыскал сына и радуешься? А где он шатался, знаешь? Спрашивал? Так ведь он правды не скажет! Такого наврет, всякий поверит! Послушай меня! Его истребить надо!
Он рванулся так сильно, что Данила его не удержал, к Мите не подпустил – закрыл собой.
Тогда Любавин кинулся назад, к дому, истошно вопя:
– Эй! Эй! Милиция! Кто на часах? Сюда! В ту же минуту в окнах загорелся свет, наружу выбежали несколько человек с фонарями.
– Бежим! – Данила подхватил Митридата на руки. – Милицейские у Мирона дюжие, шутить не станут.
Понесся огромными скачками по льду, потом через парк.
Сзади слышались крики Любавина:
– Вон там они, вон там! Догнать, схватить, кляпы в рот, обоим!
Ах, как быстро бежал Фондорин – у Мити только ветер в ушах свистел. Откуда у старого человека столько силы?
Перед оградой Данила остановился. Митю просунул между прутьев, сам ухватился за острия копий, подтянулся, спрыгнул вниз.
Долго бежали через снежное поле. Хорошо наст был крепкий, держал. И еще выручила невесть откуда налетевшая метель – подпустила по белому белых завитушек, подхватила беглецов, прикрыла кружевной занавеской.
На опушке леса Фондорин упал в сугроб, привалился к сосне. Перевел дух.
Митю прижимал к себе, чтоб не замерз.
– Ах, горе, ах, беда, – сокрушался Данила. – Один на всю Россию нашелся толковый эконом, крестьянам благодетель, и тот ума лишился. Ты, Дмитрий, на него зла не держи, это не он тебя убить хотел, а его болезнь. Я после непременно к Мирону наведаюсь и вылечу его. Он – живая душа, пускай даже и нездоровая. Ничего, лучше хворая душа, чем когда у человека вовсе нет ни души, ни совести. Это уже не излечишь. Жить без совести всего на свете хуже…
Глава семнадцатая
Кроткая
– …А лучше всего то, что эта курица Инга прямо души в тебе не чает. «Сэр Николас то, сэр Николас се, девочку просто не узнать». Браво, Ника, браво.
Жанна насмешливо похлопала Фандорина по щеке – он отшатнулся.
Они стояли на лестнице вдвоем. Хозяйка ушла на кухню проверить, скоро ли будет готово горячее, попросила Николаса сопроводить «Жанночку» в салон.
Вот он и сопровождал, на еле гнущихся ногах.
– Хорошо, что я тебя тогда не размазала по шоссе, – проворковала истинная Никина работодательница, беря его под руку. – Я чувствовала, что время на тебя потрачено не напрасно, у меня интуиция. – Женственно прислонив голову к его плечу, перешла на шепот. – Сегодня ночью ты сможешь выплатить свой долг. И все, свободен.
– Что именно я должен сделать? – хрипло спросил он.
Это были его первые слова с того момента, как он ее увидел. Когда Инга Сергеевна их знакомила («сэр Николас, Мирочкин гунернер – Жанночка Богомолова, подруга нашего старинного приятеля»), он только сумел заторможенно кивнуть и вяло ответить на рукопожатие. Рука у Жанны была крепкая, горячая; у него – мокрая от холодного пота.
– Помочь моему клиенту получить то, что он хочет, – ответила она.
Подвела спутника к окну, отдернула штору. Мир за ярко освещенным двором и подсвеченной верхушкой внешней стены был черен, и от этого усадьба напоминала большую орбитальную станцию, летящую сквозь космические просторы.
– Ваш клиент – Олег Станиславович Ястыков?
– Какой ты у меня умный, какой сообразительный, ну прямо магистр.
Она хотела снова потрепать его по щеке, но теперь Николас успел отстраниться. Жанна рассмеялась – она вообще пребывала в отличном расположении духа.
– Что они не поделили?
– Ну, на этот вопрос я могла бы и не отвечать, – протянула Жанна, лукаво поблескивая зелеными, египетского разреза глазами. – Но так и быть, отвечу, потому что ты, Ника, у меня паинька и отличник. История, в общем, обыкновенная. Куцему и Олежеку захотелось скушать одну и ту же нняку.
– Что скушать?
– Нняку, – весело повторила она. – Скушать нняку и сделать бяку. Старому другу. Куцый с Олежеком такие старые друзья, что просто люди столько не живут, сколько они дружат. У меня бы такой дружок точно на свете не зажился. Куцый на нняку уже лапу положил, отдавать не хочет. А моему клиенту обидно, вот он меня на помощь и позвал, чтобы я ему в этом помогла. И я помогу, с твоей помощью. Куцый, конечно, дядька бронебойный, не то что ты, но и у него имеется хрупкое местечко. Что характерно – точно такое же, как у тебя. Этакая маленькая точка, как, знаешь, в закаленном стекле: если в нее попасть, пуленепробиваемое стекло рассыпается вдребезги. Точка под названием «дочка».
Снова засмеялась – так ей нравилось собственное остроумие.
– Вы говорите про Миранду? – похолодев, спросил Фандорин.
– А ты знаешь у железного доктора другую болевую точку? – деловито сдвинула брови Жанна. – Подскажи. Ах, ты, должно быть, про горячо обожаемую супругу…
Ничего подобного Николас в виду не имел и ужаснулся самому предположению.
Но специалистка по болевым точкам пренебрежительно скривилась.
– Инга не подходит. Куцый когда-то обожал ее, но это в прошлом. По имеющейся у меня информации, старушка ему поднадоела. Он завел себе на стороне цыпулю, но и та для наших целей тоже не функциональна. Не тянет на болевую точку.
– Какая же Инга старушка? – удивился Фандорин и прикусил язык: получалось, что он все-таки лоббирует госпожу Куценко на роль жертвы.
– Да ей столько же лет, сколько Олежеку и Куцему. Они ровесники-ровесники, девчонки и мальчишки. Одни пели песенки, одни читали книжки. Короче, одноклассники. Что, непохоже? Так ведь Куцый у нас – великий и ужасный Гудвин, Волшебник Изумрудного Города. Что же он, по-твоему, для других старается, а свою женушку забудет? Вон какую куколку вылепил. Только, похоже, надоело ему собственный продукт обожать. Нет, Ника, жена не годится. Нужна дочурка. Вот на ком у Куцего точно крыша съехала.
– Пожалуйста, не называйте меня Никой, – болезненно морщась, попросил он.
В салоне погас свет, и через несколько секунд донесся восторженный гул – наверное, внесли торт со свечками.
– Как скажете, Николай Александрович. – Жанна вдруг сделалась совершенно серьезной. – Если хотите – буду обращаться на «вы». Только смотрите, не задурите в последнюю минуту. Мой клиент ведет очень большую игру, в которой вы даже не пешка, а так, пылинка на шахматной доске. Дуну, и вас не станет. Вместе с вашими болевыми точками.
Она помолчала, чтобы он вник. И Николас вник, опустил голову. Жанна взяла его за локоть, стиснула. Хватка у нее была цепкая, совсем не женская.
– Теперь внимание. Сегодня, когда гости разъедутся, Куценко с женой укатят в Москву. Завтра утром у них важная встреча. Прилетает его партнер, председатель совета директоров фармацевтического концерна «Гроссбауэр». Здесь останутся только двое охранников. Пойдем прогуляемся. Я вам кое-что покажу.
Неспешным шагом она повела его по коридору налево, останавливаясь у развешанных по стенам гравюр. Ничего подозрительного – обычная праздная прогулка. Навстречу шел официант с подносом, уставленным бокалами с шампанским. Жанна взяла один, пригубила. Николасу же было не до вина.
У двери, про которую он знал лишь то, что она ведет на служебную лестницу (как-то не было повода заглянуть), Жанна задержалась. Вынула из сумочки ключ, и через секунду они были уже с другой стороны.
– Так. Теперь наверх, – сказала она. Шагая через две ступеньки, поднялась на третий этаж, без малейших колебаний повернула в один коридорчик, потом в другой, который упирался в дверь с надписью «Мониторная».
Жанна перешла на шепот:
– Ровно в половине шестого утра вы войдете вон в ту комнату. Держите ключ. – В руку Николаса легла магнитная карточка. – Сейчас там сидит охранник, но он уедет вместе с Куценко. Мониторы будут переключены из режима наблюдения в режим автоматической сигнализации. Итак, входите, нажимаете на пульте третью кнопку слева в нижнем ряду. Потом тихонечко выходите и возвращаетесь к себе. Вот и все, что от вас требуется. Запомнили?
– Половина шестого. Третья слева в нижнем ряду, – тоже шепотом повторил он. – А что это за кнопка?
– Она отключает детекторы на одном участке стены. Совсем маленьком, но мне хватит. И все, Николай Александрович, мы с вами будем в расчете. Живите себе дальше, растите своих «зверят».
Они пошли обратно: впереди Жанна, сзади бледный Фандорин.
На лестнице он тихо спросил:
– Вы собираетесь похитить девочку? Что с ней будет?
– Ничего ужасного. – Жанна подняла палец, приложила ухо к двери, прислушалась. – Можно. Выходим.
Вот они уже снова шли по ковру. Остановились перед гравюрой с изображением какой-то парусной баталии.
– Ничего с вашей ученицей не случится, – повторила Жанна. – Если, конечно, Куцый не окажется монстром, для которого деньги важнее единственной дочери.
– Нет, – покачал головой Ника, желая сказать, что не сможет выполнить ее задание. Она удивленно посмотрела на него.
– Что «нет»? Вы думаете, что он недостаточно хороший отец? – И после паузы добавила, с угрозой. – Или это вы недостаточно хороший отец?
– Не считайте меня идиотом. Как только я исчерпаю свою полезность, вы меня убьете.
Его слова почему-то снова привели ее в легкомысленное настроение.
– Ну и что? – прыснула она. – Зато ваши дети останутся живы. – И тут уж прямо зашлась в смехе. – А может, еще и не стану вас убивать. Зачем? Разве вы мне опасны? Только знаете что, на вашем месте я бы убралась куда-нибудь подальше. Знаете, какие они, чадолюбивые отцы? Если Куцый раскопает, как все произошло, он вам сделает хирургическую операцию. Без наркоза. Отсмеявшись, Жанна сказала:
– Все, пойду, а то Олежек взревнует. Пока, папаша.
И удалилась, грациозно покачивая бедрами.
Николас же прижался лбом к стеклу гравюры и стоял так до тех пор, пока не услышал голоса – еще кому-то из гостей вздумалось полюбоваться старинными картинками.
Это был еле переставляющий ноги старик со смутно знакомым лицом – кажется, академик, чуть ли не нобелевский лауреат. Его поддерживала под руку моложавая, ухоженная дама. Не иначе, еще одна пациентка Мирата Виленовича, рассеянно подумал Фандорин, скользнув взглядом по ее гладкой коже, вступавшей в некоторое противоречие с выцветшими от времени глазами.
Но заинтересовала его не женщина, а старик. На девяностолетнем лице, покрытом возрастными пятнами, застыла несомненная гиппократова маска – песочные часы жизни этого Мафусаила роняли последние крупицы. Через считанные месяцы, а то и недели дряхлое сердце остановится. А все-таки он меня переживет, подумал Николас и содрогнулся. В то, что Жанна отпустит опасного свидетеля, он, конечно же, не поверил.
Но речь шла даже не о собственной жизни, с ней все было ясно. Главное, что Алтын и детей оставят в покое. Зачем они Жанне?
Разве не за это ты хотел биться, когда рвался на эшафот, спросил себя Фандорин. Радуйся, ты своего достиг. Твой маленький мир уцелеет, пускай и без тебя.
Николас пошел к себе. Метался между четырех стен и думал, думал. Не о том, что скоро умрет, это его сейчас почему-то совсем не занимало. Терзания были по другому поводу – схоластическому, для двадцать первого века просто нелепому.
Что хуже: спасти тех, кого любить, погубив при этом собственную душу, или же спасти свою душу ценой смерти жены и детей? В сущности, спор между большим и маленьким миром сводился именно к этому.
Во дворе то и дело взрыкивали моторы – это разъезжались гости, а магистр все ходил из угла в угол, все ерошил волосы.
Хорошее у меня получится спасение души, вдруг сказал он себе, остановившись. Оплаченное гибелью Алтын, Гели и Эраста.
Странно, как это он до сих пор не взглянул на дилемму с этого угла зрения.
Ну, значит, нечего и терзаться.
Дожидаемся половины шестого, совершаем гнусность, которой не выдержит никакая живая душа, но мучаемся после этого недолго, потому что долго мучиться нам не дадут.
Раз угнездившись, фальшивое бодрячество его уже не оставляло. Николас выглянул в окно, увидел, что во дворе остались только машины хозяев да джипы охраны, и был осенен еще одной идеей, гениальной в своей простоте.
А не надраться ли?
Конечно, не до такой степени, чтоб валяться на полу, а так, в меру, для анестезии.
Идея была чудесная, реальный супер-пупер. Ах, Валя, Валя, где ты?
Фандорин поднялся на второй этаж, где прислуга убирала следы пиршества. Налил себе полный фужер коньяку. Выпил. Решил прихватить с собой всю бутылку.
Еще пара глотков, не больше. Не то, упаси боже, кнопки перепутаешь. Тогда совсем кошмар: и душу погубишь, и семью не спасешь.
Он вышел из салона в коридор, взглянул на стенные часы. Без трех минут два. Господи, как долго-то еще.
Хотел отвернуться к окну, чтобы видеть перед собой одну только черноту ночи, но краешком глаза зацепил какое-то движение.
Повернулся – и замер.
На козетке, между двумя пальмами, спала Миранда.
Подобрала ноги, голову положила на подлокотник, светлые волосы свесились до самого пола. Должно быть, умаявшаяся именинница присела отдохнуть после ухода гостей и сама не заметила, как задремала.
У всякого спящего лицо делается беззащитным, детским. Мира же и вовсе показалась Николасу каким-то апофеозом кротости: тронутые полуулыбкой губы приоткрыты, пушистые ресницы чуть подрагивают, подрагивает и мизинец вывернутой руки.
Фандорин смотрел на девочку совсем недолго, а потом отвернулся, потому что подглядывать за спящими – вторжение в приватность, но и этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы понять: никогда и ни за что он не станет нажимать на третью слева кнопку в нижнем ряду. Безо всяких резонов, терзаний и рефлексий. Просто не станет и все. А уж потом когда-нибудь, если это «когда-нибудь» настанет, объяснит себе, что первый и главный долг человека – перед своей душой, которая, нравится нам это или нет, принадлежит не маленькому миру, а большому.
Выпил коньяк залпом, неинтеллигентно крякнул и, топая чуть громче, чем нужно, отправился на хозяйскую половину, к Мирату Виленовичу, пока тот не уехал. Объясниться как отец с отцом.
Господин Куценко сидел в кабинете, дожидался, пока переоденется супруга. Смокинг уже снял, был в вельветовых штанах, свитере. Появлению гувернера удивился, но не слишком. Непохоже было, что этот человек вообще умеет чему-либо сильно удивляться.
– Еще не спите, Николай Александрович? – спросил он. – Хочу вас поблагодарить. Мирочка вела себя просто безупречно. Все от нее в восторге. А главное – она поверила в свои силы. Я знаю, как ей было тяжело, но девочка она с характером, перед трудностями не пасует.
Вот как? Оказывается, этот небожитель наблюдателен и затеял прием неспроста.
Тут взгляд чудо-доктора устремился куда-то вниз, брови слегка поднялись. Николас спохватился, что так и не выпустил из руки бутылку.
– Не думайте, я не пьян, – отрывисто сказал он и запнулся.
Куценко его не торопил. Перед Миратом Виленовичем стояла шахматная доска – он коротал время, не то разрабатывая партию, не то изучая какой-то мудреный этюд. Ну разумеется – самое естественное хобби для интровертного человека незаурядных интеллектуальных способностей.
– Не уезжайте, – наконец справился с волнением Фандорин. – Нельзя. Мирочка, то есть Миранда в опасности. Я… я должен вам кое-что рассказать. Только не перебивайте, ладно?
Мират Виленович не перебил его ни разу, хотя говорил Николас сбивчиво и путано, по несколько раз возвращаясь к одному и тому же. На рассказчика Куценко смотрел только в первую минуту, потом, словно утратив к нему всякий интерес, уставился на доску с фигурами. Даже когда исповедь закончилась, доктор не подал виду, что потрясен услышанным. Сидел все так же неподвижно, не сводя глаз с клетчатого поля.
Фандорин был уверен, что это ступор, последствие шока. Но минуты через полторы Мират Виленович вдруг взял коня и переставил его на другое поле, сказав:
– А мы на это вот так.
– Что? – переспросил Николас.
– Гарде конем, – пояснил Куценко. – Белые вынуждены брать, и моя ладья выходит на оперативный простор.
Магистр смотрел на железного человека, не зная, что и думать. А тот внезапно порывистым движением сшиб с доски фигуры, вскочил и отошел к окну. Значит, все-таки не железный.
Мират Виленович стоял так еще несколько минут, держа стиснутые кулаки за спиной. Николас смотрел, как сжимаются и разжимаются длинные пальцы хирурга. Сам помалкивал, не мешал человеку обдумывать трудную ситуацию.
– Ну вот что, – сказал Куценко совершенно спокойным тоном, обернувшись. – Первое. Я высоко ценю вашу откровенность. Понимаю, чего вам стоило прийти ко мне. И скажу только одно: вы не пожалеете о своем решении. С этого момента я беру вас под свою защиту. И вообще… – Он смущенно закашлялся – видно, не привык говорить эмоционально. – Я не люблю расширять свой ближний круг, потому что считаю себя человеком ответственным. В том смысле, что за каждого из близких мне людей я отвечаю. Полностью – всем, что имею. Так вот, Николай Александрович, считайте, что вы в этот круг вошли. И все, хватит об этом. – Он поднял руку, видя, как взволнованно задрожали губы собеседника. – Давайте я введу вас в курс проблемы, а потом уж будем принимать конкретные решения. Садитесь.
Они сели в кресла друг напротив друга.
– Значит, мы оба – и я, и Ястыков – были приговорены к смерти какими-то полоумными «мстителями»? Референты наверняка выкинули бумажку с идиотским приговором, не придали ей значения. Сумасшедшие мне пишут довольно часто. Но я выясню. Когда, вы говорите, это было?
– Сейчас. Я переписал с листка в записную книжку. Вот: директор АО «Фея Мелузина», приговор вынесен 6 июля и в тот же день вручен.
– Угу. – Мират Виленович тоже достал маленькую кожаную книжечку с золотым обрезом, сделал пометку. – Что ж, логическая цепочка очевидна. В отличие от меня, Ясь отнесся к приговору серьезно, поручил этой своей Жанне разобраться. Какие у них все-таки, по-вашему, отношения? Кто они: любовники или заказчик и исполнительница?
– Разве одно исключает другое?
– У серьезных людей безусловно. А судя по вашему рассказу, Жанна Богомолова или как там ее на самом деле – профессионал экстра-класса.
– Тогда заказчик и исполнительница. Она называла его «клиентом».
– Ясно. Жанна вышла на вашего странного посетителя, этого, как его… – Шибякина.
– Да, Шибякина. Через него на вас, решив, что вы тоже имеете отношение к «мстителям». Да вы еще и укрепили ее в подозрениях, сначала слишком быстро установив личность Шибякина, а потом прислав в офис «Доброго доктора Айболита» факс с предостережением. Говорите, мне тоже прислали? Я не видел – был в Германии, а секретарша, должно быть, опять не придала значения. Но вернемся к Жанне. Она обязана была разобраться, что вы за фрукт. Ну, а когда разобралась, решила найти вам применение… – Мират Виленович невесело улыбнулся. – «Болевую точку» она вычислила безошибочно, отдаю должное профессионализму. Найти дочь, после стольких лет… Только для того, чтобы… – Он покашлял, справляясь с голосом, и сдержанно закончил. – Разумеется, ради спасения Миранды я отступился бы от «Ильича». Нет вопросов.
– От кого? – моргнул Николас. – От какого еще Ильича? Неужели…
– Да нет, Владимир Ильич тут ни при чем, – усмехнулся Куценко. – И идеология тоже. «Ильич» – это Ильичевский химкомбинат. Слышали про такой? Нет? Ну как же, это последний из гигантов советской фармацевтической индустрии, остававшийся неприватизированным. Там производят снотворное и некоторые психотропы, поэтому по закону производство должно было оставаться в ведении государства. Но недавно регламентация была пересмотрена, и продукцию «Ильича» вывели из категории сильнодействующих препаратов. Объявлен тендер на покупку контрольного пакета. Претендентов набралось с полдюжины, но серьезных только двое: Ясь и я. Вот вам и подоплека всего этого триллера с киднеппингом.
– То есть «Неуловимые мстители» здесь вообще ни при чем? – Фандорин растерянно перелистал записную книжку с именами приговоренных. – Но ведь кто-то убил этих… Зальцмана, Зятькова.
– Да, и теперь я отнесусь к этой угрозе самым серьезным образом. Но психи психами, а бизнес бизнесом. Господин Ястыков отнюдь не сумасшедший, можете мне поверить. Мой заклятый враг и распоследняя гнида – это да.
В устах сдержанного доктора эти слова были настолько неожиданны, что Николас дернулся.
– Этот человек всю жизнь стоял у меня поперек дороги, – тусклым от ярости голосом проговорил Куценко. – Никогда не забуду, как… Ладно, оставим детские травмы в прошлом. Лучше давайте о настоящем.
Поиграл желваками, как бы дожевывая остатки эмоций. Снова сделался сух, деловит.
– Вы не представляете, что значит эта сделка. Не только лично для меня. Для всей страны, уж простите за пафос. Понимаете, у нас практически отсутствует фармацевтическая промышленность. Во времена социалистической интеграции за производство лекарств отвечали Венгрия и Польша, что-то закупалось в Индии, в счет уплаты государственного долга. Оригинальных препаратов у нас не изготавливали вовсе, одни дженерики – ну, копии зарубежных лекарств. На разработку нового оригинального лекарственного средства нужно потратить лет десять исследований и сотню-другую миллионов долларов. Нашему государству это не под силу, частным производителям тем более. Если же мне удастся купить Ильичевский комбинат, наша фармацевтика вступит в новую эру. У меня есть инвестор, германский концерн с мировым именем, готовый вложить в модернизацию «Ильича» и разработку оригинальных препаратов четверть миллиарда. Представляете, что это будет? На отечественной производственной и научной базе, собственными силами мы начнем изготавливать новые лекарственные продукты, не имеющие аналогов, а стало быть, конкурентоспособные на мировом рынке! Впервые с незапамятных времен. Вы только вдумайтесь!
Николас попробовал вдуматься, но особенного впечатления эта перспектива на него не произвела. Какая разница, где произведены лекарства? Были бы хорошими да не слишком дорогими, и ладно. Патриотизм Мирата Виленовича безусловно вызывал уважение и сочувствие, но гораздо больше Фандорина сейчас волновала судьба семьи и, что уж геройствовать, своя собственная. Все же из вежливости он спросил:
– А чем это не устраивает Ястыкова?
– У Яся другие планы, – мрачно сказал Куценко. – Чтоб было понятней, я вам коротенько расскажу, что это за персонаж.
У нас в классе он был, как теперь сказали бы, неформальным лидером. Смазливый мальчик, спортивный, во всем заграничном – папа у Яся был выездной, а впоследствии и номенклатурный. Учился Ясь в медицинском, как и я. Не потому что хотел стать врачом, а потому что его папаша ведал импортом лекарств во Внешторге. Пристроил туда же и сынулю. Пока я просиживал над учебниками, ассистировал на операциях, торчал на ночных дежурствах, Ясь разъезжал по миру. Торговал отечественной гомеопатией, закупал лекарства. И по этой части завязал активнейшие, прямо-таки дружеские контакты с некоторыми колумбийскими компаниями. Соображаете, к чему я клоню?
– Наркотики?
– Естественно. Тут как раз Советский Союз развалился. Бардак, безнадзорность, самое время половить рыбку в мутной воде. И Ясь оказался отличным рыбаком. Пока бизнесом заправляли бандиты, вел себя тише воды ниже травы. Потом, когда одних бандитов перестреляли, а других пересажали, как-то само собой вышло, что Олег Станиславович из консультанта, посредника, полезного «пацана» превратился в самостоятельного авторитетного предпринимателя. Умеет за себя постоять, на хвост наступать не дает. Опять же с большущими связями, от Кремля до Медельина. Сеть круглосуточных драгсторов «Добрый Доктор Айболит» ему для чего понадобилась, знаете? Думаете, аспирином и газировкой торговать?
До сего момента именно так Николас и думал, но тон вопроса явно предполагал отрицательный ответ, и потому Фандорин покачал головой.
– Правильно. Какой доход от газировки? У Яся свой проект, существенно отличающийся от моего, но тоже завязанный на тендер по «Ильичу». На мощностях комбината он сможет развернуть массовое производство «суперрелаксана». Слыхали про такой чудо-препарат?
– Нет.
– А между тем о нем много пишут и говорят. Волшебное снадобье, изобретенное отечественными гомеопатами на основе древесных грибов. Незаменимое средство от неврозов, мигрени, депрессивных состояний, абстинентного синдрома. Разработано научно-исследовательским центром фирмы «ДДА». Средств на пиар Ясь не жалеет. На лоббирование тоже. «Суперрелаксан» блестяще прошел испытания, получил лицензию и рекомендован к безрецептурному применению. Средство и в самом деле уникальное: быстрого действия, без каких-либо побочных эффектов. Кроме одного… – Куценко сделал паузу. – Я потратил полтора миллиона на собственное исследование свойств «суперрелаксана». Обнаружилось, что у людей, склонных к медикаментозной зависимости, эти таблетки со временем создают стойкое привыкание.
– Это что, наркотик?
– Да. Медленно действующий, так что поначалу нет никаких тревожных симптомов, но мощный, очень мощный. По мере привыкания к «суперрелаксану» и увеличения дозировки круг интересов реципиента сужается, подавляется регенеративная способность, развивается апатия. Наладив массовое производство, Ясь собирается развернуть бешеную рекламную кампанию. В течение первого года таблетки будут очень дешевы. Со второго года, когда включится механизм привыкания, цены на «суперрелаксан» постепенно начнут расти. К тому времени и драгсторы как раз расползутся по всей России. Розовая мечта любого предпринимателя – замкнутый цикл от добычи сырья до розничной торговли. Мой старый дружок задумал всю страну на «колеса» подсадить. Такой вот у него бизнес-проект.
– Но почему вы не обнародуете результаты своих исследований? – воскликнул Фандорин. – Об этом же нужно кричать, бить в колокола!
Мират Виленович снисходительно улыбнулся:
– Свобода слова, Николай Александрович, это когда один кричит одно, другой противоположное, и кто громче орет, тому больше верят. Здесь мне за Ясем не угнаться – он начал орать много раньше и преуспел много больше. Нет, в колокол звонить я не буду. Я ведь не звонарь, а хирург. И решу эту проблему как привык – с помощью скальпеля. А вы мне поможете, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Ведь поможете?
– Конечно! Если смогу…
– Ну вот и отлично. Работаем. Куценко нажал кнопку интеркома.
– Игорек? Бери Ходкевича и живо ко мне. Тут одну задачку надо порешать.
И минуту спустя начался военный совет, но с участием не двух голов, а четырех. Кроме хозяина дома и Фандорина в совещании приняли участие Игорек, секретарь Мирата Виленовича, и Павел Лукьянович Ходкевич, управляющий усадьбой.
Ситуацию изложил сам Куценко – бесстрастно, кратко, будто в самом деле речь шла о шахматной задачке. По времени эта сводка была раз в шесть короче, чем многословное признание Николаса, а по информативности содержательней, потому что, когда в завершение Мират Виленович спросил:
«Вопросы есть?», таковых у слушателей не оказалось, только управляющий почесал стриженную ежиком макушку и инцестуально выругался.
– Вопросов нет, значит, исходные условия понятны, – констатировал главнокомандующий. – Тогда предложения. Игорек, ты что это рисуешь?
– Схему, Мират Виленович. Сейчас, подождите, пожалуйста, минуточку. Диспозиций без карты не бывает.
Человек-гора говорил мягким, рассудительным голосом мальчика-отличника, плохо сочетавшимся с богатырской статью. Ах да, он ведь учился в Америке, вспомнил Николас и не удержался, спросил:
– Игорь, а какой университет вы заканчивали?
– Уэст-Пойнт, – ответил секретарь, старательно обводя какие-то детали рисунка красным фломастером. – Вот, прошу.
Все склонились над схемой, изображавшей усадьбу и ее окрестности.
– Предложение сводится к следующему. В четыре ноль ноль «мерседес» и два джипа выезжают из ворот. Пустые, с одними шоферами. Личный состав скрытно выдвигается сюда и сюда, в засаду. В пять тридцать господин Фандорин, согласно полученной инструкции, отключает двенадцатый датчик, расположенный вот в этом секторе. Противник проникает через этот квадрат на территорию и попадает под перекрестный огонь с позиций, обозначенных цифрами 3,4 и 5. Не уйдет ни один, гарантирую.
Диспозиция выглядела впечатляюще, но оценка Мирата Виленовича была саркастической:
– Ты что, Игорек, штангу перекачал? Давай, устрой мне тут разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Плакал тогда мой тендер. Нет уж, господа хорошие, обойдемся без пальбы. А что ты скажешь, Лукьяныч?
Управляющий пососал висячий ус, хитро прищурился.
– А шо я вам ховорил, Мират Виленовитш? Кохда датшу обустраивали, помните? Вы мне: затшем нам туннель, шо за хлупости? А я вам: подумаешь, двести тышщ, а мало ли шо? Пускай вже будет. Хто прав-то оказался, а? Нынтше туннельтшик в самый раз сгодится.
– Ну-ну, – поторопил его Куценко. – Ближе к делу.
Управляющий ткнул прокуренным пальцем в схему:
– Та вот. Девотшку отправим туннельтшиком к рэтшке. Вот тутотшки выйдет, к притшалу. Там у меня катеротшек, всегда на ходу. А вы с Ингой Сергеевной и хлопцамы ехайте себе в Москву, как ни в тшом не бывало. Пустые машины пускать нельзя, могут прыборами нотшного видения просветить. В полшестого те псы в дом залезут, а тут пустэнько. Птитшка улетела.
– Отличный план, – сразу сказал Мират Виленович. – Просто превосходный. Эвакуируем Миру катером. Потом в мой самолет и на Тенерифе. – Он обернулся к Фандорину. – Вы, Николай Александрович, с семьей тоже полетите. Позагорайте там, пока я разрулю ситуацию с Ясем. Он играет не по правилам, а за это придется отвечать. Потом сможете вернуться. Ты (это уже Игорьку) дашь в сопровождение Николаю Александровичу и Мире двух ребят, потолковей. Во-первых, пусть доставят Мирочку в аэропорт – там встретят. А во-вторых, пусть заберут семью Николая Александровича, там за квартирой может быть слежка. Секретарь кивнул.
– Лукьяныч, тебе тут придется туго, – продолжил Куценко. – Мадам Богомолова обидится, что ее переиграли, может впасть в истерику. Поэтому никакого сопротивления, никакого героизма.
– А я шо, – развел руками Ходкевич. – Спросят – скажу: так, мол, и так. Как гости уехали, англытшанин побежал к хозяину в кабинет, заперлись они там тшего-то. Потом все забэгалы, поразъихалысь. Я завхоз, тшеловек маленький, за полотэнца ответшаю. Ну, дадут пару раз по ушам, а убывать не станут.
Главнокомандующий посмотрел на часы.
– Так. Сейчас без пяти три. Выезжаем в четыре, как собирались. Без суеты, без спешки. Пойду, поговорю с Мирочкой. Объясню, что и как.
В дверь кабинета дробно, одними ноготками, постучали. Не дожидаясь отклика, вошла улыбающаяся Инга Сергеевна – в джинсах, кардигане, волосы стянуты на затылке в конский хвост.
Увидев, как сосредоточенны и хмуры мужчины, хозяйка тоже переменилась в лице.
– Что такое, Мират? Случилось что-нибудь?
– Тебе все расскажет Николай Александрович. Игорек, Лукьяныч, за дело. Ничего, милая, все обойдется.
Он коротко поцеловал жену и пошел к выходу. На пороге повернулся к Фандорину:
– Говорите все. У меня нет от Инги секретов.
А «цыпуля» на стороне, мысленно спросил Ника. Ладно, не мое дело. И вздохнул, но не по поводу супружеской неверности Мира-та Виленовича, а в предчувствии тяжкой беседы с неминуемыми охами, вскриками и, наверное, даже слезами.
Слава богу, догадался в самом начале налить даме коньяку – вот когда бутылка-то пригодилась. И потом, как только замечал, что у Инги Сергеевны расширяются глаза или начинает дрожать подбородок, сразу же подливал еще. Госпожа Куценко послушно выпивала бурую влагу, на время успокаивалась. Так, при помощи коньяка, и добрались до конца триллера.
Николас и сам пару раз приложился, прямо из горлышка – сейчас было не до церемоний. Когда же в бутылке обнажилось донышко, Инга (отчество, как и дурацкое «сэр» и процессе беседы отпали самим собой), достала из стенного бара бутылку ирландского виски.
К тому моменту говорила уже она, а Ника слушал, не перебивал. Чувствовал, что женщине необходимо выговориться, да и рассказ, на первых порах не особенно увлекательный, постепенно набирал красочности и драматизма.
– Мират вам про бизнес объяснил, – начала Инга, глядя, как в бокале посверкивают янтарные искорки. – Только бизнес тут не все… И не главное. То есть, с мужской точки зрения, возможно, и главное, но у нас, женщин, другие представления о том, что важно, а что нет. Я вам сейчас один секрет открою. Мы трое – Мират, Ястыков и я в одном классе учились. Да-да, лет мне уже ого-го сколько. (Здесь Фандорин, как и требовалось, изумился, хотя этот «секрет» ему уже был известен.) Ну, как говорится, за молодость и красоту. (Чокнулись, выпили.) Так что с детства друг друга знаем. С пятого, что ли, класса. Или с шестого. Яся родители из-за границы привезли. Все у него было иностранное, с наклейками. Ластики, кроссовки, фломастеры там всякие – это же по тем временам редкость была. К тому же он был красавчик, уже тогда. А Мират был очкарик, зубрила. Щупленький, некрасивый заморыш. И кличка соответствующая – Куцый. По мне сох, но я дурочка была, как все девчонки. Мне нравились мальчики, похожие на Олега Видова или Николая Еременко. Чтоб высокие, плечистые. А Куцего я гоняла, потешалась над ним, и иногда довольно жестоко… Ясь тоже его шпынял. По-моему, иногда даже поколачивал – не со злобы, больше для развлечения. А через пару лет, как подросли, начались у нас в классе романтические приключения. Я влюбилась в Яся – просто по уши. Конечно, хотелось и девчонкам нос утереть, они все по нему сохли. В конце девятого класса, после школьного вечера (они тогда назывались «огоньки»), пригласил он меня домой. Родители его отсутствовали, уехали куда-то. Ясь завел «Джизус Крайст суперстар», я выпила ликера, ну и, в общем, как говорили в советских фильмах, у нас было. За любовь? (Выпили за любовь.) Ну, было и было. Ничего ужасного, даже мило. Гормоны, влюбленность, то-се. Только Ясю мало было девочку дефлорировать, ему еще похвастаться перед приятелями хотелось. И вот на следующий день (я сама этого не видела, после рассказали) стоит он на переменке, перед прихлебателями своими выставляется, а мимо Мират идет. Про то, что он мой давний, безнадежный воздыхатель, все знали. Ясь, сволочь, поворачивается к нему и как запоет:
«Косил Ясь конюшину, косил Ясь конюшину». И руками делает похабные движения. Что, не помните? Ах, да, вы же англичанин. Шлягер такой был советский, ансамбль «Песняры». А у меня же фамилия девичья Конюхова. Дружки Яся так и грохнули, а Мират, когда сообразил, о чем речь, кинулся на Яся с кулаками. Была жуткая драка. Мират, конечно, получил по первое число. Потом на разбирательстве у директора молчал, отказывался говорить, за что набросился на одноклассника. За хулиганство вылетел из школы – тут еще и Ясев папаша руку приложил. Доучивался Мират в вечерке, днем работал санитаром в больнице. А поступил в тот же медицинский, куда Яся пристроил папа. Мират нарочно выбрал профессию врача, сам мне потом признавался. Хотел поквитаться. Мечтал, что станет звездой медицины, а ничтожество Ястыков будет ему халат подавать. Мират он знаете какой целеустремленный. Выпьем за него, хорошо? (Выпили за Мирата Виленовича.) В институте они, по-моему, уже не общались. Факультеты были разные, да и тусовки тоже: у одного «мажоры», у другого «зубрилы». Только зря Мират верил, что для медицинской карьеры достаточно только знаний и таланта. Ясь врачом становиться и не собирался, еще до поступления знал, что папа его пристроит в «Медимпорт». Но это ладно, про это вам наверняка Мират говорил. Давайте я вам лучше расскажу, как мы поженились… В девяностом, то есть после школы сколько прошло – лет восемнадцать, что ли? Нет, семнадцать. В общем, полжизни. А тогда казалось, вся жизнь уже позади. Встречаю Мирата – случайно, возле работы. То есть это я думала, что случайно, а встречу-то, конечно, он подстроил. Помнил меня все эти годы, любил. Ждал своего часа и решил, что пора, что дождался. У меня был жуткий период, просто кошмар. Только-только развелась со вторым мужем. Он такая мразь оказался! Поехал в командировку, в Америку (он гебешник был), и дал деру, выбрал свободу. Деньги из Народного банка все снял, умудрился даже втихаря московскую квартиру продать (я у матери была прописана). И все, финиш. Я без мужа, без денег, без собственного дома, без нормальной работы. Раньше-то я думала, что красавица – это такая профессия, хлебом с икрой всегда обеспечит. А тут тридцать четыре года, вокруг полно красавиц помоложе и пошикарней, и какая там икра, на хлеб еле хватает. И вот встречаю Мирата. Его просто не узнать. Солидный, дорого одет, на «мерседесе». Это тогда еще редкость была, ведь девяностый год. Зашли в ресторан. Выпили, вспомнили школу. Я чувствую – не перегорело в нем. Так смотрит, так молчит! Женщины это сразу видят. Рассказал, что неженат, мол, некогда было, а взглянул, словно хотел сказать «и не на ком». Руку погладил – осторожненько так, будто боялся, что я свою отдерну. Я и подумала: почему нет? Человек столько лет меня любит! Большое ли дело, а ему потом будет что вспомнить. И поехала к нему. У него квартира была – что там бывшая мужнина на Кутузовском. Два этажа, наборный паркет, камин. Мне показалось, прямо дворец. Сели на диван, стали целоваться. Он весь дрожит от счастья, мне лестно. Вдруг, когда уже потянулся лифчик расстегивать, замер – смотрит в упор мне на шею. «Это, говорит, что у тебя? Давно?» А у меня вот здесь родинка была. Я удивилась. Говорю: «Лет десять уже, а что?» Он вдруг к лифчику интерес утратил, давай другие мои родинки разглядывать: под ухом, на виске. «Вот что, говорит, Инга. Едем-ка в клинику. Не нравится мне это». Представляете? Столько лет мечтал об этом моменте, а тут вдруг «едем в клинику»… Налейте-ка. До сих пор, как вспомню, мороз по коже… Короче, начался кошмар: анализы, УЗИ, рентгены. А времени нет, упущено время. Господи, сколько я пережила! Если б не Мират, наверно, рехнулась бы. Он все время был рядом, и не приставал, с нежностями не лез. Хотел меня сначала в Австрию отправить, на операцию. Деньжищи, по тем временам, сумасшедшие, собрал. А потом говорит: «Нет, не пущу. Спасти они тебя, может, и спасут, но все лицо изуродуют. Здесь резать буду, сам. Сам же после и залатаю. У меня методика новая, революционная». Он тогда был хирургом широкого профиля, но уже готовился уйти в косметологию. Я ему, как Богу, верила. Больше, чем в каких-то там австрийцев… И правильно делала. Вытащил он меня – можно сказать, с того света. Лицо все искромсал, лимфатические узлы удалил, яичники вырезал – это называется гормональная профилактика. Но спас. И все время, пока я без лица жила – долгих пять месяцев – тоже был рядом. И любил – не меньше, чем когда я красавицей была. Если хотите знать, именно тогда у нас с ним отношения и начались. И уж безо всякого снисходительства с моей стороны, а с благодарностью, со страстью, с любовью. Вот когда я поняла, что такое настоящая любовь. За это я больше всего Мирату благодарна, еще сильней, чем за спасенную жизнь или за возвращенную красоту. Что там – возвращенную. Когда он на мне свою методу испробовал, я стала куда краше, чем в юности. Да вот, смотрите сами.
Инга взяла с письменного стола фотокарточку в рамке. Снимок был старый, черно-белый. Судя по белому фартуку, увеличенный с выпускной фотографии.
Не такая уж десятиклассница Конюхова была и красотка. Обычное девичье личико. Правда, не кукольное, как теперь, а живое.
За разглядыванием карточки Нику и застал хозяин.
– А, – сказал он. – Реминисценции?
Отобрал у Инги недопитый бокал.
– Все, милая, все. Больше не пей. И плакать не надо. – Наклонился, снял с ее лица губами слезу. – Пора ехать.
Она всхлипнула, поцеловала ему руку, а Фандорин с грустью подумал: какая сильная, долгая была любовь, но и она кончилась. Сначала любил он – год за годом, без надежды на взаимность. Теперь любит она, и тоже безответно. Очевидно, Куценко из того разряда людей, которые, добившись поставленной цели, теряют к ней интерес. Разве Мират Виленович виноват в том, что у него такое устройство? Внешне ведет себя безупречно, спасибо и на том.
– Николай Александрович, ваш саквояж уложен. Мира и охранники ждут в подвале. Спасибо вам.
Куценко пожал Фандорину руку – крепко, да еще сверху прикрыл другой рукой.
– Ну, с Богом.
Подземным ходом шли так: впереди охранник, потом Николас с девочкой, потом второй охранник. Туннель был бетонный, с тусклыми лампочками под потолком, ничего романтического. Незаменимая вещь для жилища олигарха, молодец Павел Лукьянович.
Мира переоделась в джинсовый комбинезон и куртку, повязала голову банданой и в этом наряде казалась совсем ребенком. Была она притихшая, напуганная, все жалась к Фандорину, так что пришлось обнять ее за худенькое плечо.
Так они прошли метров двести или, может, триста и оказались перед низенькой металлической дверью с рулеобразной ручкой.
Первый охранник повернул колесико, выглянул в темноту. Подождал, прислушался, махнул рукой: можно.
После электрического света, даже такого слабого, ночь показалась Николасу не правдоподобно черной – ни огонька вдали, ни звездочки в небе.
Пахло холодной водой, сухими травами, пылью.
– Фонарь включать не буду, – шепнул охранник. – Сейчас глаза привыкнут, спустимся к причалу. Дверь закройте, свет!
Щелкнул металл. Николас оглянулся и не увидел никакой двери – во мраке проглядывал только крутой склон, покрытый дерном.
Выход из туннеля был закамуфлирован безупречно.
– Саня, спускайся пер… – начал говорить тот же охранник, но в темноте что-то чмокнуло, и он поперхнулся.
Голова его бешено дернулась назад, потянула за собой тело, и оно повалилось на прибрежный песок.
В ту же секунду чмокнуло еще раз, и второй телохранитель тоже упал.
Николас опустился на четвереньки, приподнял парню голову и воскликнул:
– Саша! Что с вами?
Но Саша был неподвижен, и изо рта у него, булькая, текла кровь – точь-в-точь, как тогда у капитана Волкова.
Мира отчаянно завизжала, но сразу же подавилась криком, потому что с двух сторон вспыхнули сильные фонари. Остолбеневший Николас увидел в ярком электрическом свете женскую фигуру с длинной трубкой в руке.
– Молодцом, Ника, – раздался спокойный, насмешливый голос. – Все исполнил, как надо. Девчонку на катер, да чтоб не шумела. Могут услышать. Этих двух суньте в туннель.
– Гад! – закричала Мира. – Сволочь!
Преда…
Но крик перешел в мычание – ей заткнули рот, куда-то поволокли.
Жанна медленно приближалась. Черная трубка покачивалась в ее руке.
– Ах, как ты предсказуем, Никочка. Побежал душу облегчить? Какой я дала пас на ворота, а? А гол забил Лукьяныч, ему за это хорошие бабки заплачены.
Фандорин хотел подняться, чтобы принять смерть стоя, но передумал. Какая разница? Такому идиоту в самый раз подохнуть на четвереньках.
– Что зажмурился? – хохотнула Жанна. – Помирать собрался? Нет, рано. Вы мне, Николай Александрович, еще понадобитесь. Должок-то за вами остался. Самое интересное у нас начнется завтра. Или Куцый будет паинькой, или его дочурку унесут на кладбище.
Николас открыл глаза, не испытывая никакого облегчения оттого, что смерть откладывалась.
Все пропало. Он проиграл все, что только можно. И Миранду погубил, и своих, похоже, не спас. Уж Миранду-то наверняка…
Будет Куценко паинькой или не будет – все равно…
В одеревеневшей от шока и коньяка голове ворочались бессвязные, неповоротливые мысли. На кладбище. Завтра. Унесут. Как воина, четыре капитана.
И кто же я буду после этого? Или, вернее, что? Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?
Глава восемнадцатая
Коварство и любовь
– Это мы завтра решим, – ответил Данила на жалобный Митин вопрос и прикрыл рукой глаза от низко летящего снега. – И как нам дальше быть, и как до Москвы добираться. А до завтра, уважаемый Дмитрий Алексеевич, еще дожить нужно. Ты почти что нагишом. Я, как видишь, тоже одет по-комнатному. Окрест только любавинские деревни.
Нас там вряд ли обогреют, скорее донесут в милицию. Не странно ли? Один безумец наделен властью над многими здравомыслящими людьми, и никто из них не осмелится ему перечить. Не так ли устроены и многие иные, гораздо более обширные царства? – Фондорин хотел произнести еще какую-то сентенцию, но ему в открытый рот попал целый комок пушистого снега, и он сплюнул. – Однако нужно уносить ноги, пока метель. Сейчас проскользнем лесом, потом выйдем на дорогу и направим стопы в сторону Клина. Если судьба нам улыбнется, заночуем в какой-нибудь деревеньке, пускай не столь благоустроенной, как Миронов рай, зато безопасной.
– Не дойти нам, – всхлипнул Митя, стуча зубами. – Замерзнем. Ни шубы, ни даже плаща…
Он был в камзоле, коротких панталонах, чулках. Пока сердце колотилось от страха, разгоняло кровь по жилам, холод не ощущался, зато теперь пробирало до самых костей. Данила тоже в парк выбежал налегке, даже без шапки.
– Падать духом мы не станем, – сказал он, вытирая с бровей снежинки. – Шубы обещать не могу, но плащ у тебя сейчас будет.
Он снял сюртук, надел на Митю – и вправду получился плащ, а то даже и шинель до самых пят.
– Плохо, что обувь у тебя непригодна для зимней натуры, – вздохнул Фондорин. – Хотя что ж, воспитаннику ее царского величества зазорно идти собственными ножками. Пожалуйте на коня, сударь мой. Он хоть и стар, да вынослив.
Взял Митю на руки, прижал к груди.
– Так и мне теплей. Ну, вперед! И с песней, как положено на марше. Слушай. Я спою «Гимн Злато-Розовому Кресту», хорошая песня.
Зашагал по снегу, распевая во все горло, и только отплевывался, когда рот забивало снегом.
- Вотще ярятся непогоды,
- Вотще грозит нам воли враг.
- Не променяем мы свободы
- На корку хлеба и очаг.
- Плыви безбрежным океаном,
- Который самый ты и есть.
- Блюди с усердьем непрестанным
- Три слова: Ум, Добро и Честь.
- Что глад, что хлад, ранящи стрелы
- Тому, кто видит ясну цель.
- Ничто пред Разумом пределы,
- Челну ничто коварна мель!
Песня была хорошая, бодрая, с неисчислимым количеством куплетов. Митя сначала слушал, а потом перестал, потому что вдруг увидел перед собой бурливые воды с пенными гребешками, а вдали, на самом горизонте, белый парус. В небе сияло жаркое солнце – не желтое, а красное. Оно было как живое: мерно сокращалось и разжималось. Приглядевшись, он увидел, что при каждом разжатии оно выталкивает из себя горячие лучи, которые потом растекаются по всей небесной сфере. Да это не солнце, это же сердце, догадался Митя. А прислушавшись к биению необыкновенного светила, понял штуку еще более диковинную: не просто сердце, а его собственное, Митино сердце. Тут же сам себе объяснил: если внутри меня безбрежный океан, то чему же быть солнцем, как не сердцу? И успокоился по поводу сего феномена, стал на парус смотреть.
По океану, стало быть, плыла ладья. На палубе всего один человечек, вовсе маленький. Митя прищурился и увидел отважного мореплавателя совсем близко. Ба, так это же Митридат Карпов, собственной персоной! Какое у него испуганное лицо, как тревожно озирается он по сторонам! Не иначе потопнуть боится.
Дурачина, хотел крикнуть своему двойнику Митя. Чего страшишься? Как это возможно – в самом себе потопнуть? Ничего не бойся, гляди вокруг без страха!
Но маленький моряк не слышал. Его мучили жажда и голод, он изнывал от палящего зноя.
– Воды, – шептал он пересохшими губами. – Ох, жарко!
Здесь Митя очнулся. Увидел пустую дорогу, вихрящийся снег и совсем близко лицо Данилы. Тот прижался к Митиному лбу ледяной щекой.
– Э, сударь мой, да у тебя чело хоть трут зажигай. Господи-Разум, где ж тут жилье?
Пустыня сибирская! А всего-то сотня верст до Москвы.
И ветер как завоет, как сыпанет холодной крупой по лицу!
Нет уж, лучше жара и море.
Митя снова закрыл глаза и в тот же миг почувствовал, как его обдувает горячий, соленый бриз. Опыт и чутье бывалого моряка подсказали: приближается ураган. Он оглянулся и затрепетал. С дальнего края неба, стремительно разрастаясь, неслось облако. Оно быстро меняло цвет и форму. И море сразу потемнело, лодку закачало из стороны в сторону.
Здесь должен быть остров, Митя твердо это знал. Привстал на цыпочки и увидел в отдалении желто-зеленую кочку, торчавшую над волнами.
Туда, скорей туда!
Он бросился к кормилу, навалился всем телом. И пошла гонка – кто скорей: туча или челн.
Бег наперегонки длился нескончаемо долго, так что уж и силы были на исходе.
Всего один раз кормщик оторвался от руля – чтоб глотнуть воды из глиняного кувшина.
Но влага оказалась не освежающей, а горькой, противной.
Митя даже заплакал от обиды и разочарования.
Вдруг увидел над собой Данилу – отощавшего, с серой щетиной на лице. – Пей, – сказал Данила, – пей.
Н все это не имело касательства до главного: успеет ли Митя достичь острова, прежде чем грянет буря.
Раздутый парус щелкал и хлопал, того и гляди лопнет, но пока держался. А ветер все крепчал. Ни в одной книге Митя не читал, что бывает ветер такой силы. Чтобы гнуло к самой палубе, чтобы с головы сдуло всю растительность до последнего волоска!
Огромная волна подняла ладью. Прямо перед собой Митя увидел каменный зуб скалы. Ну все, конец! Но волна вскинула суденышко еще выше, перенесла через риф и опустила в бухту.
Шторм мгновенно стих. То есть где-то вдали еще ухало и порыкивало, но здесь, в бухте, царило совершенное безмолвие. Желтый песок, белое небо, слепящее солнце. Яркое-преяркое, смотреть больно. Митя прикрыл глаза рукой, отяжелевшей от борьбы со стихией.
Вот тебе на! Солнце-то квадратное!
Он похлопал глазами и увидел, что солнце светит через небольшое слюдяное оконце. Желтым оказался не песок, а сосновая стена свежей срубки, да и небо было никаким не небом. Беленый потолок, вот что это было.
Сам Митридат лежал на скамье, под пахучим тулупом, в маленькой светлой комнате.
В углу был еще кто-то, оттуда доносилось сонное дыхание.
Митя скосил глаза, потому что поворачивать голову не хватило сил. Это там Фондорин спал, прямо на полу, привалившись спиной к стенке. Вид чудной: щеки и подбородок заросли седыми волосами, на голых плечах драная бабья кацавейка, на ногах вместо сапог лапти. Что за метаморфозы? И куда подевался чудесный остров?
Все-таки повернул голову и поморщился – так неприятно она зашуршала по жесткой соломенной подушке. Что за нелепица?
Дотронулся до макушки. Господи святый! Где волосы? Вместо них одна колючесть. Так, выходит, не приснилось про то, что волоса ветром сдуло?
– Данила-а! – позвал он, тоненько – сам разжалобился.
Фондорин дернулся, захлопал глазами.
– Очнулся! – воскликнул он. – А я знал! Кризис-то миновал! Всю ночь тебя трясло, только к утру отпустило. Ждал-ждал, пока глазки откроешь, да и пал жертвой Морфея. Ну-ка, ну-ка… – Поднялся, сел рядом. – Так, взгляд ясный, губы не обметаны. И лихорадки нет. Теперь на поправку пойдешь.
– Где мои волосы?
– Обриты. Медицинская наука утверждает, что при ослаблении телесного механизма через волосы сила уходит и жар сильнее, оттого больных стригут под корень. Опять же сам видишь, хоромы тут нецарские. Зачем паразитов приваживать?
– А почему вы так странно одеты? Неужто в лес возвращаетесь?
Данила запахнул на груди свою незавидную одежонку.
– Понимаешь, дружок, мой кошель в Солнцеграде остался. Мы ведь тут, на постоялом дворе, уж неделю проживаем. Что у меня было, продал. Часы работы славного Бреге пошли на покупку снадобий: медвежьего сала, липового воска, трав. За сапоги нас пустили в это скромное помещение. Сюртук и жилет обратились дровами, печку топить. Из прежнего гардероба у меня остались одни штаны.
– Как же мы теперь доберемся до Москвы? – задал Митя тот самый вопрос, с которого началась его болезнь.
– Денек-другой полежишь, на это достанет моих панталонов. А там пустим в бой резервы. – Он показал на стену, где на крючке висела нарядная Митина одежда. – Выменяем на какие-никакие тулупишки, валенки, тебе шапчонку либо пуховый платок, остаток же употребим на пропитание. Денька за четыре добредем, дорога не дальняя.
Не четыре дня до Москвы шли, а все шесть. Очень уж Митя был слаб. Пройдет версту-другую, и все. Дальше Данила его на руках несет.
От такой задержки у путешественников вышло совершенное банкрутство. На последней ночевке, в селе Тушине, пришлось расплатиться за ночлег и щи Митиным тулупчиком.
Поэтому в Первопрестольную вступили греческим зверем кентавром, так что встречные пугались, а некоторые даже крестились:
Митя сидел на Даниле верхом, продев руки в рукава большущего тулупа. Рукава болтались, полы едва прикрывали Фондорину чресла. Поначалу тулуп спереди был расстегнут, чтоб Даниле видеть дорогу, но потом пришлось запахнуться, потому что седоку дуло, и продвижение сильно замедлилось, ведь чудо-конь ступал вслепую. Если рытвина или ухаб, Митя предупреждал.
Хорошо путь до дома Павлинаникитишниного дяди, князя Давыда Петровича Долгорукого, был простой, не заблудишься: от Тверской заставы все прямо, до Страстного монастыря, а там налево, вдоль бывшей Белогородской стены, где Сенная площадь.
Долго ли, коротко ли, но дошли-таки. Встали перед чугунной, ажурного литья решеткой. Вот он, дом с ионийскими колоннами, с дремлющим каменным львом над лестницей. Где-то там Павлина – чай пьет или, может, музицирует. Только близок локоть, а не укусишь. Сунулись в ворота – какой там. Приворротный служитель на оборванцев замахал руками, ничего слушать не хочет. Фондорин спрашивает:
– Дома ли ее сиятельство Павлина Аникитишна?
А тот ругается, говорить не желает.
Митридат ему:
– Скажите Павлине Аникитишне, это Митя с Данилой Ларионычем. Она рада будет.
– Ага, – гогочет проклятый. – То-то гости дорогие. Кофе-какавы вам поднесет. А ну кыш отседова! Стойте, где все стоят, дожидайтеся!
А в сторонке таких голодранцев целая кучка. Жмутся друг к дружке, притоптывают от холода. Один крикнул:
– Что, съели? Есть же наглые. В ворота поперлись!
Другой пожалел:
– Сюда идите. Барыня скоро выедут. Она добрая, каждому подаст. Усмехнулся Фондорин, горько так.
– Видишь, друг мой, не больно-то нас здесь ожидают. Женщины – создания нежные, но краткопамятные. Чем ранее ты это усвоишь, тем менее будешь страдать в зрелые лета. Идем прочь.
– Нет, Данила, подождем! – взмолился Митя. – Может, она и правда скоро выедет!
– И подаст нам милостыню? – едко спросил Фондорин.
Однако не ушел – встал в сторонке, сложив руки на груди. Драный тулуп предоставил в полное Митино владение. Так и стоял гордо, прикрыться половинкой овчины не желал.
А полчаса спустя ворота отворились и на улицу выехала обитая медвежьим мехом карета с двумя форейторами, по-английски.
Нищие к ней так и кинулись.
Экипаж остановился, приоткрылось окошко, и тонкая рука в перчатке стала подавать каждому по монетке, никого не обошла.
– Что ж, – вздохнул Данила. – По крайней мере, у нее жалостливое сердце.
– Пойдем же, пойдем! – тянул его за собой Митридат.
Фу, какой упрямый!
Сбросил тяжелый тулуп, подбежал к экипажу, но от волнения не мог произнести ни слова – так стиснуло дыхание.
– Ну, кто там такой боязливый? – донесся знакомый чудесный голос, а в следующее мгновение из окошка выглянула и сама Хавронская.
– Ax! – вскричала она, увидев Митю. – Вот, прибыли, – глухим голосом сказал подошедший Данила, положив Мите руки на плечи. – Я свое обещание исполнил. Однако, ежели вам…
Звонкий крик заглушил его слова:
– Нашлись! Матушка-Богородица, нашлись! Графиня порывисто толкнула дверцу, та распахнулась, да так стремительно, что сшибла обоих бродяг в сугроб. Павлина, прекрасная как сказочная фея – в собольей шубке, из-под которой посверкивало воздушно-серебристое платье, в атласных туфельках – выпрыгнула из кареты, кинулась целовать Митю, потом повисла на шее у онемевшего Данилы.
– Уж не чаяла! – восклицала она, одновременно плача и смеясь. – Молилась, все коленки истерла! Сжалилась Заступница!
Живы! Оба!
Тут же, безо всякого перехода, впала в ярость – заругалась на привратника:
– Анбесиль! Кошон! Почему они здесь, на холоде? Я же тысячу раз говорила! Челядинец рухнул на колени:
– Вашсиясь! Вы говорили, дворянин в дормезе! С ангельским дитятей! А эти, сами изволите видеть, рванье рваньем!
– Ох, выдрать бы тебя! – замахнулась на него Павлина и тут же забыла о мизерабле, заохала на Митю.
– Худенький какой! А грязный-то, ужас!
– В-дороге с нами приключилась небольшая… – начал объяснять Фондорин, но графиня не стала слушать.
– После, после расскажете. Эй, Филип! – крикнула она кучеру. – К Мавре Гавриловне на суаре не поеду, распрягай. Вас, Данила Ларионович, отведут в дядину гардеробную. Подберите себе платье на первое время и ступайте в баню. От вас козлом пахнет. Ужас, во что вы превратились! Я тебя, мой кутенька, сама помою, никому не отдам. Да, сладенький? Да, лялечка? Плохо тебе было без мамы Паши?
Про кутеньку и прочее она, конечно, уже не Даниле сказала, а Мите.
Он, хоть и был сильно счастлив, но внутренне пригорюнился: снова сюсюкать.
Однако пролепетал со всей искренностью:
– Плехо, мама Пася, отень плехо.
Вытирая голого Митю полотенцем, Павлина все охала:
– Одни ребрышки! Цыпленочек ощипанный! А волосики он тебе зачем обстриг, изверг? Такие были славные, мяконькие, а теперь не длинней котячьей шерстки. Ну и сам, конечно, тоже хорош – седой, худой, страшный. Сколь быстро вы, мужчины, опускаетесь в отсутствие женщин! Хорош стал Данила Ларионович, нечего сказать, хуже, чем в лесу был. Увидишь – напугаешься. А ведь видный кавалер.
В ожидании Митиного прибытия она накупила для него целый сундук всякой одежды – жаль только по большей части обидной, младенческой. Взяла в руки батистовую рубашечку с кружевами, да так и застыла – задумалась о чем-то. Лицо у Павлины сделалось тревожное, печальное.
Митя терпеливо ждал, покрываясь гусиной кожей. Руки держал впереди, ковшиком – прикрывал стыдное место, но как бы невзначай. Для нее он, конечно, дитя малое, но ведь про себя-то знал, что, слава Богу, не младенец, а зрелый муж умом и рыцарь нравом. – Нехорошо, – вздохнула графиня. – Дура я дура. Столько готовилась! Воображала, как он прибудет, как заведу с ним ученый разговор. Три книжки прочла – одну из истории, одну про насекомых тварей и одну про общественное благо. Чего не поняла – наизусть выучила. А сама как баба деревенская – на шею кинулась. Да целовать стала! Один раз прямо в губы! Ох, стыд какой! Он человек высоких нравственных понятий. Поди, наслышан о придворных бесстыдствах. Что он про меня подумал? Ясно, что: легкодоступная, навязчивая либертинка. Теперь презирать станет. Или, того хуже, начнет скабрезничать, как с безнравственной особой. Ах, Митюша, дружочек, все вы, мужчины – кобели, даже самые лучшие из вас. Вы, конечно, не виноваты, так вас Господь устроил. И ты, когда вырастешь, будешь бедным девушкам глупости шептать, смущать их сердечки. Будешь? Признавайся!
Она принялась его щекотать. Митя немножко поойкал, похихикал и говорит:
– Лубашечку. Митюсе холдно.
Зазяб нагишом стоять, как она не пони мает!
– Ой, бедненький! В пупырышках весь! Задери рученьки.
Делать нечего – поднял. Сам залился краской.
А она и не смотрит, то есть смотрит, но в сторону. И опять замерла.
– Надобно вот что. Возьму с ним тон посуше, поцеремонней. Он и увидит, что ошибся, что я не доступная какая-нибудь. Правильно, золотце?
Ну что с ней будешь делать, если она русских слов не понимает!
Митя захныкал.
Потом сидели в салоне, с сервированным кофеем, ждали Данилу. Митя, собой нарядный, чистенький, на правах малютки кушал уже третье пирожное. Павлина, переодевшаяся во все розовое, ни к чему не притрагивалась.
– Не зря ли я платье сменила? – спросила она во второй раз. – Говорят, розовый мне к лицу, но не ярко ли? Ведь вечер скоро.
– Класавица, – уверил ее Митридат, и нисколечко не соврал.
Вошел Фондорин, узрел Хавронскую – и застыл. Тут она сразу успокоилась, поняла по его лицу, что хороша. Церемонно указала на самое дальнее от себя кресло:
– Садитесь, сударь. Там вам будет удобнее. Ну вот, теперь вы вновь стали похожи на почтенного человека.
Данилу и в самом деле было не узнать. Он мало что помылся, побрился, начесал тупей, но еще и оделся щеголем: черный с серебряным шитьем камзол, шелковые кюлоты, палевые чулки.
– Ничего скромнее в гардеробе мне обнаружить не удалось, – со смущенной улыбкой сказал он. – Должно быть, ваш дядюшка записной франт.
Сел не туда, куда приглашали, а рядом с Павлиной и сразу взял ее за руку. Видно, не заметил перемены в поведении графини.
– Милая Павлина Аникитишна! Вот теперь, вернувшись в ряды цивилизованного человечества, я могу приветствовать вас со всей душевной горячностью, не страшась внушить вам отвращение грязью и смрадом. Прежде всего позвольте облобызать вашу славную ручку!
Хавронская бросила на Митю взгляд, исполненный отчаяния: вот видишь, я была права!
Руку выдернула, убрала за спину.
– Я нахожу обыкновение целовать даме руку глупым и непристойным, – строго молвила она. – А вам вертопрашество тем более не к лицу и не по летам.
Он сконфуженно пробормотал:
– Да-да, я и сам считаю, что целование рук…
– Как вы находите Москву? – со сдержанной улыбкой осведомилась Павлина. – Много ли сей Вавилон переменился за время вашего отсутствия? По мне, Москва более похожа даже не на Вавилон, а на некое чудище вроде Гоббсова Левиафана. Вы читали?
– Да, – медленно ответил Фондорин, растерянно моргая. – Но я, признаться, не сторонник Гоббсовых аллегорий.
Павлина, кажется, настроившаяся пересказывать прочитанное, от этих слов смешалась. В беседе случилась пауза.
– А… а где ваш дядя? – спросил Данила минуты через две.
– Я чаю, в клобе. Скоро должен быть. Давыд Петрович первый московский острослов, с ним нам будет веселей.
Данила поморщился. Снова наступило молчание.
– Ах, я не предложила вам кофею! – встрепенулась графиня. – Вот, прошу.
Наливая, сочла нужным пояснить:
– Это сейчас всюду так принято – чтоб хозяйка сама гостям чай и кофей разливала, на английский манер. Потому и слуг нет. Я нахожу эту игру в интимность не совсем приличной, но что поделаешь? Таков свет.
Фондорин вяло кивнул, поднес ко рту чашку и тут же отставил.
Помолчали еще. Часы на камине тикали все медленней, все громче.
– Вы не пьете, – сказала поникшая Павлина. – Верно, кофей остыл! Я сейчас распоряжусь…
И быстро вышла. Митя заметил, как в краешке ее глаза блеснула слеза.
– Старый я дурень! – воскликнул Фондорин, едва графиня скрылась за дверью. – Разлетелся! «Позвольте облобызать вашу славную ручку». Тьфу! Поделом она мне: не к лицу и, главное, не по летам! Кто я для нее смешной старик? А не суйся с суконным рылом в калашный ряд! И заметь, друг мой, как она сразу после того стала холодна. Догадалась! Обо всем догадалась! О, у женщин на это особый нюх. Стыдно, как стыдно! Решено: буду вести себя с нею, как того требует разница в возрасте, состоянии и положении.
– Уверяю вас, вы ошибаетесь, – попробовал утешить его Митя. – Павлина Аникитишна расстроена, потому что ей кажется, будто вы презираете ее неученость, умных разговоров вести не желаете, почитаете ее пригодной лишь для фривольного обращения, а при невозможности оного томитесь скукой.
Данила только рукой махнул:
– Что ты можешь понимать в женщинах, шестилетнее дитя!
– Почти что семилетнее, – поправил Митя, но Фондорин не расслышал.
– О, Дмитрий, поверь старому, битому жизнью псу. Ты тщетно пытаешься найти в поведении женщин рациональность. Ее там нет и не может быть. Они устроены совершенно на иной, нежели мы, мужчины… Кхе, кхе.
Он закашлялся, не договорив, потому что в салон вернулась Павлина.
– Я распорядилась сварить кофей заново, – промолвила она с деланной улыбкой. – Надеюсь, вы без меня не скучали?
– Не беспокойтесь, нисколько, – сухо ответил Данила. – Благодарю, но я вечером кофей не пью. В мои годы это чересчур рискованно в смысле желудочной дигестии. – Он поднялся. – Давеча, когда меня вели в гардеробную, я проходил через библиотеку. Могу ли я в ожидании его сиятельства побыть там, посмотреть книги? Уверен, что вам без меня будет веселее.
– Хорошо, – сказала Хавронская несчастным голосом. – Когда приедет дядя, я пошлю за вами.
Фондорин вышел, а она залилась слезами.
– Неужто и ты, кисонька, будешь таким жестоким с бедными женщинами? – всхлипывала графиня. – Конечно, что я ему – кукла безмозглая. Если лобызать не даюсь, то нечего на меня и время тратить. Разве я ему пара? Он умный, блестящий, он герой. По всей Европе дамам головы кружил. А я? Только и годна, что в метрески к Платону Зурову!
Митя попытался разуверить рыдающую Павлину в ее заблуждении, но на скудном младенческом наречии сделать это было затруднительно, да она и не слушала.
Увы, столь долгожданная встреча обратилась форменным дезастром.
Слава Богу, вскоре явился хозяин дома, московский губернатор князь Давыд Петрович Долгорукой. Вошел, прихрамывая и стуча по полу тростью – шумный, дородный, с карими навыкате глазами и точно такими же ямочками, как у племянницы. Локти малинового фрака у его сиятельства были перепачканы белым – верно, играл в карты на мелок или, может, бился на бильярде. От румяных уст, которые ласково дотронулись до Митиного лба, пахло вином и шоколадом.
Лакей немедленно привел Фондорина, и состоялось знакомство.
В присутствии родственника Павлина Аникитишна держалась менее скованно.
– Вот, дядя, мой спаситель, о котором я вам столько рассказывала, – объявила она и улыбнулась Даниле робкой, приязненной улыбкой, от которой тот вспыхнул.
– Стало быть и мой спаситель, и мой! – вскричал Долгорукой, бросаясь жать Фондорину руку. – Ибо Пашенька мне дороже родной дочери, каковой у меня, впрочем, не имеется.
Он мягко, приятно хохотнул, стукнул в ладоши, чтобы подавали закуски и вина, а дальше все покатилось само собой – легко, весело, безо всякой неловкости.
Как опытный светский человек, Давыд Петрович, должно быть, уловил в атмосфере некую натянутость, и, чтобы релаксировать гостя, застрекотал без умолку о московских новостях. Речь его была остроумна, жива, занимательна.
– Нынче мы все воды пьем и моционом увлекаемся, – говорил он, сардонически поджимая углы рта. – Слыхали ль вы о водяном заведении доктора Лодера? Нет? А между тем в Петербурге о нашем поветрии осведомлены. Третьего дня прибыли на инспекцию сам лейб-медик Круиз и адмирал Козопуло, а сие означает августейшее внимание. Правда, инспекторы переругались меж собой, не сошлись во мнениях.
– Что за водяное заведение? – заинтересовался Данила. – От каких болезней?
– А от всяких. Герр Лодер раскопал на Воробьевых горах магический минеральный источник, вода из которого, по его уверению, творит чудеса. Особенно ежели сопровождается трехчасовой прогулкой по проложенной для этой цели аллее. Старцам сия метода возвращает аппетит к радостям жизни, дамам – молодость и красоту. От подагры, правда, не спасает. Я выпил ведра два и отхромал по треклятой дорожке Бог весть сколько часов, но, как видите, по-прежнему ковыляю с палкой. Простонародье глазеет, как баре безо всякого смысла шпацируют по аллее взад и вперед, потешается. Даже новые словечки появились: «лодеря гонять» и «лодерничать». Каково?
Фондорин улыбнулся, но без веселости.
– Я вижу, Москва сильно переменилась. Когда я покидал ее два года назад, все сидели по домам и собираться кучно избегали.
– Да, да, – покивал князь. Губы сжались, лоб нахмурился, и оказалось, что Давыд Петрович умеет быть серьезным. – Я понимаю, о чем вы. И ваше дело помню. Сочувствую и негодую. Однако разве я мог помешать Озоровскому? Что я – всего лишь гражданский губернатор. А он – главнокомандующий, генерал-аншеф, от самого Маслова имел поддержку. Такова моя доля – служить под началом человека низкой души, гонителя просвещения и благородства. Увы, милейший Данила Ларионович, злато-розовых кустов в московском вертограде вы более не узрите. Теперь ум и прекраснодушие не в моде, все пекутся лишь о телесности. Если и остались ревнители общественного блага, то, наученные вашим примером, хранят безмолвие и действуют тихо, без огласки. Огласка – вещь опасная.
– Это доподлинно так, – сказал Фондорин. – Однако, если уж мы заговорили об огласке, позволено ли мне будет осведомиться, что вы как ближайший родственник и покровитель Павлины Аникитишны намерены предпринять в отношении князя Зурова? Он нанес ее сиятельству и всему вашему семейству тяжкое оскорбление. Похищение, усугубленное убийствами – преступление наитягчайшее.
Давыд Петрович вздохнул, потер переносицу.
– Разумеется, я думал об этом. Павлина свидетель, в каком я был возмущении, когда она все мне рассказала. Сгоряча сел писать всеподданнейшую жалобу государыне. А утром, на ясную голову, перечел и порвал. Почему, спросите вы? А потому что верных доказательств нет. Какие-то разбойники в лесу напали на карету, убили слуг. В одном из злодеев Павлина узнала зуровского адъютанта. Так что с того? Адъютант отопрется, а иных свидетелей нет. Если, конечно, не считать, сего чудесного карапуза. – Долгорукой улыбнулся и сделал Мите козу. – Да хоть бы и были свидетели. Кому поверит царица – обожаемому Платоше или им? Конечно, подозрение против Фаворита у нее останется. А от неуверенности и подозрительности ее величество обыкновенно впадают в гнев. На кого он обрушится? На тех, кто осмелился огорчить богоподобную монархиню. То есть на саму же Павлину, а также… А также на ее родню, – вполголоса закончил губернатор.
Наступила тишина, прерываемая лишь потрескиванием дров в камине.
– Что ж, по крайней мере откровенно. – Фондорин поднялся. – Ежели бы я имел счастье находиться на вашем месте и обладал правом попечительствовать чести Павлины Аникитишны, я поступил бы иначе. Но, как говорится, бодливой корове… – Он поклонился разом и хозяину, и его племяннице. – Мое обещание выполнено. Дмитрия я к вам доставил.
Позвольте мне откланяться. Одежду я верну вашему сиятельству, как только обзаведусь собственной. Желаю вам, сударыня, всяческого благополучия. Могу ли я на прощанье перемолвиться несколькими словами с мальчиком?
Хавронская порывисто встала и протянула к Даниле руки, но что она хотела ему сказать, осталось неизвестным, потому что в эту минуту в салон вошел лакей и громко объявил:
– К ее сиятельству действительный статский советник Метастазио, прибывший из Петербурга. Просят принять.
Павлина рухнула обратно в кресло. Кровь отлила от ее лица, и розовое платье уже не так шло ей, как прежде.
Долгорукой, наоборот, привстал. Фондорин же замахал на лакея руками, но и он от потрясения не мог вымолвить ни слова.
Если явление Фаворитова секретаря повергло в такую растерянность взрослых, что уж говорить о Митридате? Он сполз с кресла на пол и сжался в комочек.
Лакей попятился от Данилиных взмахов.
– Сказать, что ее сиятельство не принимают? Боязно. Очень уж важный господин.
– Как можно? – встрепенулся Давыд Петрович. – Проси пожаловать.
Митя опрометью кинулся к двери, но на пороге обернулся и был устыжен.
Фондорин и Долгорукой, оба с одинаково нахмуренными лбами, стояли по сторонам от Павлины Аникитишны, готовые защищать ее от злодейства.
Хорош рыцарь Митридат!
И воротился в салон, хоть не самым геройским манером. Забился за угол камина, где тень погуще, да еще отгородился экраном.
Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя!
Слова молитвы замерли на устах. В комнату, ступая важно и властно, вошел главный Митин зложелатель.
Он держался совсем не так, как в Зимнем дворце, да и выглядел иначе.
Там-то Еремей Умбертович все улыбался, ходил скользящей походкой, одевался скромно, безо всякой пышности.
А ныне на его груди, перетянутой муаровой лентой, сияла бриллиантовая звезда. Подбородок итальянца был задран кверху, каблуки громко стукали по паркету, и любезной улыбкой себя он не утруждал.
Оглядев салон (на каминном экране, благодарение Господу, своим черным взглядом не задержался), Метастазио сказал:
– Да здесь целое общество. Мое почтение, графиня. Вас, князь, я знаю. А кто этот господин?
– Данила Ларионович Фондорин, мой друг, – ответила Хавронская как можно суше, и голос нисколько не дрожал.
Зуровский секретарь резко обернулся к Фондорину и попытался испепелить его своим медузьим взором – прямо молниями ожег. Наслышан, стало быть, от Пикина. Но Данила ничего, ужасный взгляд вынес, своего не отвел. Постояв так с полминуты, Метастазио столь же резко отвернулся от неустрашимого противника и перестал обращать на него внимание.
На церемонии с губернатором времени тратить не стал. Сразу обратился к Павлине Аникитишне:
– Мадам, я явился к вам по поручению Весьма Значительного Лица (впрочем, отлично вам известного) и хотел бы побеседовать приватно, с глазу на глаз.
– Я имею к дяде и Даниле Ларионовичу полный конфиянс, – ледяным тоном молвила графиня. – Ежели упомянутое вами лицо хочет молить меня о прощении, то напрасно. Передайте, что…
– Кому нужно ваше прощение? – перебил ее Метастазио. – Я прибыл не за тем. Бросьте представлять Орлеанскую Девственницу. Ваше упрямство сводит Весьма Значительное Лицо с ума, а это создает опасность важнейшим государственным интересам. Я потому говорю это прямо при вас, – полу обернулся он к Долгорукому, – что строптивость племянницы вам первому окажет дурную услугу. Вот, князь, случай либо вознестись на самый верх, либо лишиться всего.
Губернатор вспыхнул от наглости угрозы, но словесно не возмутился, лишь закусил губу.
– Графиня, как только Весьма Значительному Лицу донесли, где вы находитесь, он хотел немедленно мчаться сюда. Сие было бы истинной трагедией для всех персон, имеющих касательство к этой истории. Насилу я отговорил его, пообещав, что доставлю вас сам. Я ехал без остановок, спал в экипаже, отчего у меня произошла жестокая мигрень и констипация в кишках. Я чертовски зол и не желаю выслушивать никаких женских глупостей. Собирайтесь и едем!
Он шагнул к Хавронской и потянулся взять ее за руку, но путь ему преградил Фондорин.
– Я лекарь, – сказал он скрипучим от ярости голосом, – и знаю отличное средство, которое навсегда вас избавит от констипации и мигрени. Убирайтесь, пока я не приступил к лечению. Павлина Аникитишна никуда не поедет!
Метастазио спокойно смотрел в глаза графине, не удостоив Фондорина даже взглядом.
– Подумайте хорошенько. Этого человека не слушайте, он все равно что мертвец, про него уже все решено. От вас зависит ваша собственная судьба и счастье ваших близких. Ну же, – нетерпеливо прикрикнул он, – полно ломаться! Я жду ответа.
– Вы слышали его из уст господина Фондорина, – произнесла Павлина с улыбкой и взяла Данилу под руку.
Итальянец ничуть не стушевался – кажется, именно этого и ждал.
– Что ж, князь, – обратился он к Долгорукому, – тогда у меня дело до вас. Государственное и посторонних ушей не терпящее. Мы побеседуем здесь или вы сопроводите меня в иное место?
Давыд Петрович настороженно посмотрел на Метастазио и нехотя поднялся, опираясь на палку.
– Если разговор официальный, прошу в кабинет.
– Нет-нет! – Павлина тоже встала. – Оставайтесь. До кабинета нужно пройти дюжину комнат, а я знаю, что ваша подагра, милый дядюшка, не располагает к долгим прогулкам. Данила Ларионович, не проводите ли вы меня в библиотеку?
– Буду счастлив.
Фондорин бросил грозный взгляд на петербуржца и повел графиню прочь.
Митя с радостью последовал бы за ними, но был вынужден остаться в своем жарком укрытии.
Итальянец подождал, пока за дверью стихнут шаги, и сел рядом с князем.
– Сударь, – заговорил он быстро, напористо. – Ваша племянница красива, но глупа. Не будем тратить время на пустяки. Поговорим лучше о будущем империи, как подобает людям государственным. Известно ли вам, что ее величество слаба здоровьем и не сегодня-завтра умрет?
– Как? – вздрогнул Долгорукой. – Неужто дела так плохи? Адмирал Козопуло давеча в узком кругу рассказывал, что лишь своими стараниями поддерживает в государыне жизненную силу, однако я не принял его болтовню всерьез. Неужто…?
– Да. Ее дни сочтены. Великая эпоха близится к концу. Что последует дальше – вот в чем вопрос. Каким станет новое царствование? Эрой света и справедливости или торжеством безумия? Платону Александровичу известны ваши просвещенные взгляды, и в вашем ответе я не сомневаюсь.
– Да, конечно, я за свет и справедливость, – подтвердил губернатор, – однако не могли бы вы выразить свою мысль яснее?
Секретарь кивнул:
– Извольте. Кто: Внук или Наследник? Яснее и короче, по-моему, некуда.
– Право, не знаю, – тихо молвил Давыд Петрович. – Мы, московские, далеки от большого света, питаемся все больше слухами и мнениями петербуржских друзей…
– Внук, – отрезал Метастазио. – Только он. Наследник вздорен, капризен. Наконец, просто не в своем уме!
– Но разве возможно, чтобы вопреки прямому порядку наследования… Секретарь снова перебил:
– Если в момент кончины великой императрицы Платон Александрович все еще будет в силе, то очень возможно и даже неизбежно. Беда в том, что светлейший помешался из-за вашей племянницы и дурит. Он болен от страсти. Если немедленно не получит требуемого лекарства, то погубит и себя, и будущее России. Так помогите же ему получить эту малость! – Метастазио наклонился и схватил князя за локоть. – Вы можете это сделать! Я прихожу в бешенство, когда начинаю думать, от каких пустяков зависят судьбы великой державы! А также и наши с вами судьбы.
– Наши? – переспросил губернатор с особенным выражением.
– Да! Вы, верно, думаете, что я забочусь только о своей участи? Разумеется, я себе не враг. И если воцарится злейший недруг моего покровителя, судьба моя будет печальна. Но и вам несдобровать. Ваши контры с Озоровским известны. Он заодно с Прохором Масловым, а Маслов один из всего двора оказывает Наследнику знаки внимания. Начальник Секретной экспедиции поставил на Гатчинца, сомнений в том нет! Поверьте хорошо осведомленному человеку: Озоровский мечтает от вас избавиться, шлет о вас губительнейшие реляции, и если вы до сих пор еще держитесь на своей должности, то лишь благодаря расположению к вам Платона Александровича. При победе партии Наследника вас ждет немедленная отставка и опала.
Давыд Петрович расслабил галстух, словно ему вдруг сделалось душно.
– Я… я должен посоветоваться со своими друзьями…
– Лучше станьте нашим другом, и тогда Москва будет принадлежать вам. Город нуждается в твердой, но просвещенной руке. Так что?
Давыд Петрович молчал.
Не устоит, перекинется, боялся Митридат.
У него за спиной, в камине, громко стрельнуло, и Митя непроизвольно дернулся.
Ох!
Экран качнулся, грохнулся на пол, и взорам обернувшихся политиков предстал малый отрок с выпученными от ужаса глазами.
– Impossibile! – пробормотал Метастазио. – Откуда он здесь?
Стало быть, про Данилу побежденный Пикин ему рассказал, а про Митридата нет. Получается, что капитан-поручик не вовсе пропащий?
– Это Митюша, воспитанник племянницы, – успокоил петербуржца хозяин. – Он совсем еще дитя, не тревожьтесь. Затеялся в прятки играть. Ступай, душа моя, побегай в ином месте. Видишь, мы с этим господином…
Итальянец проворно вскочил, двинулся к Мите.
– А-а!!!
Захлебнувшись криком, рыцарь Митридат припустил вдоль стены, пулей вылетел за дверь.
Сам не помнил, как пробежал длинной анфиладой. Ворвался в библиотеку с воплем:
– Данила! Он меня видел!
Фондорин и Павлина, сидевшие на канапе бок о бок, оглянулись.
– Кто? – рассеянно спросил Данила, и вид у него был такой, будто он не сразу узнал своего юного друга.
– Метастазио! Он хотел меня схватить! Он такой, он не отступится! И князь Давыд Петровича оплел, интриган! Mon Dieu, je suis perdu!.[14]
Графиня пронзительно завизжала, испуганно глядя на Митридата.
Он хотел приблизиться к ней, но она заверещала еще пуще, замахала руками.
– Минуту, друг мой! – сказал ему Данила. – Это истерика. Ваше неожиданное красноречие напугало Павлину Аникитишну. Сейчас, сейчас. Есть одно средство…
Он звонко шлепнул графиню по щеке, и она тут же смолкла, ошеломленно глядя уже не на Митю, а на обидчика. Ее ротик задрожал, но прежде, чем из него исторгся новый вопль, Данила наклонился и поцеловал – сначала ушибленное место, а затем и губы, лишив их возможности производить дальнейший шум.
Средство, действительно, оказалось удачным. Рука графини немного пометалась в воздухе, потом опустилась Даниле на плечо и осталась там.
– Ну вот, – сказал он, высвобождаясь (причем не без усилия, потому что к первой ручке, обхватившей его за плечи, присоединилась вторая). – А теперь, Павлина Аникитишна, я все вам объясню.
И объяснил – доходчиво и недлинно: и про необычайные Митридатовы способности, и про его деликатность, понудившую образованного отрока прикидываться младенцем. Рассказал и о Митином петербуржском взлете, и о вынужденном бегстве. Не стал лишь касаться истории с ядом, сказав только:
– По случайности Дмитрий стал очевидцем одной каверзы, затеянной Фаворитовым секретарем. Подробностей, ma chere amie, вам лучше не ведать, ибо в подобных делах осведомленность бывает губительной. Вам довольно знать, что Метастазио намерен во что бы то ни стало истребить опасного свидетеля. И Дмитрий прав: этот господин ни перед чем не остановится. Судя по тому, что он назвал меня мертвецом, – Данила невесело усмехнулся, – на меня у славного итальянца тоже имеются виды. Если так, то защитить мальчика будет некому. Нужно бежать из Москвы, другого выхода я не вижу.
– Да, едем в Утешительное, к папеньке! – воскликнул Митя. – Это всего двадцать пять верст!
И сам понял, что сморозил детскость. Что может папенька против всемогущего Фаворита?
Павлина закрыла лицо ладонями, посидела так некое время. Митя думал, плачет. Но когда она отняла руки, глаза были сухими.
– Видно, делать нечего, – сказала она тихо, словно себе самой. – Иначе никак… – Тряхнула завитыми локонами и дальше говорила печально, но спокойно, даже уверен но. – Не поминайте злым словом, Данила Ларионович. И плохо не думайте. Изопью чашу до донышка. Видно, такая судьба. Но и цену назначу. Чтоб ни волос не упал – ни с вашей головы, ни с Митюшиной.
Фондорин как закричит:
– Мне такого выручательства не надобно! Да я лучше жизни лишусь!
– А заодно и ребенка погубите, да не простого, а вон какого? – покачала головой она, и Данила осекся. – Ах, сердечный мой друг, я чаяла по-иному, да не захотел Господь… Только не думайте, что я распутная.
– Вы святая, – прошептал Фондорин. По его лицу текли слезы, и он их не вытирал.
– Нет, я не святая, – вроде как даже обиделась Павлина. – И я вам это намерена доказать, сей же час. Чего теперь жеманничать? Не для него же беречься…
Она не договорила, взглянула на Митю.
– Митюшенька, кутенька… – Смутилась, поправилась. – Дмитрий, дружочек, оставь нас, пожалуйста, с Данилой Ларионовичем. Нам нужно поговорить.
Ага, оставь. А куда идти-то? Назад, к Еремею Умбертовичу? Только о себе думают!
Митя вышел из библиотеки, притворил дверь.
Лакей гасил свечи в стенных канделябрах, оставлял гореть по одной. Потом вышел в соседнюю комнату, дверь затворил. Такое, видно, в доме было заведение – к ночи двери в анфиладе прикрывать. Должно быть, из-за ночных сквозняков, предположил Митя.
Пристроился к лакею, переходил за ним из залы в залу. При живом человеке все покойней.
В столовой, где сходились поперечные анфилады, повстречали другого лакея, который о визите Метастазио объявлял.
– Что тот господин? – боязливо спросил Митя. – Все в салоне?
– Уехали, – ответил служитель. Как гора с плеч свалилась! Дальше пошел уже без опаски. Надо было на Давыда Петровича посмотреть – что он?
Князь сидел в салоне один, пристально смотрел на огонь.
Свечи на столе были загашены, но зато под потолком сияла огромная люстра – свечей, пожалуй, на сто, и от этого в комнате сделалось светло, нестрашно.
– А-а, ты, – рассеянно взглянул на мальчика Долгорукой. – Напугался чужого? Он с тобой только поздороваться хотел, он не злой вовсе. Расспрашивал про тебя, понравился ты ему. Ну иди сюда, иди.
Взял Митю за плечи, ласково улыбнулся.
– Как Павлиночка тебя любит, будто родного сыночка. И то, вон ты какой славный. А хочешь в большом пребольшом доме жить, много больше моего? У тебя там все будет: и игрушки, какие пожелаешь, и настоящие лошадки. А захочешь – даже живой слон. Знаешь, что такое слон? Здоровущая такая свинья, с карету вышиной, вот с такими ушами, с длиннющим пятаком. – Он смешно оттопырил уши, потом потянул себя за нос. – Как затрубит: у-у-у! Хочешь такого?
– Да, я видел слона, его по Миллионной улице водили, – сказал Митя обыкновенными словами, без младенчества. Чего теперь таиться?
Но князь перемены в речи отрока не заметил – был сосредоточен на другом.
– Ну вот и умник, все знаешь. Ежели тебя Павлиночка спросит (а она может, потому что у женщин это бывает, о важном у дитяти спрашивать): «Скажи, Митюша, менять мне свою жизнь иль нет?» Или, к примеру:
«Ехать мне к одному человеку или не ехать?» Ты ей обязательно ответь: менять, мол, и ехать. Обещаешь?
«Зря распинаетесь, сударь. Без вас уже решилось», – хотел сказать ему на это Митридат, но не стал. Пусть не радуется раньше времени.
– Обещай, будь золотой мальчик. – Князь погладил его по стриженой голове. – Э, братец. Гляди: макушку мелом запачкал. Дай потру.
Полез в карман за платком, а Митя ему:
– Не трудитесь, ваше сиятельство. Это не мел, а седина, изъян природной пигментации.
Нарочно выразился позаковыристей, чтоб у Давыда Петровича отвисла челюсть.
Ждал эффекта, но все же не столь сильного. Челюсть у Долгорукого не только отвисла, но еще и задрожала. Мало того – губернатор вскочил с кресла и попятился, да еще залепетал околесицу:
– Нет! Невозможно! Нет! Почему именно я? Я не смогу… Но долг…
Пожалуй, изумление было чрезмерным. Митя уставился на остолбеневшего князя и вдруг почувствовал, как по коже пробегает ознобная жуть.
Этот особенный взгляд, исполненный ужаса и отвращения, он уже видел, причем дважды: в новгородской гостинице и в Солнцеграде.
Неужто снова чадоблуд или безумец?
Сейчас как накинется, как станет душить!
Митя отпрянул к двери.
– Постой! – захромал за ним губернатор, пытаясь изобразить умильную улыбку. – Погоди, я должен тебе что-то показать…
«Ничего, я отсюда посмотрю», – хотел ответить Митя, но стоило ему открыть рот, как Долгорукой замахал руками:
– Молчи! Молчи! Не стану слушать! Не велено!
И уже больше не прикидывался добреньким, занес для удара трость.
Толкнув приоткрытую дверь, Митя шмыгнул в соседнее помещение и быстро перебежал к следующей двери, отчаянно крича:
– Данила! Дани-ила-а! Высоченная, в полторы сажени, дверь была хоть и не запертой, но плотно закрытой. Он повис на ручке всем телом, только тогда тяжелая створка подалась.
Пока сражался с сими вратами, Давыд Петрович, припадая на подагрическую ногу, подобрался совсем близко… Чуть-чуть не поспел ухватить за воротник.
В следующей комнате повторилось то же самое: сначала Митя оторвался от преследователя, потом замешкался, открывая дверь, и едва не был настигнут.
Не переставая звать Данилу, злосчастный беглец забирался все дальше по нескончаемой анфиладе, уже потеряв счет комнатам и дверям. А потом, уже знал он, будет вот что: очередная комната окажется слишком маленькой, и хромой успеет догнать свою жертву.
– Стой же ты! – шипел Давыд Петрович, охая от боли и по временам пробуя скакать на одной ноге. – Куда?
В оружейной, где на пестрых коврах висели кривые сабли и ятаганы, попалась живая душа – лакей, надраивавший мелом круглый пупырчатый щит.
– Спасите! – бросился к нему Митя. – Убивают!
Но тут в проеме возник хозяин. Он цыкнул, и слугу как ветром сдуло. Больше Мите никто из челяди не встречался. Попрятались, что ли?
Где же Данила? Ужель не слышит зова? Кричать больше не было мочи, дыхания хватало лишь на рывок через пустое пространство, чтоб потом повиснуть на рукояти, моля Господа только об одном: пусть следующее помещение окажется не слишком тесным.
Однако погибель таилась не там, где он ждал.
Пробежав отрадно большой залой (видел ее прежде, но сейчас разглядывать было некогда), Митя стал открывать дверь и не сразу понял, что не откроется – заперта не то на ключ, не то на засов. А когда понял, на маневр времени уже не оставалось: гонитель был совсем близко, и в руках у него теперь была не трость, а огромный турецкий кинжал – не иначе со стены снял.
В отчаянии Митя заколотил в предательскую дверь кулачками. Да что толку?
Сзади, совсем близко, послышалось бормотание:
– Господи, укрепи, дай силы. Все, все… Только и оставалось, что зажмуриться. Лязгнуло железо задвижки, дверь распахнулась.
На пороге стоял Данила: в рубашке, панталоны расстегнуты, одна нога разута. Спал! Друга жизни лишают, а он почивать улегся! Из-за Данилиной спины донесся шорох, будто пробежал кто-то легкий и тоже необутый, но Мите было не до загадок.
– Опять! – только и смог выдохнуть он, обхватывая своего вечного спасителя за пояс.
– Что вы себе позволяете, князь? – воскликнул Фондорин. – Зачем вы гоняетесь за мальчиком с оружием? Пусти-ка, Дмитрий.
Митя пал на четвереньки, проворно отполз в сторону. А вдруг Долгорукой начнет Данилу рубить?
Но нет, на Фондорина смертоубийственный пыл князя не распространялся. Давыд Петрович опустил ятаган, другой рукой схватился за сердце – видно, убегался. – Опять? – повторил Данила. – Ты сказал «опять»? Вот оно что! Тут не безумие, я ошибался!
Он подскочил к губернатору, вырвал кинжал и отшвырнул подальше, потом ухватил Долгорукого за отвороты и тряхнул так сильно, что у того на воротник с волос посыпалась пудра.
– Вы получили письмо от Любавина! – прорычал Фондорин страшным голосом. – Чем вам обоим помешал ребенок? Это Метастазио, да? Отвечай, не то я проломлю тебе череп!
Схватил со столика узкогорлый бронзовый кувшин и занес над макушкой князя.
– При чем здесь Метастазио? – прохрипел тот. – И какой еще Любавин? Не знаю я никакого Любавина!
– Лжешь, негодяй! Я помню, ты состоял с ним в одной и той же ложе, «Полнощной Звезде»!
– В «Звезде» состояло пол-Москвы, всех не упомнишь! – Губернатор не сводил глаз с бронзы, зловеще посверкивавшей у него над головой. – А, вы про Мирона Любавина, отставного бригадира? Да, был такой. Но, клянусь, он мне не писал…
Мите послышалось, что коротенькое слово «он» Давыд Петрович произнес как бы с ударением. Кажется, отметил это и Фондорин.
– Он не писал? А кто писал? И что? Когда ответа не последовало, Данила стукнул князя сосудом по лбу – не со всей силы, но достаточно, чтобы раздался не лишенный приятности звон.
– Ну!
– Вы с ума сошли! У меня будет шишка!
Я… я не имею права вам говорить… Вы ведь тоже были братом и, как мне говорили, высокой степени посвящения. Вы знаете об обетах.
– Каких еще обетах!? Масонов в России более нет! Все ложи распущены!
Князь стиснул губы, замотал головой.
– Я более ничего не скажу. Можете меня убить.
– И убью! Молитесь!
В отличие от Пикина, Давыд Петрович молиться не отказался, но произнесенная им молитва была странной, Мите такую слышать не доводилось.
– «Всеблагой Истребитель Сатаны, я в Тебе, Ты во мне. Аминь», – прошептал князь, закрыв глаза.
– Что-что? – удивленно переспросил Данила. – Но ведь это формула сатанофагов!
Долгорукой встрепенулся:
– Вы… знаете?!
– Да, мне предлагали стать братом Ордена Сатанофагов, и я даже получил первый градус послушника-оруженосца, но…
– Ах так! Это меняет дело! – Долгорукой повернул на пальце перстень и показал Даниле. – Если вы оруженосец, то должны мне повиноваться. Видите знак четвертого градуса?
Фондорин отпустил князев фрак и бросил кувшин.
– Вы не дослушали. Я так и не стал членом Ордена, и на то было две причины. Во-первых, в ту пору мне было не до общественного блага – я искал пропавшего сына. А во-вторых, я убедился, что ваша линия масонства не праведная, обманная. Я не верю, что людей можно облагодетельствовать насильно, против их воли.
– Не обманная, а истинная! – горячо возразил Давыд Петрович. – Это все прочие ордена и ложи – пена, морок, светская забава. Мы же существуем для того, чтоб, не щадя собственного живота, истреблять Зло! Как вы с вашим умом и ученостью этого не понимаете? Мы, сатаноборцы, – взрослые, а все прочие – дети. Долг взрослого наставлять ребенка, пускай даже по неразвитости ума тот и противится наущению!
– Видел я, как вы только что пытались наставить ребенка. Так кто прислал вам письмо? Брат старшего градуса?
Князь молчал, очевидно, не зная, отвечать ли. Похоже, Данилина осведомленность о таинственном Ордене поколебала его непреклонность.
– Нет. Об этом… существе, – сказал он наконец, опасливо взглянув на Митю, – была депеша из более высокой инстанции.
– От Орденского Капитула?
– Еще высшей, – негромко произнес губернатор, с каждым мгновением делаясь все уверенней. – Самой высокой.
– Неужели Дмитрий навлек на себя гнев Великого Мага? – Фондорин тоже посмотрел на Митю – без опаски, а скорее с любопытством. – Но чем?
– Не знаю. Однако я получил послание от Великого Мага. – Давыд Петрович торжественно поднял палец. – Со Знаком Усекновения! Мог ли я ослушаться? Я брат Авраамова градуса, я третий обет давал!
– Что это – третий обет?
– Вы не знали? Ах да, вы ведь не поднялись выше первого градуса, а это еще не настоящее членство. У нас старшинство считается по обетам повиновения. Чем строже и самоотверженней послушание, тем выше градус. Младшие рыцари, братья Иова Многострадального, дают простейший обет: исполняй наказ старших без ропота. Третий градус, Иисусовы братья, дают клятву, ежели понадобится, взойти на крест. Те же, кто, подобно мне, удостоен четвертого градуса, ручаются во имя Добра умертвить и собственного сына, подобно библейскому Аврааму. Пятый градус именуется Фаустовым, и в чем состоит его обет, мне неизвестно.
– Об этом нетрудно догадаться, – пожал плечами Фондорин. – Готовность по приказу старшего поступиться собственной душой. Обычно беззаветная борьба во имя Добра заканчивается именно этим. Кто же у вас Великий Маг?
Князь рассмеялся, будто Данила произнес не вполне приличную, но довольно смешную шутку.
– Мне известно лишь, что прежний Великий Маг в позапрошлом году умер, назначив себе преемника. Кто он таков, знает лишь один человек – сам преемник. Ведь члены Капитула видят Великого Мага всего один раз, на церемонии посвящения, причем он не снимает маски. Потом они лишь получают от него наказы и послания. У меня как Авраамова брата в подчинении три рыцаря третьего градуса, имена которых вам знать незачем. Надо мною же поставлен Фаустов брат, которого я вам тем более не назову. Письмо Великого Мага пришло ко мне от него, по эстафете.
Данила снова схватил губернатора – на сей раз за локоть.
– Рассказывайте, что было в письме! Нет, лучше покажите.
– Не верите? – горько усмехнулся Долгорукой. – Не воображаете ли вы, что я сам, по собственному произволу, вздумал гоняться с булатом в руке за мальчишкой? С моей-то подагрой! Хорошо, следуйте за мной. Письмо в кабинете. Но одно условие. – Он покосился на Митю. – Этот должен быть все время рядом, не отпускайте его.
– Да уж не отпущу, – пообещал Фондорин, взял Митридата за руку и тихонько пожал: не бойся.
А Митя уже не боялся. С Данилой чего боятся? Только вот голова шла кругом. Какие еще сатанофаги? Какой Маг? Что им нужно от семилетнего человека?
Снова шли чередой пустых комнат. И Долгорукой, и Фондорин прихрамывали – первый из-за подагры, второй по причине половинной обутости.
Князь искоса взглянул на Данилины ноги.
– Вы уже собирались ложиться? Но почему в библиотеке? Разве не хороша отведенная вам комната?
– Не о том говорите! – грозно прикрикнул на него Фондорин. – Я должен видеть доказательство, что вы не лжете!
В кабинете губернатор открыл потайной шкафчик, спрятанный за портретом государыни, вынул шкатулку, из шкатулки узкий пакет. Поцеловал его, передал Даниле.
– Вот, читайте сами.
Фондорин развернул письмо, пробежал глазами. По его лицу пробежала брезгливая судорога.
– Ага, кажется, я знаю, кто у вас Маг. Послушай-ка, Дмитрий, сию любопытную эпистолу.
«От Отца и Великого Мага Членам Капитула, а равно с ними Фаустовым и Авраамовым братьям, обретающимся в Столицах и на дороге меж оными, в Новгородском и Тверском наместничествах. Дело, коему мы служим, в смертной опасности. Неисчерпаемы козни Сатаны. Ныне отправил он, чтобы погубить нас, своего порученца, который обличьем малый отрок, сутью же бес. Опознать его так: ростом он аршин и три вершка, лицо круглое, волос коришнев, глаза карие, а особливо приметен Люциферов знак на голове – седой круг в полтора вершка, и говорит он не как малые дети говорят, а по-ученому. Повелеваю отыскать сего бесовского карлу, который следует из Санкт-Петербурга в Москву, и, едва завидев, сразу истребить. Речей его не слушать, ибо они полны лжи и соблазна. Раздавить без малейшего промедления, отнюдь не сомневаясь, как ядовитую гадину. Братьям градусов ниже Авраамова, не принесшим высоких обетов, тож приказать искать бесенка, однако же чтоб ничего противу него не предпринимали, а того наипаче не вступали с ним в разговор, лишь сообщили старшему над собой рыцарю. Тот же должен уничтожить вражонка сам, своею рукой».
Внизу двойной крест, он же Знак Усекновения – печать Великого Мага, мне про нее рассказывали. Ну, что ты на это скажешь, Дмитрий?
– Неужели…? – ахнул Митридат.
– Похоже на то. Ловок наш черноглазый приятель, а? И в самом деле маг, циркист. Ему б на ярмарке фокусы показывать!
У Мити внутри все похолодело. Это же Метастазио, неугомонный итальянец! Мало ему власти, какой обладает Фаворитов наперсник, он еще, выходит, Великий Маг тайно-то ордена!
– Но князь-то, князь хорош! – покачал головой Фондорин. – А Мирон Любавин? Ведь просвещенные люди! Какие посланцы Сатаны, какие бесенята? Опомнитесь, ваше сиятельство! Не при Игнациусе Лойоле живем, осьмнадцатый век на исходе!
– Какие посланцы Сатаны? – Давыд Петрович сделал вид, будто удивлен нелепостью вопроса. – А кто ж, по-вашему, пол-Европы кровью залил? По чьему наущению на родине Просвещения головы, как капустные кочаны, с плахи летят? Это он, Враг Человеческий, его происки! Чует, что его время близко. Я в Бога не верю, а в Диавола верю, потому что вижу дела его ежечасно, Божьих же не узреваю вовсе. Кругом зло, стяжательство, не правда, попирание слабого сильным. Где ж тут Бог? Нет, сударь мой, мы, люди, принуждены воевать с Сатаной одни-одинешеньки, никакая высшая сила нам не поможет. А Сатана хитер, изобретателен, многолик. Пугачев кто был, не его посланец? А граф Калиостро? Иль недавние Марат с Робеспьером? Сатаноборцы тщатся возвести фортецию гармонии и благонравия, а Нечистый подводит апроши, закладывает мины. Дьявол – он не с копытами и не с рогами. То обернется сладкоречивым мыслителем, то прекрасной девицей, то почтенным старцем. Иной же из человеков однажды проснется поутру и обнаружит Сатану в зеркале, глядя на собственное отражение. Потому что Сатана и внутри нас! Так стоит ли удивляться, что он избрал для своих нужд плоть ребенка? Куда как хитро кто станет опасаться невинного дитяти?
– Да зачем? Для какой такой надобности? – воздел руки Данила. – Что за добровольное ослепление!
– Не знаю, – отрезал Долгорукой. – Мне довольно того, что это ведомо достойнейшему и мудрейшему из нас, Великому Магу. А слепец, сударь мой, вы. Чертенок вас околдовал, как еще прежде околдовал Павлину. Да очнитесь вы! Не удерживайте меня, а лучше помогите раздавить этого василиска! Посмотрите, какие у него глаза! Разве у детей бывают такие глаза?
Он указал дрожащим перстом на Митино лицо.
Данила посмотрел, вздохнул.
– Да, глаза для семилетнего мальчика необычные. Чересчур печальные, потому что в свои малые годы Дмитрий уже видел много злого и мерзкого… Хороша у вас выйдет крепость гармонии и справедливости, если на строительный раствор вы употребляете кровь детей. Подумайте об этом на досуге.
Он выпустил князев локоть и отступил назад.
– Я не трону вас, хоть вы и заслуживаете кары. Благодарите вашу племянницу. Но я требую, чтобы вы немедленно доложили по вашей эстафете: искомый отрок найден, посему охоту на него следует сей же час прекратить.
– Невозможно! Несчастный, вы не понимаете…
– Молчите! – возвысил голос Фондорин. – Да, я знаю, что в вашем Ордене приказам не перечат. Но знаю я также и то, что в самом скором времени вашему Магу за Дмитрия заплатят выкуп… – Он закашлялся и глухо продолжил. – Бесценный выкуп. Приговор будет отменен. Даю вам в том слово Данилы Фондорина.
Князь прищурился.
– Я вижу, сударь, вам известно нечто, чего не знаю я. И поскольку по вам видно, что вы человек чести, я должен вам верить. Однако же, если вы ошибаетесь?
– Найти Дмитрия будет нетрудно. Я нынче же отвезу его в родительское имение – село Утешительное, Звенигородского уезда. Мы более ни на минуту не останемся в вашем доме.
– Нет-нет! – воскликнул губернатор. – Отлично понимаю, что после случившегося вам неприятно пребывать со мною под одной крышей, но умоляю, останьтесь хотя бы до утра. Куда вы поедете на ночь глядя? Я сам уеду, прямо сейчас. Моя подмосковная всего в часе езды от заставы. В том, что вы говорите о строительном растворе и крови ребенка, мне видится некая глобальная идея, над которой стоит задуматься.
И Давыд Петрович, понурившись, захромал к двери.
– Вот-вот, задумайтесь, – крикнул ему вслед Данила. – А когда придете к единственно возможному выводу, я вам открою тайну Великого Мага. То-то ахнете!
Потом обернулся к Мите и покаянно приложил руку к груди.
– Я безмерно виноват перед тобой, мой бедный друг! Ты едва не лишился жизни из-за моей нерасторопности. Теперь я припоминаю, что слышал доносившиеся издали крики, но не дал себе труда озаботиться их происхождением, ибо пребывал не на земле, а на небе.
– Как это на небе? – заинтересовался Митридат, но тут же догадался. – А, в аллегорическом смысле. Верно, задумались над какой-нибудь возвышенной материей и воспарили мыслями в заоблачные сферы?
– Вот именно, в заоблачные, – прошептал Фондорин, глядя поверх собеседника. – Куда не чаял, что простым смертным есть доступ! Краткий миг самозабвенья! – Он содрогнулся. – А расплата за него могла быть ужасной. Ты чуть не погиб! Вот лишнее подтверждение максимы, гласящей: Разум не для счастливых, Счастие не для разумных. Можешь ли ты простить меня, маленький страдалец?
От этих слов Мите сделалось себя очень жалко. Он всхлипнул.
– Я кричал, кричал, голос сорвал, а вас нет и нет. Думал, конец… Все против меня, да? Я им бесеныш, дьявольское семя, да? Что я им сделал? То душить, то в прорубь, то ятаганом! Ы-ы-ы!
И зарыдал в голос, обхватив Фондорина руками. Тот переполошился, принялся гладить мученика по голове, бормоча извинения, а Митя уже разжалобил себя до судороги, до икоты.
– А-а, масоны проклятые! – выкрикивал он бессвязно. – Понаехали! Будто нам своих злодеев мало!
Рука, гладившая его по макушке, остановилась.
– Про масонов ты не прав. Не уподобляйся невеждам, которые считают сие добродетельное движение дьявольским заговором.
– Кто же они, если не заговорщики? – спросил Митридат сквозь слезы. – Все секретничают, от людей прячутся.
– Если они и заговорщики, то не по своей воле, а оттого, что в мире пока еще правит Злоглупость, а сторонники Доброразумности немногочисленны и принуждены действовать тайно. Вернемся в библиотеку, дружок, там осталась моя одежда. А по дороге я расскажу тебе о масонах. Только, прошу, не рыдай больше, это разрывает мне сердце.
Данила взял Митю за руку и повел через комнаты в обратную сторону.
– Беда не в масонах, а в том, что есть истинные масоны и ложные. Ведь кто такие вольные каменщики? Это добрые и разумные люди, которые в начале нашего просвещенного столетия задались высокой целью перестроить общественное здание. В нынешнем своем виде сия постройка являет собою не то тюрьму, не то свинарник. Масоны же мечтают возвести прекрасный и благородный храм, где будут править братская любовь и милосердие. Истинные братья-каменщики – те, кто понимает, что храм нужно прежде построить в своей душе, и только после этого он может принять вид вещественности. Но, разумеется, сыскалось немало ретивцев и суеумцев, которые устроили собственные объединения по примеру масонских, преследуя совсем иные цели.
– Какие? – гнусаво спросил Митя, вытирая рукавом мокрые щеки.
– Власть, – коротко ответил Фондорин. – Барон Рейхель, достойнейший из русских каменщиков, говорил: «Всякое масонство, имеющее политические виды, есть ложное». Яснее не скажешь.
Они вошли в библиотеку, которая выглядела так, будто там недавно дрались или дебоширили. На полу валялись предметы одежды, в том числе неожиданные, вроде красной ленты или шелкового чулка. Пюпитр для чтения упал, книги рассыпались. Канапе отъехало от стены и покосилось, оттопырив подломившуюся ножку. Митя вопросительно взглянул на Фондорина, но тот беспорядка то ли не заметил, то ли счел недостойным внимания. Ленту и чулок сунул в карман, обул второй башмак, поднял с глобуса жилет, с кресла камзол, все это время продолжая рассказывать.
– «Полнощная Звезда», куда входили Мирон Любавин и хозяин сего дома, почиталась ложей серьезной, туда дураков и бездельников не принимали. По слухам, к «Звезде» принадлежал и сам Наследник. А поскольку его высочество числился при дворе в прокаженных, слишком явные честолюбцы держались от «полунощников» подальше. Дальнейшего хода событий я не знаю, поскольку сделался лесным отшельником, однако угадать их нетрудно. – Данила стал завязывать галстух, но без зеркала у него не выходило – узел то получался кривой, то вовсе расползался. – Полагаю, что твой ненавистник и главный враг состоял в «Полнощной Звезде» на одной из высших должностей, дававших доступ к полному членскому списку: был мастером, приором или генеральным визитатором. Одновременно он являлся и братом Ордена Сатанофагов, наитаинственнейшего из всех. Когда прежний Великий Маг решил назначить своим преемником Метастазио (а сие аттестует покойника не слишком лестным образом), дальновидный итальянец стал привлекать в сатаноборцы самых дельных из числа «полуношников», тем более что в ту пору ложа как раз должна была прекратить свое существование. Сатаноборцы же, придерживавшиеся особой конспиративности и потому широкому кругу масонов неизвестные, самораспускаться не стали – наоборот, пополнили свои ряды за счет людей, подобных Долгорукому и Любавину.
– Я все же не понимаю, что такое эти сатанофаги?
– Из всех ложных масонов они – самые ложные, потому что проповедуют беспощадность в войне с Дьяволом и его приспешниками.
– Разве это плохо? – удивился Митя.
– Чего ж хорошего, если не давать пощады? Где нет милосердия и бьют наотмашь, без разбору, там Дьяволу раздолье. Не успеет беспощадный борец со Злом опомниться, а уж оно на его сторону переметнулось и знай подгоняет: бей, бей, не жалей. Изучая историю, я пришел к печальному открытию: стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж это штука – война, хорошего от нее не жди. – Фондорин сдернул галстух, бросил на пол – решил остаться с открытым воротом. – Это ладно. Для меня другое загадка. Отчего многие умники так любят лишать себя свободы, добровольно подчиняясь силе, которую почитают за высшую? Воздвигнет этакий Мирон Любавин себе божка, сам же уверует в его непогрешимость и ради великой цели готов, «отнюдь не сомневаясь», бросить под лед сына своего старинного приятеля. А резон и оправдание сего чудовищного зверства – невесть кем писанная бумажка с Знаком Усекновения. – Данила покачал головой. – Страшная это штука – великая цель.
– Знак Усекновения? Какое странное название.
Фондорин вынул из кармана алую ленту и чулок. Поколебавшись, положил чулок на стул, ленту же, зачем-то прижав к лицу и потянув воздух носом, оставил себе.
– Мой давний знакомец (тот самый, что заманивал меня в сатаноборцы) объяснял так. Дьявол может проникнуть в каждого человека, даже самого добродетельного. Один лишь Великий Маг защищен от скверны, для чего высшие члены Ордена подвергают его старинному обряду, аллегоризирующему отсечение Люциферовых мет. Взгляни на печать.
Он полез было за письмом, но вдруг стукнул себя по лбу.
– Эврика! Я вот что сделаю, для верности, чтоб не одному князю Долгорукому доверяться. Напишу и другим сатаноборцам, кого знаю. Мол, Великий Маг обознался, о чем вскорости сообщит особым посланием, так что поумерьте пыл. А то, не дай Разум, еще какой-нибудь радетель беспощадного Добра на тебя накинется.
– А я волосы напудрю, никто меня и не опознает, – храбро сказал Митя. – Ведь в те разы меня как определили? В гостинице у меня шапка упала. В любавинском поместье баня подвела. А тут я князю голову прямо под самый нос сунул.
– И все же напишу. Тому, кто меня принимал в оруженосцы, первому. Он наверняка у них брат высокого градуса, ибо человек толковый и достойный. Потом Мирону напишу. Кто же еще-то?
– Коллежский советник из Новгорода, которого вы лишили чувствительности, – напомнил Митридат.
– Нет, – вздохнул Данила. – Тому господину я писать, пожалуй, не стану. Он на меня, наверное, обижен. Я поставил ему неверный диагнозис и предписал лечение не от той болезни, от какой следовало. В медицине такое, увы, случается.
Митя мстительно сказал:
– Ничего, будет знать, как детей за горло хватать. Я на него еще матушке-императрице…
– Постой! – поднял руку Фондорин. – Что это?
Из-за двери донесся быстро приближающийся стук сапог.
Послышался голос:
– Здесь они, в библиотеке. Я голоса слышал.
Створки распахнулись, и на пороге возник офицер в красном кафтане, в нахлобученной на самые глаза треуголке. Из-за его плеча выглядывал напуганный лакей, сзади стояли двое с алебардами.
– Тверской штатной команды капитан Собакин, – объявил красномундирный, поглядел на Митю и протянул голосом, не сулившим ничего отрадного. – А-га!
С решительным видом двинулся к сжавшемуся Митридату, положил ему руку на плечо.
– По приказу господина губернатора ведено сего малолетка из его сиятельства дома взять и доставить согласно предписанию.
– Как это «взять»? – Данила притянул Митю к себе. – Почему? Не позволю!
Капитан смерил Фондорина взглядом, нехорошо улыбнулся.
– Сей недоросль – вор. Украл из кабинета его сиятельства некий ценный предмет, о чем князю доподлинно известно. А про вас, сударь, я предупрежден. Будете чинить препятствие закону, велю связать.
Офицер кивнул на стражников, очевидно, прихваченных именно на случай Данилиного буйства.
– Я ничего не крал! – крикнул Митя. – Не моего ума дело. На то есть суд. Коли не крал – отпустят.
– Капитан, вы ведь добрый, разумный Гражданин и наверняка имеете немалый опыт борьбы с пороками, – переменил тон Данила. – Взгляните на это дитя. Ему всего шесть лет. Если бы оно и взяло что-то чужое, то не по преступному умыслу, а лишь по невинному любопытству. Где это видано, чтобы арестовывали младенцев?
Митя понял, что Фондорин по своему обычаю пытается пробудить в полицейском доброе начало.
Увы – капитан увещеваний слушать не стал.
– Не моего ума дело, – повторил он. – У меня приказ, и я его исполню. Посторонитесь! И учтите, сударь: кто чинит сопротивление слугам закона, сам становится преступником. Эй вы, уберите в сторону этого человека!
– Я замечаю, – обратился Данила к своему малолетнему другу, – что в России Науку почитают больше, чем Доброе Слово.
Уже зная, что последует далее, Митридат втянул голову в плечи.
Английскую науку Фондорин применил с разбором. Нижним чинам отмерил учености понемножку – стукнул в ухо того и другого, с правой руки и с левой. Быстро и несильно, но оба сели на пол, пороняв свои алебарды. На офицера же науки не пожалел: заехал ему в лоб от души, со звоном. Оттого капитан оказался на полу не в сидячей, а в лежачей позиции, глаза закрыл и руки раскинул в стороны.
– Я свершил насилие над слугами закона, – грустно молвил Данила. – Того самого закона, к уважению которого всегда призывал. Капитан справедливо предупреждал меня – ныне я преступник перед обществом и отвечу за свое деяние.
Стражники смотрели на него снизу вверх со страхом. Зашибленные уши (у одного правое, у другого левое) сделались багровыми и оттопырились.
– Не трепещите, честные служаки, – обратился к ним оскорбитель закона. – Я предамся в ваши руки и выполню долг гражданина, но прежде того я обязан выполнить долг человека. Вы ведь согласны со мною, что сей последний долг выше первого?
– Так точно, ваше благородие! – гаркнул один из полицейских.
Второй же просто закивал, но многократно и весьма усердно.
– Вот, видишь, Дмитрий, – просветлел лицом Фондорин. – При посредстве Науки и Доброе Слово до умов доходит лучше.
– Только не до ума капитана Собакина, – показал Митя на бесчувственное тело.
– О нем не беспокойся. Я всего лишь произвел в его краниуме небольшое сотрясение, отчего умягчится мозговая субстанция. Упрямцу это будет только на пользу, ибо мозг его недовольно гуттаперчев. Друзья мои, положите своего начальника в кресло. Я сделаю ему два маленьких надреза под ушами, чтоб в голове, упаси Разум, не застоялась кровь. Да не пугайтесь вы! Я лекарь и знаю, что говорю.
Оказав помощь раненому, Данила положил руки на плечи полицейским – самым благожелательным образом, но оба тотчас снова затряслись.
– Скажите, братцы, вы сюда пришли пешком?
– Никак нет, ваше благородие! На санях приехали!
– Вот и превосходно. У меня к вам сердечная просьба. Прежде чем вы меня арестуете, давайте доставим этого ребенка к родителям. Могу ли я рассчитывать на ваше добропонимание?
Ответ был утвердительным, да таким скорым и пылким, что Фондорин чуть не прослезился.
– Едем же! – воскликнул он. – Не будем терять времени, ведь уже восьмой час, а дорога неблизкая. Что, ребята, хороши ль в полиции лошади?
– У нас в Тверской части лучшие на всю Москву!
В передней Данила потребовал для Мити какую-нибудь из княжьих шуб, покороче, себе же взял плащ полицейского офицера, сказав, что не желает ничем более одалживаться у бесчестного хозяина. Лакеи, уже осведомленные о печальной участи капитана Собакина, выполняли фондоринские указания безо всяких прекословии.
– А попрощаться с Павлиной? – тихо спросил Митя.
Данила затряс головой:
– Нет, не нужно! После того, что меж нами случилось… И зная о том, что ее ожидает… Нет, нет… Сердце хрупкий механизм. Если подвергать его попеременному воздействию огненного жара и ледяного холода, оно может лопнуть. Прочь, прочь отсюда!
И, взяв Митю за руку, выбежал из дверей. Полицейские послушно топали сзади.
Когда подъехали к Драгомиловской заставе, где горели фонари и блестели штыки гарнизонных солдат, Данила сказал стражникам, сидевшим бок о бок на облучке:
– Друзья мои, я не желаю вам зла, но если вы вздумаете кликнуть своих товарищей, я поступлю с вами, как с вашим начальником, и даже суровей.
– Мы ничего, ваше благородие, – ответили те, – мы смирненько.
За Кунцовым от теплой шубы и быстрой, укатистой езды Митридата заклонило в сон. Перед затуманившимся взором уже поплыли смутные химеры, но Данила вдруг толкнул спутника.
– Я вновь провинился перед тобой! – застонал он. – О, проклятый себялюбец! Я думал только о себе и своих терзаньях, про тебя же забыл! Я не дал тебе с нею попрощаться! Можешь ли ты простить меня? Конечно, не можешь! Эй, стойте! Мы поворачиваем назад!
Насилу Митя его укротил.
Потом Митридата растолкали в белом поле, под черным небом, невесть где. Показалось, минутку всего и дремал, а Данила говорит:
– Снегири проехали. Дальше без тебя никак. Говори, туземный житель, куда поворачивать.
А это уже, оказывается, Крестовая развилка, где одна дорога на Звенигород, а другая на Троицу, откуда до Утешительного всего полторы версты. Считай, почти дома. Ничего себе минутка – часа два проспал.
Брови у Фондорина были в белых иголках, а от лошадей валил пар. Но тройка и вправду была добрая, непохоже, чтоб сильно пристала.
– Вон туда, – показал Митридат. Неужели он сейчас окажется дома? И конец всем страхам, испытаниям, напастям! Сна сразу ни в одном глазу. Митя привстал на коленки и стал упрашивать солдата, что правил:
– Ах, пожалуйста, пожалуйста, быстрей!
И лошади застучали копытами быстро быстро, но еще быстрей колотилось Митино сердце.
Сколько сейчас – часов десять, одиннадцать?
В Утешительном, конечно, давно спят. Ничего, пробудятся. Что шуму-то будет, криков, кутерьмы! Маменька навряд ли выйдет – у ней на лице и глазах положены ночные компрессы для свежести. А нянька Малаша вскочит беспременно, и прочие слуги, и Эмбрион сонную рожу высунет. Но больше всех, конечно, обрадуется папенька. Истомился, наверное, вдали от петербуржского сияния, истосковался. Выбежит в халате, с бумажными папильотками на волосах, будет воздевать руки, плакать и смеяться, сыпать вопросами. Ах, как все это чудесно!
От радостных мыслей Митя слушал Фондорина вполуха, а тот все говорил, говорил: опять каялся в своих винах, уверял, что теперь страшиться нечего.
– Ни о чем не тревожься, дружок. Ради твоего спасения Павлина Аникитишна уплатит цену, дражайшую из всех, какие только может уплатить достойная женщина… Голос Данилы дрогнул, сбился на неразборчивое бормотание:
– Молчи, глупое, не стони. Кому это он? Митя мельком взглянул на своего товарища, увидел, что глаза у того блестят от слез, но тут тройка вылетела из лесу на простор, впереди показалась усадьба, и – о чудо из чудес! – окна ее сияли огнями.
– Не спят! – закричал Митя. – Ждут! Это папенька почувствовал! Родительским сердцем!
Выскочил из саней, когда те еще катились, еще не встали перед крыльцом.
На звон бубенцов выглянул кто-то в белой перепоясанной рубахе (кухонный мужик Архип, что ли?), разглядел Митю, заохал, хлопнул себя по бокам, побежал обратно в дом.
И все вышло еще лучше, чем мечталось по дороге.
Папенька выбежал в переднюю не в халате, а в наимоднейшем, купленном в Петербурге сюртуке. Весь завитой, напомаженный, не выразить, до чего красивый. И маменька не спала – была в лучшем своем платье, разрумянившаяся и оживленная. Погладила сына по голове, поцеловала в лоб. Братец, правда, не появился, ну да невелика утрата.
Алексей Воинович вел себя в точности, как ему полагалось: и воздевал руки, и благодарил Господа, явили себя и слезы.
– Нашелся! – восклицал он. – Мой ангел! Мой благодетель! О, счастливейший из дней!
И еще много всякого такого. Маменька послушала немного, поумилялась и ушла в гостиную. Фондорин терпеливо кутался в красный плащ, ждал, пока ослабнет фонтан родительской любви. Полицейские переминались с ноги на ногу, отогревались после холода.
Дождавшись паузы в папенькиных декламациях, Митя потянул к себе Данилу.
– Вот, батюшка, кого вы должны благодарить за то, что видите меня. Это мой…
Но папенька уже вновь набрал в грудь воздуха и дальше слушать не стал:
– Благодарю тебя, добрый полициант! Ты вернул мне сына, а вместе с ним и самое жизнь! Подставляй ладони!
Фондорин удивленно вытянул вперед свои большие руки, и Алексей Воинович стал доставать из кармана пригоршни червонцев. Сам приговаривал:
– На, держи! Ничего для тебя не жалко! Пришлось Даниле сложить ладони ковшом, чтоб золото не просыпалось на пол. Хотел он что то сказать, но папеньку разве переговоришь?
Митя смотрел и только диву давался: откуда такое богатство?
– Счастье, счастье! – повторял Алексей Воинович, всхлипывая. – Знаешь ли ты, мой добрый сын, что за тобой прислала матушка-императрица? Скучает по тебе, не понимает, чем обидела, отчего ты сбежал. Но не гневается, нисколько не гневается! Ты спроси, кого она прислала! Не курьера, даже не флигель-адъютанта! Самого господина Маслова! Тайного советника! Вот какая о тебе забота! А все потому, что ты – не просто мальчик, ты любимый воспитанник ее величества, государственная особа! Ах, пойду к Прохору Ивановичу, обрадую! Мы только-только отужинали и распрощались на ночь. Он, верно, еще не ложился. А хоть бы и лег! И папенька бросился в комнаты. Так вот почему здесь не спят, понял Митя. По причине явления высокого столичного гостя.
И стало у него на душе лестно, приятно. Сыщется ли в России другой мальчик, из-за которого погонят за шестьсот верст начальника Секретной экспедиции? Не сыщете, даже не пытайтесь.
– Ваше благородие, – жалобно сказал один из стражников. – Дозвольте по нужде отлучиться, мочи нет.
Данила махнул рукой – не до тебя, мол, и тот не посмел тронуться с места.
– Пойдемте, Данила Ларионович, – позвал Митя. – Я скажу, чтоб вас разместили в папенькином кабинете. Там энциклопедия и удобный диван.
Фондорин воскликнул:
– Благородное сердце! Ты еще думаешь о моем удобстве после того, как я чуть не погубил тебя и не дал тебе проститься с наилучшей из женщин! Увы, друг мой, я не смогу воспользоваться твоим гостеприимством. Я прибил слугу закона и должен понести заслуженную кару. Ведь я обещал это нашим честным спутникам. Мое место – в темнице.
– Да мне довольно сказать слово Прохору Ивановичу, и полиция сразу от вас отступится! Великое ли дело – хожалых прибить?
Митя уж хотел бежать к Маслову, но Данила удержал его.
– Нет, – сказал он твердо. – От этого зловонного пса мне никаких потачек не нужно. Он повинен в пагубе моих добрых друзей. Из-за него я лишился сына. Лучше мне не встречаться с этим упырем, иначе я могу совершить новое, куда более тяжкое преступление. Я удаляюсь. Теперь я за тебя совершенно покоен. С этаким сопроводителем тебе страшиться нечего, а твое будущее спокойствие обеспечит Павлина Аникитишна. На, верни твоему отцу деньги.
Он протянул Мите пригоршню золотых, но тот спрятал руки за спину.
– Если он так легко дал, значит, у него много. Наверное, Прохор Иванович от царицы привез. А у вас нет ничего, вам пригодится. Считайте, что это от меня, в долг.
Растроганно улыбаясь, Фондорин ссыпал червонцы в карман:
– Ну вот, ты меня еще и благодетельствуешь. Кабы ты только простил мои невольные перед тобой вины и сказал, что не держишь на меня сердца, я был бы совершенно успокоен…
– Если Павлина наилучшая из женщин, то вы, Данила Ларионович, самый лучший из мужчин, – убежденно сказал Митя. – Не хотите Маслову, так я государыне про вас скажу. Недолго вам быть в темнице, уж можете мне верить.
Фондорин наклонился, шепнул ему на ухо:
– Кому ж на свете верить, если не тебе? На, пусть это останется тебе на память.
Сунул Мите за отворот камзольчика какую-то бумагу, повернулся к полицейским:
– Он простил меня! Теперь я в вашей власти!
Глава девятнадцатая
Прекрасный новый мир
Власть Николаса Фандорина над собственными действиями, над своей жизнью и даже смертью кончилась. В самом прямом, буквальном смысле.
Первое, что сделал магистр, когда его наконец оставили одного, – попытался положить конец своему постыдному, губительному для окружающих существованию. С него сняли наручники, повязку с глаз, и он увидел, что находится в небольшой, скудно обставленной комнате. Николаса заинтересовало в этом помещении только одно – светлосерый квадрат окна. Бросился к нему, как к лучшему другу.
Какое счастье! Высокий этаж. Очень высокий.
Вид на новостройки, вдали трубы теплоэлектростанции, тусклые рассветные сумерки.
Какой-то спальный район. Черт с ним. Главное, что далеко до земли, а ускорение падения составляет 981 сантиметр за секунду в квадрате.
«Умереть, уснуть и видеть сны, быть может», бормотал отчаявшийся Николас, высматривая шпингалет. Не высмотрел.
Окно было глухое, не открывающееся. Он злобно ударил кулаком по стеклу, и оно не задребезжало, даже не дрогнуло. Тогда-то Фандорин и понял, что его власти над собственной экзистенцией настал совершенный и безусловный конец.
Сел на кровать, закрыл ладонями лицо. Хотелось зарыдать, но не получалось – разучился плакать за годы взрослой жизни.
Где Мира? Перед тем, как завязали глаза, он видел, как ее сажают в другую машину. Может быть, девочка здесь, где-нибудь в соседней комнате?
Он вскочил, постучал в одну стену, в другую. Никакого ответа. Ее там нет? Или не хочет общаться с предателем?
В течение следующего получаса Николас существовал примерно в таком режиме: посидит на кровати, мыча от ненависти и отвращения к себе; потом кинется стучать в одну стену, в другую; снова возвращается к кровати.
Была еще запертая дверь, но к ней он не подходил. Когда понадобится, сама откроется.
Так оно и произошло.
Дверь открылась. В проеме стоял старый знакомый, которого Николас окрестил Утконосом. Рожа, как всегда, тупая, бесстрастная. Не произнес ни слова, только рукой поманил – зовут, мол.
Из комнаты Фандорин попал в квадратную прихожую, быстро огляделся.
Стандартная трехкомнатная квартирка. Перед одной из закрытых дверей, в кресле, сидит другой знакомец, Макс. Николасу кивнул и даже слегка улыбнулся, причем, кажется, без издевки. Должно быть, в той комнате Мира. Стук слышала, отвечать не пожелала. Неудивительно…
Утконос подтолкнул пленника в другую сторону.
Через холл, мимо ванной и туалета, он шел по коридору к светящейся за матовым стеклом кухне. Оттуда донесся мужской голос, потом засмеялась женщина.
Заказчик и исполнительница праздновали успех операции. Угощения, правда, не было, только бутылка арманьяка и один стакан, перед Ястыковым. Жанна помахивала сложенной вдвое тысячерублевкой. Что-то маловато для гонорара за такую виртуозную работу, мрачно подумал Фандорин.
– А вот и наш герой! – приветствовала его Жанна. – Садитесь, Николай Александрович. Будьте, как дома.
И так ей понравилась эта незамысловатая шутка, что триумфаторша вся зашлась от хохота. Достала из кармана круглую серебряную коробочку, сыпанула на купюру розового порошка, поводила по нему пальцем. Потом, запрокинув голову, вдохнула.
– Полегче, лапуля, полегче, – улыбаясь, сказал Олег Станиславович. – Я знаю, ты девочка крепкая, но уж больно частишь.
– Я свою норму знаю, – ответила Жанна, изображая алкаша, у которого заплетается язык, а глаза норовят сфокусироваться на кончике носа. И снова впала в приступ веселья.
– Не торчите, как произведение скульптора Церетели. Сядьте, – приказал Ястыков. – Потолкуем о деле. Жанночка свою работу практически закончила, и самым блестящим образом, а вот нам с вами, Фандорин, расслабляться пока рано. Что вам про меня известно?
– Что вы гад и обманщик, – угрюмо ответил Ника, чувствуя, что достиг состояния, когда сдерживающий механизм страха и самосохранения уже не работает и хочется только одного: чтобы все побыстрее закончилось.
– А, вы про этого придурка. Кстати, Жанночка, ты мне так и не выяснила, где он научился взрывному делу. Что если у него все-таки был сообщник?
Она уверенно ответила:
– Не было. Я проверила все контакты, все знакомства. Совершенно отчетливый псих-одиночка. Что касается взрывчатки, то в 86-м он делал серию репортажей о наших саперах в Афганистане. Тогда и мог нахвататься, больше негде. Дело-то, между нами говоря, нехитрое – прилепить пластида, да на кнопочку нажать. Расслабься, Олежек, не тревожь свою хорошенькую головку.
Подождав, пока накокаиненная женщина-вамп отхихикается, Ястыков продолжил:
– Ну, псих так псих. Но благодаря ему Жанна вышла на вас. Вы, Фандорин, помогли мне получить стратегическое преимущество. Остальное – вопрос техники. Однако и здесь важно не напортачить. – Он вдруг подмигнул Николасу и заговорщически шепнул. – Знаете, почему вы до сих пор живы?
– Нет, – ответил Фандорин, нисколько не удивившись смене тона. – Почему?
Ястыков отхлебнул из стакана, пополоскал рот, проглотил. Глаза у него блестели почти так же ярко, как у Жанны. Похоже, стратег успел порядком набраться.
– Потому что еще не исчерпали свою полезность. – Он со значением поднял палец. – Завтра, то есть уже сегодня, состоятся переговоры. Тема, как вы понимаете, деликатная, поэтому прямой контакт исключается. Понадобится посредник, и вы на эту роль идеально подходите. Куцый вам доверяет, а мы… мы держим вас за причинное место. Ведь причина вашего с нами сотрудничества – отцовское чувство, так?
– Каламбур, – прыснула Жанна. – Чем породил, тем и угодил – в мышеловку. Про Эрастика с Ангелиночкой-то помните? А, баронет вы наш прекрасный?
Николас вздрогнул. Окружающий мир, сдернул с глаз магистра милосердную пелену безразличия, обнажив ситуацию во всей ее садистской наготе. Да-да, ведь кроме страха за свою жизнь существует страх куда более острый – за тех, кого любишь. Как он мог про это забыть, подлый эгоист?
– Вижу, помните, – удовлетворенно кивнул Ястыков. – Итак, на сцене сойдутся два Благородных Отца. Что такое перед этаким вулканом родительской любви какой то жалкий химкомбинат? Ведь Куцый, я полагаю, объяснил вам, из-за чего я затеял всю эту мелодраму?
– Да. Вы хотите наладить производство «суперрелаксана». Подсадить всю Россию на наркотик.
– Это Куцый вам так разъяснил? Что я, антихрист, задумал всю Россию закумарить? – Олег Станиславович покачал головой. – Ну Куцый! Ему бы в Голливуде страшилки снимать. Нет, Фандорин, мне не нужна вся Россия, хватит нескольких миллионов уродов, которые будут кушать мои таблеточки и таскать мне свои рублики, причем совершенно легальным образом. Елки-палки, да половина косметических фирм тем же занимается: подсадят бабу на какой-нибудь крем от морщин, а потом без этого крема несчастная дура уже жить не сможет – сразу вся харя обвиснет.
Обвинение в антироссийских помыслах вывело аптекаря из себя, он все никак не мог успокоиться.
– А сам Куцый? Держит чуть не всех наших гранд-дам на коротком поводке, как жучек. Они обязаны к нему раз в год за очередной дозой красоты бегать. Придумано гениально, снимаю шляпу. Это ж надо такой лоббистский механизм изобрести! Через своих клиенток он может и от их мужей чего хочет добиться. Круче депутатской неприкосновенности! Как же, ведь если с Миратом Виленовичем не дай Бог что случится, у нас в стране придется глянцевые журналы запретить – половина записных красавиц превратится в страхолюдных жаб. А Куцему все мало. «Ильич» мой! – Ястыков ударил ладонью по столу. – Я все устроил, все подготовил, приватизацию пробил. Сколько сил, сколько времени потратил, не говоря уж о деньгах. А тут этот, на готовенькое!
Всякий человек, если его хорошенько послушать и встать на его точку зрения, оказывается по-своему прав, подумал Николас. И, чтобы отогнать проклятую интеллигентскую объективность, спросил:
– Правда ли, что длительное употребление «суперрелаксана» сказывается на репродуктивной способности?
Веселой Жанне вопрос показался смешным, зато Олег Станиславович отнесся к нему серьезно. – Да, и это мне больше всего нравится.
– Каждый человек сам выбирает, что ему делать со своей жизнью. У нас свободная страна. Жанночка вон тоже «розовым фламинго» увлекается, но для нее это вроде чашки кофе. Слишком высокая интенсивность нервной энергии, сумасшедший уровень адреналина, кокс выполняет функцию модератора. А «суперрелаксан» будут жрать уроды, которым нравится хрюкать, валяясь в навозе. Зачем нам с вами, Николай Александрович, репродукция уродов? Будь моя воля, я бы бесплатно в дешевую водку, в бормотуху всякую своего препарата подмешивал, чтоб дебилов не плодить. – Ястыков покровительственно похлопал Николаса по руке. – Вот вы образованный, думающий человек, так? Скажите мне, разве все беды человечества происходят не оттого, что нас, людей, на свете слишком много? Соответственно девальвируется цена одной отдельно взятой личности. На что похожа Тверская в разгар дня? Какая-то банка с кильками пряного посола. Если бы нас было в тысячу раз меньше, не было бы ни преступности, ни убийств, ни социальных пороков. И уважали бы друг друга в тысячу раз больше. А если бы еще перестали размножаться слабые, глупые, никчемные (а именно такие и становятся наркоманами), весь наш биологический вид достиг бы невероятной степени развития. Этот новый мир был бы прекрасен, не то что сейчас. Ты что, Жаннуля, улыбаешься? Разве я не прав?
– Прав, Шопенгауэр, прав. – Она привстала, потянулась к нему через стол. – Дай поцелую, спаситель человечества.
Олег Станиславович с деланным испугом отпрянул.
– Попрошу без сексуального харассмента, мисс Богомолова! У нас чисто деловые отношения.
Должно быть, при этих словах на лице Николаса появилось некоторое удивление, потому что Ястыков счел нужным пояснить:
– Вы что же, думали, у нас с Жанной союз любящих сердец? Нет, Николай Александрович. Во-первых, отношения заказчика с подрядчиком должны быть платоническими, это азбука. А во-вторых, я побоялся бы ложиться с этой опасной особью в одну постель. Мне жить не надоело. Еще увлечется и придушит. Или заспит, как деревенская баба младенца.
Жанна улыбнулась:
– А еще хвастался, что сексуальный террорист. – Закурила сигару, мечтательно потянулась. – Ах, мальчики, вы не представляете, какой кайф трахаться с объектом заказа.
– С кем? – не понял Николас.
– С тем, кого тебе заказали. Это мой самый любимый трюк. Чтоб кончить одновременно – и самой, и его. Невероятный экстаз! Знаете, почему я сделала себе документы на фамилию Богомолова? Потому что самка богомола, потрахавшись с самцом, немедленно откусывает ему башку. Ам! – щелкнула она зубами перед носом Фандорина.
Тот от неожиданности чуть не упал с табуретки. Под дружный хохот заказчика и подрядчицы вспомнил сцену неудачного соблазнения в «Холестерине» и содрогнулся.
Ястыков, все еще смеясь, поцеловал Жанне руку.
– Вы даже не представляете, каким страшным оружием являются эти тонкие ручки и наманикюренные пальчики. Покажи ему, киска.
Снисходительно улыбнувшись, Жанна взяла стакан, чуть сдавила большим пальцем и мизинцем. Стекло хрустнуло, посыпалось на стол.
– В моей профессии быть женщиной удобно. – Она выпустила облачко дыма, стряхнула пепел в обломок стакана. – Вот тогда, на шоссе, разве вы, Николай Александрович, подошли бы к джипу, если б за рулем не сидела баба? Вся такая женственная, беспомощная, а? От моих дураков вы не раз убегали, а со мной этот номер не прошел. Я вам сделала сначала кис-кис, а потом цап-царап.
Никогда еще Фандорин не встречал женщины, хотя бы отдаленно похожей на Жанну. Смотреть на нее, слушать ее было одновременно и страшно, и интересно.
– Послушайте, почему вы… такая? – спросил он. – Ну, не знаю… Такая безжалостная, такая нечеловеческая.
Неуклюжее слово вырвалось само собой, и Николас испугался, что Жанна обидится. Но нет – она, кажется, была даже польщена. Спросила:
– Хотите знать, в чем мой моторчик?
– Что? – удивился он.
– В каждом человеке есть моторчик, который руководит всеми поступками. Я этот моторчик сразу вижу. Например, у Олежека он называется «злость». Ты, золотце, живешь и все время злишься на тех, кто вокруг тебя. В яслях отнимал у других детей игрушки – не потому что тебе были нужны эти совочки или машинки, а от злости. Теперь вот отнимаешь контрольные пакеты акций. А у вас, Николай Александрович, моторчик называется «умеренность». Вам хочется всегда и во всем соблюдать чувство меры, приличность, правила и тому подобное. Я же отношусь к породе человеков, моторчик которых – любопытство. Чаще всего такими рождаются мальчики, но попадаются и девочки. В детстве мы отрываем крылышки у бабочек или выкалываем глаза пойманному мышонку – не из садизма, а из любопытства. Хотим посмотреть, что будет. Потом, когда вырастаем, наше любопытство распространяется на самые разные предметы. Из нас получаются великие ученые, первооткрыватели. Или, вроде меня, специалисты по любопытным ситуациям, наилюбопытнейшая из которых смерть. Ведь правда же, смерть – самое интересное событие в жизни каждого? – Жанна перевела оживленный взгляд с одного мужчины на другого. Оба помалкивали, только Ястыков с улыбкой, а Фандорин без. – Сколько раз я это видела, и все мало. Чем дальше, тем любопытней. Сначала поражалась тому, что никогда не угадаешь, как кто будет умирать. Бывает, крутейший мужик, прямо Рэмбо, а в последний момент расхнычется, как ребенок. Или, наоборот: затюханный, почти бесполый заморыш вдруг возьмет и улыбнется так спокойно, красиво – залюбуешься. Теперь-то я научилась угадывать, и то, бывает, ошибаюсь. Но в вас, – она оценивающе посмотрела на Николаса, – я уверена. Умрете молодцом, готова поставить десять тысяч.
– Идет! – сразу же откликнулся Олег Станиславович. Принято: десять тысяч баксов.
Ника, хоть и подозревал, что это не шутка, испугался несильно. И так было ясно, что живым он не выпутается. Детей бы спасти.
А Жанна все изучала его прищуренным взглядом гурмана.
– Просить ни о чем не будет, – спрогнозировала она. – Плакать тем более. Вообще не произнесет ни слова, сочтет ниже своего достоинства. Глаза закроет или посмотрит в небо. В общем, красиво умрет. И за это, Николай Александрович, я вас потом поцелую. Я всегда так делаю, когда человек красиво умирает.
Вот тут, представив себе этот посмертный поцелуй, он испугался до судороги. И злобно подумал: плакали твои десять тысяч – нарочно буду орать благим матом.
– Ладно, киска, хватит, – сказал Ястыков. А то перестараешься. Человек уже проникся, осознал. Ведь прониклись, Николай Александрович?
– Проникся, – ответил Фандорин, и ему самому понравилось, как сухо, иронично это прозвучало.
– А по-моему, не очень. – Жанна потушила сигару прямо о клеенку – противно запахло химией. – Давай, котик, еще пари на его татарочку заключим.
Николас Фандорин в жизни (во всяком случае, с ясельного возраста) не бил женщину и даже не предполагал, что способен на такое, а тут с утробным, совершенно нецивилизованным рычанием потянулся, чтоб схватить подрядчицу за плечи и вытрясти ее черную душу. Но Жанна легко, словно играючи стукнула его ребром ладони по запястью, и правая рука сразу онемела, безвольно опустилась, так что пришлось схватиться за нее левой.
Олег Станиславович поморщился:
– Все-все, иди, отдохни. Мы с Николасм Александровичем поговорим тет-а-тет.
– Как-нибудь после додеремся, ладно? Профессионалка послала Николасу воздушный поцелуй, заказчику просто кивнула и вышла из кухни.
Мужчины проводили ее взглядом. Потом Ястыков сказал:
– Не берите в голову, Николай Александрович. Если исполните свою работу чисто, ничего с вашей семьей не случится.
А со мной? – чуть было не смалодушествовал Фандорин, но удержался. Ответ был и так ясен. Разве они оставят в живых такого свидетеля?
Поэтому ограничился кивком.
Ястыков отлично понял смысл паузы.
– Приятно иметь дело с выдержанным человеком. Излагаю суть проблемы. Сразу же по завершении операции мы связались с Куценко, объяснили ему расклад. Он, естественно, потребовал разговора с дочерью. Хочет убедиться, что она цела. Нормальная родительская реакция. Но штука в том, что девчонка заупрямилась. Ей суют трубку – сжала губы, и ни звука. Когда Куцый понял, что телефонного разговора с дочерью не будет, у него даже голос задрожал. Последний раз я слышал, как у него дрожит голос, в пятом классе, когда я его на переменке промокашкой кормил. Если Мират вообразит, что девчонку угрохали, начнется третья мировая война. Он хоть и шахматист, но от воспаления отцовских чувств может утратить адекватность… Скажу честно, я был за то, чтобы хорошенько надрать паршивке уши, но Жанна отсоветовала. Говорит, что девчонка крепкий орешек и что лучше прибегнуть к вашей помощи.
Олег Станиславович повертел бриллиантовый перстень на мизинце, рассеянно полюбовался игрой света.
– Сказала, поболтаем с ним немножко, постращаем. Станет как шелковый. Но я, знаете ли, тоже психолог, и вижу, что с вами нужно начистоту, по-честному. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Убедите вашу воспитанницу поговорить с папашей. Что именно она будет нести – не важно. Главное, чтобы он услышал ее голос.
Фандорин хмуро сказал.
– Она думает, что я ее предал. Не захочет со мной говорить.
– А это уж не моя проблема. Или у вас есть товар, или нет. Если нет, придется платить собственной плотью. Знаете, как у Шекспира.
Разговор с Мирандой был тягостным. Собственно, разговором это назвать было нельзя, потому что говорил один Фандорин, а его ученица сидела на кровати, подобрав ноги, и смотрела в стену. Николасу был виден ее профиль: сверкающий ненавистью глаз, закушенная губа. Рука Миры сжимала тонкую щиколотку. Один раз девочка отняла руку, чтобы почесать локоть, и Николас увидел на щиколотке белую полосу – так бешено стискивала она пальцы.
Он ужасно волновался. Сам понимал, что несет путаную галиматью, поверить в которую совершенно невозможно. И Мира, разумеется, не верила. А скорее всего, даже не слушала. Просто смотрела в стену и все.
– Я виноват перед тобой… Перед всеми вами. Я идиот, клюнул на приманку… Но я тебя не предавал, честное слово, – пробормотал он совсем уж жалким тоном. – Поговори с отцом, прошу тебя. Если ты откажешься, они тебя убьют. У них не будет другого выхода…
В ответ Мира шмыгнула носом, но, похоже, не от сдерживаемых слез, а от ярости.
Упавшим голосом, уже ни на что не надеясь, Николас сказал:
– Неужто какой-то там химкомбинат стоит дороже жизни? Обычная сделка. У твоего отца будут и другие, не менее важные. Не понимаю…
Не оборачиваясь, она процедила:
– Где уж тебе.
Он встрепенулся. Слава богу, заговорила! И быстрей, быстрей, пока она снова не спряталась в свою раковину:
– Да что тут понимать? Твоему отцу нужны барыши, Ястыкову тоже. Конечно, Мират Виленович несколько разборчивей в средствах, но тоже не ангел. Ты ведь не маленькая. И не слепая. Твой отец предприниматель, который делает деньги, и большие деньги. А в наших джунглях делать большие деньги без острых клыков, да еще заботясь о чистоте рук, совершенно невозможно.
– Не в деньгах дело, – отрезала Мира.
– А в чем же тогда?
– Своему нож в спину не втыкают. Так Роберт Ашотович говорил. Папа ждал, надеялся, а теперь из-за меня все псу под хвост? Да я лучше сдохну!
Она снова зашмыгала носом, но теперь уж точно от слез – рукавом вытерла щеку, потом еще и еще.
Николас подошел, сел рядом, протянул свой платок.
– Ты для него во сто крат важнее всех комбинатов, – сказал он тихо. – Что ему все деньги на свете, если он тебя потеряет?
Она закрыла лицо руками. Плечики сотрясались от рыданий, и Николасу захотелось их обнять, погладить девочку по голове, прижать к груди.
Не стал – побоялся, что оттолкнет.
– Ты так говоришь, потому что о своих детях заботишься! – всхлипывая, выкрикнула Мира. – А на папу тебе наплевать! Только соври, что это не так!
Она впервые повернулась к нему. Блестящие от слез глаза обожгли Фандорина неистовым пламенем, и он смешался, опустил голову.
– Ну то-то. – Миранда высморкалась. – Ладно, не трясись. Скажи этим козлам: поговорю.
Телефонный разговор состоялся в третьей комнате, такого же нежилого вида, как две остальные, но побольше размером и с телевизором. У стен – диваны, на них разложены портативные рации, еще какая-то аппаратура непонятного назначения, два короткоствольных автомата со складными ручками. Ясно – помещение для охраны.
У стола, на котором посверкивал огонечками замысловатого вида аппарат, стояла Жанна, прослушивала что-то через наушники. Выходит, не отдыхала, хотя из кухни была отправлена в комнату именно за этим. Да нет, сообразил Фандорин. Это у нее с Ястыковым с самого начала было уговорено: злой следователь исполняет свою арию и уходит, оставив запуганного арестанта со следователем разумным и понимающим.
– Смотри, Ника, если эта будет молчать, расплачиваешься ты, – предупредила Жанна, а на Миру даже не взглянула.
Николас оценил точность этого психологического приема.
– Поехали.
Ястыков надел вторые наушники, и Жанна быстро набрала номер. На пульте задергались зеленые и красные индикаторы – должно быть, подавление локализации звонка, подумал Николас.
– Господин Куценко? – Тембр у Жанны изменился. Стал металлическим, неживым, как у офисного автоответчика. – С вами будет говорить дочь.
Сунула трубку Мире не глядя, словно нисколько не сомневалась в ее покорности.
Та взяла, набрала воздуху и дрожащим голосом пролепетала:
– Папа, это я… Прости меня. Я так тебя подвела…
Поскольку Николасу наушников не выдали, он слышал лишь половину диалога и почти ничего в нем не понимал, тем более что говорил в основном Куценко, Мира же односложно отвечала.
– Нет, – сказала она вначале. – Все нормально.
Потом, мельком взглянув на Нику и секунду поколебавшись:
– Он в порядке.
Фандорин надеялся, что правильно истолковал значение этой фразы – подозрение в предательстве с него снято.
– Да. И он, и она, – сказала затем Мира, покосившись на Ястыкова с Жанной. И после этого уже ничего не говорила, потому что к беседе подключился Олег Станиславович.
– А ты думал? – хмыкнул он. – Конечно, слушаем. Ну что, Куцый? Как будем работать?
Долгая пауза.
– Нет, не пойдет, – заявил Ястыков. – Давай лучше…
Не договорил. Очевидно, Мират Виленович его перебил.
Жанна отобрала у Миры трубку – девочка свою роль уже отыграла.
– Зачем так громоздко? – снова возразил Олег Станиславович. – Я на это согласиться не могу…
А сам подмигнул Жанне и показал ей большой палец. Похоже, возражал не всерьез – все шло по плану.
– Разъединился, – улыбнулся Ястыков, снимая наушники. – Ух, какой крутой и непреклонный. Отлично, Жаннуля, ты опять угадала.
– Гадают на кофейной гуще, а это называется прецизионный расчет, – назидательно ответила та. – Ну вот, Ника. Как и предполагалось, благородный отец потребовал, чтобы посредником был ты. Тянутся к тебе люди, доверяют. Будешь исполнять арию «Фигаро здесь, Фигаро там». Оплата согласно договоренности.
– Сколько вы ему платите? – быстро спросила Миранда. – А ну говорите, не то больше к телефону не подойду. Сами слышали папино условие: чтоб я звонила каждые два часа.
Задетый презрительностью ее тона, Николас не смог себе отказать в горьком удовольствии, попросил:
– Расскажите, Олег Станиславович, какой гонорар мне причитается.
Хотел устыдить Миру, а вместо этого встревожил Ястыкова. Быстро переглянувшись с Жанной, предприниматель сказал:
– Николай Александрович, мы же договорились. Если вас эти условия не устраивают, я готов дополнительно выплатить компенсацию вашей семье. Но оставить вас в живых я не могу. Лучше назовите сумму, и, можете быть уверены, я ее выплачу. Я человек слова.
Отличная мысль пришла в голову Фандорину. Рано или поздно Алтын выяснит, кто убил ее мужа, она такая. А докопавшись до истины, непременно захочет расквитаться. Представления о морали у нее не христианские, врагам она прощать не умеет, и за вырванное око выцарапает два. Честно говоря, в данный момент он не мог осуждать ее за кровожадность нрава. Интересно, сколько стоят услуги хорошего киллера, который взял бы заказ на этого кота Базилио с его лисой Алисой?
Пятьдесят Тысяч?
Сто?
Направление, которое приняли мысли магистра истории, объяснялось, конечно же, только расстройством нервов и эмоциональной истощенностью, но это сейчас Фандорину было все равно. Он улыбнулся и сказал:
– Сто тысяч долларов. Переведите прямо сейчас. Банковский адрес у меня в записной книжке…
– Нет! – крикнула Миранда. Не истерически и не жалобно, а властно – да, так, что все к ней обернулись.
– Он останется жив. Иначе вместо комбината вам будет хрен с кисточкой, ясно?
Если бы девочка говорила дальше, размахивала руками, визжала, ее, наверное, стали бы запугивать, но она больше не произнесла ни слова. Набычилась, выпятила вперед подбородок, и стало ясно, что нужно или убивать ее на месте, или соглашаться.
Жанна разглядывала Миру с интересом.
– В сущности, – протянула специалистка по любопытным ситуациям, – что он такого уж особенного знает? Ну, меня видел. Так не он один. Это ерунда. За мной гоняться все равно что за ветром в поле.
– Мне это не нравится, – качнул головой Ястыков. – Против моих правил. Он смотрел, слушал. Был лишний треп. Нет-нет.
И тут Мира выкинула номер. Схватила со стола канцелярские ножницы, что было мочи оттянула свой розовый язычок и замычала – нечленораздельно, но смысл мессиджа был очевиден: сейчас отрежу.
Ястыков посмотрел-посмотрел на эту эффектную картину, поморщился.
– Ну вот что, Николай Александрович, – сказал он весомо и мрачно. – Если ваши дети станут себя плохо вести и вам захочется от них избавиться, просто расскажите кому-нибудь, все равно кому, о том, что вы здесь видели и слышали. Я немедленно об этом узнаю и пойму ваш намек. Окей?
До сего момента Фандорин крепился, старался держаться мужчиной, а теперь побледнел, задрожал. Возвращение к жизни, на которой ты уже поставил крест, – процесс не менее мучительный, чем расставание с ней. Воспитанница Краснокоммунарского детдома только что совершила невозможное – добилась помилования для осужденного смертника. И как просто! Несколько коротких фраз, смехотворная выходка с ножницами, и ты спасен.
Во всяком случае, приговор отменен хотя бы на словах.
Ровно в полдень Фандорин поднялся на второй этаж «Кофе Тун», что на Пушкинской площади. Поискал взглядом Мирата Виленовича, не нашел.
За четырьмя дальними столиками сидели крепкие молодые люди в костюмах и галстуках, перед каждым нетронутая чашка эспрессо. Один приподнялся, помахал рукой. Николас приблизился, узнал: охранники из Утешительного. Тот, что подозвал его жестом, молча показал на пятый столик, расположенный между остальными. Ника кивнул, сел. Второй стул пока был пуст. Господин Куценко еще не прибыл.
Минуты три ничего не происходило, только подошла официантка и спросила:
– Вы вместе? Тоже эспрессо?
Он рассеянно кивнул, разглядывая охранников. Четверо не отрываясь смотрели вниз, на первый этаж, остальные внимательно наблюдали за соседними столиками.
В три минуты первого охранники, следившие за первым этажом, синхронно сунули правую руку под мышку.
Фандорин посмотрел вниз и увидел, что в стеклянную дверь входит Куценко. Он был в смокинге и белом галстуке – пальто, должно быть, оставил в машине.
Впереди предпринимателя шел Игорек, сзади двое телохранителей.
Брезгливо морщась на громкую музыку, Мират Виленович поднялся по лестнице. Охранники остались стоять посередине пролета, откуда просматривались подходы к кофейне, секретарь устроился в сторонке, за пустым столом, так что беседа двух отцов происходила тет-а-тет.
Обменялись рукопожатием. Помолчали.
Поймав взгляд, брошенный Фандориным на смокинг, Куценко угрюмо сказал:
– Я прямо из «Националя», с завтрака в честь немецкого партнера. Надо ведь делать вид, что ничего не произошло.
Хотела подойти официантка, подать Никин эспрессо, телохранители ее к столику не подпустили. Один взял чашку, поставил ее сам и тут же сел на свое место.
– Какая работа насмарку. – Мират Виленович смотрел на дымящийся кофе. Говорил медленно, словно через силу. – Гебхардт в шоке. Он принял ответственное решение, готов вложить в проект огромные деньги и не понимает, с чего это вдруг я стал вилять. А объяснить нельзя… Ох, Ясь, Ясь. – Куценко передернулся. – У вас когда-нибудь был враг? Настоящий, на всю жизнь. Который снился бы вам с детства почти каждую ночь?
– Бог миловал.
– Ну, тогда вы меня не поймете. Ладно, извините. Это к делу не относится… Во-первых: как они обращаются с Мирой?
– Нормально. Нас держат в разных комнатах, но перегородки там тонкие, современные. Я бы услышал, если что.
– Что за место?
– Мне в машине завязывают глаза и надевают наручники. Многоэтажный дом, где-то на окраине. Точнее не скажу.
Куценко кивнул, будто именно такого ответа и ждал.
– Хорошо. Теперь условия. Чего конкретно он хочет?
– Заседание по тендеру на покупку Ильичевского химкомбината начинается завтра в десять. Насколько я понял, будет нечто вроде аукциона. Стартовая цена назначена…
Николас наморщил лоб, боясь перепутать цифры.
– 80 миллионов, – подсказал Куценко. – Для Яся верхняя планка – 95 миллионов. Это все, что он смог мобилизовать. Я с помощью «Гроссбауэра» его легко забил бы. Что нужно Ясю? Чтобы я не явился?
– Нет. Вы один из ключевых соискателей. Если не придете, аукцион могут перенести на другой день. Чиновники из Госкомимущества побоятся, что их потом заподозрят в нечистой игре. Поэтому Ястыков хочет, чтобы вы пришли и приняли участие в торгах. Довели цену до 85 миллионов и потом отступили. Как только тендер завершится, Ястыков позвонит, чтобы нас с Мирой отпустили.
Мират Виленович скрипнул зубами. – Хочет взять такой куш за 85 лимонов? Губа не дура. «Ильич» тянет самое меньшее на сто двадцать. Мне бы только сдержаться, когда я его завтра увижу… Теперь о главном. Как по-вашему, он выполнит обещание или все равно ее убьет?
Предприниматель старался говорить бесстрастно, но в конце фразы голос все-таки сорвался.
– Зачем? – потрясенно воскликнул Николас. – Если он своего добился!
– Вы опять не понимаете. Это не только бизнес, это личное. Ясь мечтает меня растоптать, и теперь у него есть такая возможность. Он не просто срывает куш. Он губит мою репутацию перед главным партнером. А сладостнее всего ему будет, если он разобьет мне сердце…
Куценко снова запнулся.
Николаса поразил мелодраматический оборот речи, совершенно неожиданный в устах столь респектабельного господина. Жанна говорила про моторчик, который движет каждым человеком. Каким же топливом питается неистовый двигатель этого Наполеона от медицинской индустрии? Что если Мират Виленович всю жизнь, с пятого класса, несется наперегонки с мальчиком-мажором? А тот все кормит и кормит его грязной промокашкой…
– Отправляйтесь в «Пушкин», – прервал психоаналитические размышления Фандорина владелец «Мелузины», – Мне нужны твердые гарантии, что Мира останется жива.
Подземным переходом, мимо ларьков, мимо газетных и цветочных киосков, посредник шел на противоположную сторону площади, где в ресторане «Пушкин» расположился штаб второй из конфликтующих сторон.
Ястыков и его охрана заняли весь третий этаж. Перед каждым из десятка телохранителей белело по нетронутому капучино, сам же Олег Станиславович и Жанна с аппетитом завтракали устрицами и фуа-гра.
А ведь, пожалуй, Куценко прав, подумал Николас, оглядывая бонтонный интерьер. Контраст между дешевым кафе и шикарной ресторацией неслучаен – Ясь празднует победу со смаком, даже в этом хочет продемонстрировать свое превосходство.
– Ну? – Жанна вытерла салфеткой лоснящиеся от гусиной печенки губы. – Как прошло родительское собрание?
– Ему нужны гарантии, – сказал Фандорин.
И снова полутемный зальчик «Кофе Тун». Сиротливо дымящаяся чашечка кофе перед Миратом Виленовичем, громкая музыка, напряженные лица телохранителей.
– Извините, но он просил передать слово в слово. – Николас опустил глаза и тихо повторил послание Ястыкова. – «Никаких гарантий, Куцый. Подрыгайся».
У Мирата Виленовича чуть дрогнул угол губы.
– Я вам говорил. Он ее убьет…
– А по-моему, это как раз признак неплохой. Я, пока шел сюда, все думал… Мне кажется, что я начинаю понимать его психологию. Судя по этой грубости, да и по разным другим признакам, Ястыкову нравится вас унижать. А из этого следует, что он получит гораздо большее удовлетворение, если не убьет Миру, а вернет – или, с его точки зрения, швырнет – вам ее обратно. По его представлениям, это и будет демонстрацией абсолютного превосходства. Лицо Куценко просветлело.
– Да-да, это очень на него похоже. Я помню, как в шестом классе папа на день рождения подарил мне японский фонарик. Это была настоящая роскошь. Вы не представляете, сколько для меня значила эта блестящая штуковина с разноцветными кнопочками. Впервые в жизни у меня появилось что-то, чему завидовали другие. Я взял фонарик в школу и полдня был самым главным человеком в классе. Кому-то давал подержать это сокровище, некоторым избранным позволял зажечь лампочку и покрутить цветные фильтры. А после третьего урока фонарик отобрал Ясь. Я канючил-канючил, но он только смеялся. В конце концов, наигравшись, вернул, но сначала расколол стекло – просто так, из подлости. И еще сказал: «На, Куцый, теперь можно».
– Ну вот видите, – обрадовался Николас. – Вернул же!
– А что если… – Мират Виленович понизил голос. – Если он и с Мирой поступит, как с тем фонариком? Вы… вы понимаете, что я имею в виду?
Глядя в искаженное мукой лицо предпринимателя, Фандорин почувствовал, как по коже пробегает озноб. Вспомнилось, как Ястыков смотрел на высунутый язычок Миранды: глаза зажглись странным блеском, мясистая нижняя губа плотоядно выпятилась. Как Жанна его назвала – «сексуальный террорист»?
Но развивать эту нехорошую тему не следовало, пора было перевести разговор в конструктивное русло. Именно так профессионал до добрым советам и поступил:
– Я бы посоветовал вам выдвинуть следующие условия. Ровно в десять утра, когда начнется аукцион, нас с Мирой должны выпустить из квартиры. Пускай нас сопровождают охранники – до той минуты, пока вопрос о комбинате не разрешится. Тогда охрана нас отпускает совсем. По-моему, это компромисс, который устроит обе стороны. Ведь если вы Ястыкова обманули, его люди могут застрелить на месте нас обоих. Это дело одной секунды.
– А если он обманет? Я уступлю комбинат, а вас все равно убьют?
– Не думаю, – гордясь собственным хладнокровием, ответил Ника. – Одно дело, если Ястыков разъярен и жаждет мести. И совсем другое, если он получил то, чего хотел. Убивать нас среди бела дня, на глазах у прохожих – риск. Не станет он рисковать такой сделкой, только чтоб сделать вам больно. Я видел этого человека, разговаривал с ним и составил о нем определенное представление. Безусловно мерзавец. Но прагматического склада. Подличать во вред себе не станет.
– Согласен. – Куценко нервным жестом сдернул очки, потер переносицу. – Предложение отличное, Ястыкову нечего будет возразить. Я буду с вами на постоянной мобильной связи, а Ястыков – на связи со своими гориллами. Ну, то есть сам я с вами говорить не смогу, на контакте будет Игорек. Как только аукцион закончится и вас с Мирочкой отпустят, немедленно отправляйтесь… ну, скажем, на ближайшую станцию метро и ждите, пока за вами приедут.
– А если нас не захотят отпустить, поднимем крик на весь квартал. Уж можете мне поверить – шито-крыто у них не получится.
– В ту же самую секунду, как это произойдет, я прямо там, в Госкомимуществе, схвачу Яся за горло и сделаю вот так.
Куценко взял с блюдца чашку, сдавил ее своими тонкими пальцами, и фарфор лопнул. Горячий кофе полился по запястью Мирата Виленовича, по белому манжету, но на лице доктора не дрогнул ни единый мускул.
Конечно, в исполнении женщины трюк с раздавленной емкостью смотрелся гораздо эффектней, да и стакан толще, чем фарфоровая чашка, и все же Николас был впечатлен демонстрацией брутальности и самим сходством ситуаций. Все хищники похожи друг на друга, пронеслось в голове у магистра. Вне зависимости от породы и размера, инструментарий у них один и тот же: клыки, когти, стальные мышцы.
Вытирая руку салфеткой, Куценко сказал:
– Я не благодарю вас, потому что словами моих чувств все равно не выразить. Вы и так понимаете, вы тоже отец…
Он повернулся к секретарю, подал ему какой-то знак.
Игорек подошел, подал пластиковую сумочку.
Николас изумленно захлопал глазами. Это еще что такое? Подарок в знак благодарности?
Конфузясь, Мират Виленович попросил:
– Вот, передайте, пожалуйста, Мирочке. Это ее любимая пижама. И еще шоколад «Вдохновение». Для нее это главное лакомство, еще с детдомовских времен…
И отцы разом, как по команде, нахмурились, чтоб не дай Бог не прослезиться.
В «Пушкине» уже кушали десерт: Ястыков – миланез с апельсиновым кремом, Жанна – антреме из тропических фруктов.
Новое явление парламентера было встречено дружным, заливистым смехом.
Вытирая слезы, Олег Станиславович выдавил из себя:
– Ой, не могу… «Что если он с Мирой поступит, как с фонариком?» У… у… умора!
А идея хороша! Как мне самому в голову не пришло! Сдуть пыльцу невинности! А все Ку… Куцему спасибо!
Остолбенев, Фандорин смотрел на веселящуюся парочку, и его ошарашенный вид вызвал новый приступ истерического хохота.
– Три раза! – Жанна, давясь, показала три пальца. – На те же грабли! Ничему не научился!
Она приподнялась со стула, сунула Николасу руку в нагрудный карман пиджака – того самого, из магазина «Патрик Хеллман» – и вынула какой-то маленький шарик.
Микрофон!
Все это время они подслушивали!
В самом деле, он неисправимый идиот: ни история с Гленом, ни история с капитаном Волковым не научили его элементарной осторожности.
Сделав невозмутимое лицо (а что еще оставалось?), Ника холодно сказал:
– Делаю вывод, что условия, выдвинутые господином Куценко, вам известны.
– Известны-известны. – Жанна показала ему большой палец. – Классные условия. Ты, Ника, показал себя молодцом.
Олег Станиславович кивнул.
– Да. Подите, скажите Куцему, что все нормально. А про пыльцу невинности это я пошутил. Цыплячья грудка и сиротские хрящики мадемуазель Миранды меня нисколько не привлекают. Вперед! Фигаро здесь – Фигаро там. А мы пока ударим по дижестивчику. Верно, золотко?
Он думал, что ночью не сомкнет глаз. Прилег на кровать больше для порядка. Закинул руку за голову, стал представлять себе, как все завтра произойдет. Что если в Ястыкове подлость окажется сильнее прагматизма?
Зажмурился, представил.
Два приглушенных щелчка. Высокий мужчина и худенькая девушка ни с того ни с сего падают на асфальт. К ним подходят, наклоняются, не могут понять, в чем дело. А тем временем двое или трое парней как ни в чем не бывало уходят прочь, растворяются в толпе…
Просто поразительно, что с такими видениями Фандорин все-таки уснул. Единственным объяснением могла быть усталость. Как-никак вторая бессонная ночь подряд.
На рассвете он проснулся оттого, что скрипнула дверь и по полу прошелестели невесомые шаги.
Спросонья сказал себе: это Алтын вставала в туалет. Собирался упасть обратно в сон, и вдруг вспомнил, где он. Рванулся с подушки.
У приоткрытой двери стояла Мира. Она была в розовой пижаме с жирафами – очень похожей на ту, в которой спала четырехлетняя Геля.
– Тс-с-с, – приложила палец к губам ночная гостья.
Прикрыла дверь, бесшумно пробежала по паркету и села на кровать.
– Ты что? – прошептал он. – Как ты вышла из комнаты?
– Стояла у двери, слушала. Ждала, пока этот в сортир уйдет или еще куда. Вот, дождалась.
– Но в кухне же еще один! Мог услышать. Мира усмехнулась, ее глаза блеснули мерцающими огоньками.
– Как же, услышит он. Я умею ходить вообще без звука. Мы ночью всегда из палаты в палату шастали. Смотри, смотри, что я нашла! В пижаме было.
Он наклонился к маленькому бумажному квадратику. Напрягая глаза, прочел: «Не бойся, доченька. Папа тебя спасет».
– Видал? – возбужденно спросила она. – Я всю ночь не спала, хотела тебе показать! Подвинься, я замерзла.
Залезла к нему под одеяло, прижалась ледяными ногами.
Спокойно, приказал себе запаниковавший Николас. Это невинная детдомовская привычка. Осторожно, чтоб не обидеть, отодвинулся, но Мира немедленно придвинулась вновь.
– Ты такой теплый! И длинный, как удав из «Тридцать восемь попугаев». – Она прыснула. Оперлась на локоть, мечтательно сказала. – Он вообще застенчивый. Вроде как стесняется меня. А тут «доченька». Никогда так меня не называл. Значит, не сердится.
Николас уже взял себя в руки, запретил организму поддаваться ненужным реакциям. Ну и что с того, что девушка положила тебе руку на плечо, а коленку пристроила на бедра? Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
– Что ж ему на тебя сердиться? – сказал Фандорин. Хотел погладить девочку по трогательно белеющей в полумраке головке, но не стал – немного подержал руку в воздухе и осторожно опустил. – Разве ты в чем-нибудь перед ним виновата? Ничего, завтра все кончится. Нас отпустят, мы доберемся до метро, и за нами приедет твой папа.
– В метро? Ой, я там еще ни разу не была. Говорят, жутко красиво. Знаешь, меня же все на машине возят, с темными стеклами. Только что глаза не завязывают, как эти.
Мира заерзала, устраиваясь поудобней, и Николас почувствовал, что проклятый организм, раб первобытности, начинает выходить из-под контроля.
– Ты лежи, грейся, – пробормотал магистр, выбираясь из кровати. – А я все-таки попытаюсь сориентироваться, в какой части Москвы мы находимся.
У окна перевел дух. Стал всматриваться в белую от свежевыпавшего снега улицу, в дома, где уже загорались огни – восьмой час, скоро начало рабочего дня.
Подошла закутанная в одеяло Мира, встала рядом. Ее затылок белел на уровне Никиного локтя.
– Вон, смотри, какой домина. Раз, два, три, десять, шестнадцать, целых двадцать два этажа! И еще вон четыре трубы. Ты же москвич. Может, узнаешь?
– Нет, в Москве таких мест много.
– Гляди, гляди! – Она встала на батарею и обхватила его за шею – теперь их щеки были на одном уровне. – Вон на небе светлая полоска!
– Ну и что?
– Как «что»! Еще учитель! Откуда солнце-то восходит?
А ведь действительно! Восток справа, примерно под углом сорок пять градусов. И там, кажется, кольцевая дорога, дома кончаются. Значит, какой это край Москвы? Юго-восток?
Нет, северо-восток.
Глава двадцатая
Опасные связи
– Северо-запад – вот в какой стороне света сияет солнце нашей империи, что бы там ни утверждала географическая наука. Именно туда, к балтийским водам, мы с господином конногвардейским вахмистром завтра поутру и устремимся – обогреться лучами милости матушки-государыни. Я, конечно, не «херувимчик» и не «жемчужинка», как называет вашего сынка ее царское величество, но, глядишь, и мне на радостях какая-никакая награда достанется. – Прохор Иванович смиренно улыбнулся. – Кресточек ли, звездочка, а дороже бы всего ласковое от матушки слово.
– Это вне всякого сомнения так! – горячо поддержал его Алексей Воинович. – Благосклонное слово монарха – наилучшее вознаграждение для благородного человека. Драгоценнейшая реликвия нашего семейства – собственноручно начертанное высочайшее выражение признательности Митридату. «Вечно признательна. Екатерина». Вот оно, я хранил его до твоего возвращения. – Папенька благоговейно вынул из шкапчика пропись с царицыным росчерком, подал сыну.
Митя повертел бумажку, сунул в карман. На стенку, что ли, повесить?
– Но и вещественные знаки августейшей милости тоже отрадны, – продолжил папенька. – Душевно прошу передать мою нижайшую признательность ее величеству за присланные с вашим превосходительством червонцы. Не деньги дороги – августейшее внимание.
– Передам, передам. – Тайный советник благодушно кивнул, почесывая голову под черным париком. – И вашу просьбу о дозволении состоять при сыне тоже передам. Отчего бы нет? Где это видано – родителей с детьми разлучать. Ничего, недолго князь Платону над человеческой природой и христианскими установлениями глумиться. Уж можете мне верить. Имею на сей счет самые верные сведения.
– Ужель? – обрадовался папенька и переглянулся с маменькой. – Ах, душа моя, то-то было бы счастье!
Та ответила лучезарной улыбкой, подлила гостю чаю.
– А вот наш старшенький, – сказала она. – Поклонись, Эндимиоша, господину тайному советнику. И брату тоже поклонись.
Папенькин камердинер Жорж как раз ввел в гостиную Эмбриона – разбудили-таки ради Митиного возвращения.
Старший братец был причесан, наряжен во все лучшее, руки держал по швам.
– Проси Митю, чтоб не забывал тебя, не оставлял своим попечением, – велела ему маменька. – От него теперь будет зависеть твое счастье.
Эмбрион так и сделал. Поклонился чуть не в пояс, назвал «Дмитрием Алексеевичем» и на «вы». Митя прислушался к своему сердцу – не шевельнется ли братское чувство. Не шевельнулось.
Маслов зевнул, перекрестил рот.
– Охохонюшки. Однако время к полуночи. Спасибо, голубушка Аглая Дмитриевна, за чай. Очень у вас вишневое варенье хорошо. Пойду бока отлеживать. Уснуть не надеюсь – старческая бессонница. Так, поворочаюсь, помну перину. Дозволит Господь – подремлю часок. А завтра раненько сядем с Митюшей в мои саночки, стегну лошадок и стрелой в Питер.
– Сами стегнете? – удивился Митя. Вспомнил заодно и некое иное стегание, слегка покраснел. Будет об том казусе разговор в дороге иль нет?
– Сам, лапушка, сам. Люблю троечкой править, да чтоб с колокольцами, да с посвистом. Я ведь не немец какой, русский человек, и из самых простых. Батька мой лавчонку седельную держал, я же вот в тайные советники вышел. Но корней своих не стыжусь. И, как иные парвенюшники, пышностью худородства не прикрываю. Попросту люблю ездить, без холуев. Отлично прокатимся, Митрий, вот увидишь. Тебе понравится.
Нет, Мите это совсем не понравилось.
– Что, и охраны у вас нет? – насторожился он.
Прохор Иванович засмеялся:
– Зачем охраннику охрана? Не бойся, со мною никто тебя не тронет.
– А разбойники? – спросил Митя, думая вовсе не про разбойников – про Великого Мага и его рыцарей. – По лесам-то пошаливают.
He испугался тайный советник разбойников. Сказал:
– Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест.
Вот какой легкомысленный.
С тем и разошлись по спальням. В гостиной только папенька с маменькой остались – чтоб помечтать вдвоем о будущем счастье.
Мите было не до сна. Оказавшись один, он разволновался еще пуще.
Вдвоем с Масловым до Петербурга ехать? Как бы не так! Если б с Данилой, то нестрашно, а этот облезлый разве защитит, если что? Сколько их там, Авраамовых и Фаустовых братьев, меж Москвой и Петербургом? Это когда еще до них весть дойдет, чтоб «бесеныша» не трогали.
Нужно тайному советнику про Орден Сатаноборцев рассказать. Ну конечно! Раз он такой враг масонства, ему и карты в руки. Гонялся за хорошими масонами, теперь пускай погоняет плохих. Опять же личность Великого Мага ему будет куда как интересна.
В спальню Митю отвели папенькин Жорж (он же Егорша) и Малаша. Пока вели, ругались, кому маленького барина раздевать, однако он отправил обоих, сказал: сам.
Успел только кафтан снять, тут мысли и накатили – сначала тревожные, потом дельные.
К Прохор Иванычу, немедля!
Стал обратно натягивать кафтан – на пол из-за обшлага выпал бумажный прямоугольник.
Что это? Государынина реликвия? Нет, та в кармане.
Ах да, это Данила сунул. На память.
Письмо от Великого Мага, вот что это было такое. Очень даже кстати – пусть Маслов не думает, что ребячьи фантазии.
Митя развернул бумагу, чтобы прочитать еще раз, уже собственными глазами. Но еще прежде того взглянул на красневшую понизу печать. Вот он, значит, какой – Знак Усекновения. На первый взгляд цветок с лепестками, вроде ромашки. А если приглядеться, никакая это не ромашка, а два креста с утолщенными, округлыми концами: обычный крест и косой, андреевский. Выходит, Великому Магу дьяволовы меты такими вот знаками прижигают. Чудно!
Хотел было читать, но снова посмотрел на печать. Где-то он уже видел этот красный цветок. На каком-то странном, неподобающем для цветка месте.
И было Митридату видение: белое гузно с сине-красными полосами от плетки, и на копчике – игривая ромашка.
Ах!
Кафтан сам собой выскользнул из рук на пол. Митя же почувствовал, как подгибаются колени, и еле-еле, на полусогнутых ногах, добрался до стула. Рухнул.
О, Пресветлый Разум!
Не от содомского разврата у тайного советника Маслова на приватном месте наколот знак, ошибся кнутобоец Мартын. И понятно теперь, отчего Прохор Иванович последним из придворных, вопреки моде, в парике ходит. Что есть Люциферовы меты? Известно: рога и хвост. Их-то и «отсекают» Великому Магу. Где-то на темени или на макушке, под волосами, должны быть у Маслова еще два таких знака – от усекновения рогов.
Но как же так? Выходит, Великий Маг – не Метастазио?
И Митю главный сатанофаг хочет истребить не из-за подслушанного на дворцовой печи разговора?
Тогда за что?
Чем не угодил царский воспитанник начальнику Секретной экспедиции?
Очень просто, ответил сам себе Митридат. В этой самой ромашке причина и состоит. Он увидел то, чего никому видеть не положено. Должно быть, тайный советник решил: мальчишка образован и смышлен не по годам… Нет, это слишком лестно. Не в Митиной смышлености дело. Испугался Маслов, что отрок станет болтать, какое украшение у государственного человека на заднице. Кто о Знаке Усекновения слыхом не слыхивал, посмеется да забудет, но если слух о пикантной причуде секретного начальника дойдет до человека сведущего, тут Маслову и конец.
Легко ли: охранитель августейшей безопасности – глава тайного ордена. Гонитель вольных каменщиков сам – наисекретнейший из масонов! Не сносить тогда Прохору Ивановичу головы.
Никогда еще Митина мысль не работала так резво, даже в момент произведения математических исчислений.
Как хитер Маслов, как предусмотрителен! Все ложи разогнал, а свой орден укрепил. Собирая по поручению императрицы сведения о тайных обществах, должно быть, заранее присматривался, кто из фигурантов может быть ему полезен.
Полезен для чего?
Ясно, для чего. Ведь Фондорин сказал, чего хотят ложные масоны – власти.
Митя зачесал в затылке. Что-то тут не складывалось.
Разве может какой-то Прохор Иваныч, сын лавочника, получить власть над Российской империей?
Может.
Если будет не сам на троне сидеть, а посадит куклу и станет дергать за ниточки.
Кукла уже имеется, зовут ее Наследник. Тот ведь, кажется, и в «Полнощной Звезде» состоял, откуда Великий Маг себе новых рекрутов набрал? Государыня велела из масонов уйти – сын не ослушался, ушел. В другие масоны, против прежних наисокровеннейшие.
Теперь понятно, почему итальянец сказал, что Маслов на Наследника ставит. На кого ж ему еще ставить?
Вот она, власть – абсолютная, ведь сатанофаги повинуются своему предводителю слепо, без рассуждений!
Наследник может занимать в Ордене сколь угодно высокое положение – Фаустова брата, даже члена Капитула, это ничего не меняет. Все равно приказ неведомого Мага для его высочества – Слово Божье. Что велит Маг, то Наследник и сделает – во имя Справедливости и Добра.
Если Наследник наденет корону, то непременно возьмет себе советчиком господина Маслова – единственного придворного, кто относится к опальному принцу с почтением. И тогда новый царь окажется в двойных тенетах.
Предположим, получает он от Великого Мага депешу с совершенно немыслимым, противоречащим разумности предписанием. Ну, скажем, послать русскую армию на штурм Альпийских гор или на завоевание Индии. Тут при каком угодно обете послушания засомневаешься. Вызовет государь своего верного советника Маслова. Спросит его: что ты об этом думаешь? А тот в ответ: превосходная идея, ваше величество! И еще обоснования представит.
Бывает ли кукловодство совершенней? Так вот почему Маслов так спешит свалить Фаворита! Дело не в самом Зурове, а в воцарении августейшего Внука. Если сие произойдет, всем прожектам Великого Мага конец!
Но… но ведь рано или поздно это все равно случится. На что может рассчитывать Маслов? Екатерина презирает своего сына и ни за что не передаст ему скипетр. Вот если бы она умерла скоропостижно, не успев обнародовать завещание – тогда другое дело.
И стало Мите жалко бедную толстую старуху. Самые близкие люди желают ей смерти, только партия Внука медленной, а партия Сына быстрой.
Первая из партий, предводительствуемая коварным Еремеем Умбертовичем, чуть было своего не добилась. Помешали провидение, рыцарь Митридат и покойница Аделаида Ивановна.
Как она, сердечная, упала, даже тявкнуть не успела! Невинная жертва людских страстей.
Ой!
И Митины мысли понеслись еще проворней.
А почему это, собственно, левретка закорчилась сразу же после того, как лизнула винную лужицу? Итальянцев яд ведь был медленный! Аделаида Ивановна должна была успеть и натявкаться, и наскулиться вволю! Вот она, странность, которую учуял Данила, когда услышал рассказ о неудачном отравлении.
Что же это получается? Богоподобная Фелица, буде выпила бы настойку, тоже испустила бы дух в корчах и нечленораздельности? Хорош у секретаря вышел бы заговор, в результате коего вместо Внука на престоле оказался бы Наследник! То-то Маслову был бы подарок!
Иль это никакой не подарок?
Не очень-то Прохор Иванович удивился, когда Митя ему про подслушанный разговор рассказал. Скорей обрадовался, что свидетель есть и что теперь можно будет капитан-поручика Пикина прижать. Уж не знал ли вездесущий секретный начальник о комплоте? У него всюду шпионы, а в зуровских апартаментах и подавно.
Что если он провернул вот какую штуку, совершенно в своем духе? Вместо одной подмены произошло две: Пикин поменял флакон с настойкой на другой, с отравой, а Маслов, зная о том, на место пикинской склянки подсунул свою тоже с ядом, но только не медленным, а быстрым и, главное, производящим паралич языка? Страдалица Аделаида Ивановна пала на бок, глаза ее закатились, пасть разинулась, но не исторгла ни звука! По-медицински это называется паралич голосного механизма. И у государыни было бы то же самое.
Далеко, очень далеко забрался Митя в своих догадках и предположениях, но больно уж точно все сходилось.
Разве не странно повел себя Маслов, когда левретка издыхала, а все суетились вокруг перепуганной царицы? И ему бы там быть, охранителю августейшей персоны. А он вместо этого бросился к Мите и спросил: случайно ли тот разбил бутыль или знал про отраву? Что-то чересчур проницательно!
Если б императрица тогда выпила яд, у Маслова все прошло бы как по маслу. (Тут Митя поневоле улыбнулся: какой чудесный каламбур, жалко Данилы нет, тот бы оценил.) Партия Внука в замешательстве, поскольку ждала от флакона иного действия – не паралича речи, а медленного угасания. В Гатчину же от начальника Секретной экспедиции понесся бы гонец с письмом. Мол, ваше высочество, царствовать подано. Поспешите в столицу со своими пудреными батальонами!
Такие услуги не забываются.
Стоит ли после этого удивляться, что Митридат Карпов для Великого Мага сущий Сатана? Сначала испортил превосходно подготовленный план, а потом еще и раскрыл главную масловскую тайну. Как такого не истребить? Никакой цены не пожалеешь. Лишь бы не мешкая, «отнюдь не сомневаясь» и «наипаче всего не вступая с ним в разговор» – а то, не приведи Господь, еще сболтнет про ромашку кому не следует!
Ишь как переполошился – лично на розыски приехал. Наверняка сам вызвался. И понятно, почему один. Очень уж дело тонкое, деликатное, не терпящее свидетелей. Можно не сомневаться, что маленький спутник Прохора Ивановича до Петербурга не доедет. Непременно случится с ним какая-нибудь дорожная неприятность – либо из возка выпадет и шею свернет, либо отравится на постоялом дворе чем-нибудь несвежим. Обычное дело. Как говорится, все под Богом ходим.
Бедный Фондорин! Как он ошибся, считая, что доставил своего друга в безопасное место! Несчастная Павлина! Ее жертва будет напрасной.
А более всего следовало пожалеть себя. Не зря сулила Малаша своему питомцу короткий век.
Было время, когда маленькому Мите его спаленка представлялась самым надежным убежищем на свете, а сейчас он сидел и дрожал, боясь заглянуть в углы, где сгустились темные, страшные тени. Единственная свечка на столике горела тускло, ровно, будто над покойником.
А что если Маслов и отъезда ждать не станет, подумалось вдруг Митридату. Зачем ему на себя подозрение навлекать? Доверили ответственному человеку ребенка, а он не уберег. Государыня рассердится, она и так своего охранителя не очень-то жалует.
Другое дело, если неудачливый малютка скоропостижно преставится, еще находясь под отчей крышей. Тут уж к Прохору Ивановичу какие упреки?
И надо же так случиться, что, едва Мите пришла в голову эта мысль, ужаснейшая из всех, как дверь тихонечко пискнула и стала понемножку открываться.
Задвижку надо было закрыть! Не додумался!
В щель просунулася голова, в потемках не разглядеть, чья. Но сверху и по бокам сей предмет был черный, обвислый: парик с буклями. Он!
Увидев, что мальчик еще не ложился, Маслов скрытничать перестал. Открыл створку до конца, вошел.
– Не спится? – ласково спросил он. – А мне, старику, и подавно. Все думы, соображения разные. Сядем рядком, потолкуем, ладком?
Дверь прикрыл и, заслонив ее спиной, задвинул щеколду – этот скрытный маневр был выдан тихим полязгиванием.
Может, какой-нибудь другой мальчик, проворней рассудком или отважней, придумал бы что-нибудь иное, а Митя поступил просто, как велело естество: завизжал что было мочи. Без слов, но очень громко.
Примерно так:
– И-и-и-и-и-и!!!
И так:
– У-у-у-у-у-у-у-у-у!!!!
И еще так:
– Папенька-а-а-а-а-а-а!!!
Прохор Иванович свою мопсову челюсть отвесил, а сказать ничего не сказал. Да если б и попытался, вряд ли бы вышло, при таком-то шуме.
Прибежали, заколотили в дверь. Митя как голоса услышал, сразу нечленораздельно вопить перестал, перешел на осмысленное:
– Я здесь! Сюда!
Куда Маслову деваться? Открыл задвижку, посторонился.
А в спальню кинулись и Жорж, и Малаша, и папенька с маменькой, и еще там был кто-то, не разглядеть.
– Что… что такое? – вскричал Алексей Воинович. – Что с тобой, сын мой? Приснилось что-ниб…
Тут он увидел Митиного ночного гостя и осекся.
– Ва… ваше превосхо… Что случилось? Тайный советник, судя по недоуменно разведенным рукам, собирался врать, но Митя его опередил.
Бросился к папеньке.
– Я с ним не поеду! Он – Маг!
– Ну, конечно, приснилось, – улыбнулся папенька. – Какой маг? Это же…
– Великий! Из тайного ордена! Он убить меня хочет!
И стал объяснять, но, поскольку очень волновался, слишком частил – папенька лишь глазами хлопал, а в толк взять не мог.
Зато Маслов понял.
– Вон! – махнул он слугам. – Не вашего ума дело! Да смотрите мне, не подслушивать – в каторге сгною.
И снова дверь на засов закрыл, только теперь уже безо всякой тайности.
– Глядите, глядите! – закричал Митя родителям. – Он больше и не прячется! Скажите, чтоб парик снял! У него там под волосами знаки! Он заговорщик!
– Не шуми так! – Маменька закрыла уши. – Это несносно! У меня завтра будет мигрень!
Открыла дверь и вышла – вот как. А Маслов, злодей, опять щеколдой – вжик.
Вся надежда теперь была на папеньку.
– Что ты такое говоришь, душа моя? – растерянно пробормотал он. – Какие знаки? И почему ты называешь Прохора Ивановича заговорщиком? Как можно?
Ну как ему объяснить, чтоб понял, чтоб поверил? Да еще в присутствии этого!
– Вот, читайте! – воскликнул Митя и подал отцу письмо Великого Мага.
Алексей Воинович склонился над свечкой, стал читать.
А Прохор Иванович со вздохом сказал:
– Не зря я за тобой, дружок, гонялся. Не в меру востер. Был бы умом потусклее, можно было бы оставить среди живущих, а так увы. Невозможно.
Папенька от таких слов письмо выронил. Вряд ли успел дочитать и тем более вникнуть.
– Что вы говорите, ваше превосходительство?! Ведь это сын мой!
Выражение лица Прохора Ивановича удивительным образом переменилось: взгляд заблистал спокойно и властно, лоб разгладился и даже вислые собачьи брыли теперь казались не смешными, а исполненными воли и величия.
– Твой сын смертельно заболел, – сказал Великий Маг отставному секунд-ротмистру суровым, непререкаемым тоном. – Жить ему осталось всего ничего. Он при смерти, разве ты не видишь? Спасти его ты не в силах, можешь лишь сам заразиться неизлечимой хворью. Если не отойдешь в сторону – ты тоже не жилец.
Алексей Воинович ужаснейше побледнел.
– Но… я ничего не понял! Какой-то маг, какие-то знаки… Ваше превосходительство, умоляю! Чем я… чем мы вас прогневали?
– Ты глуп, Карпов, и в этом твое счастье. Сядь. – Маслов слегка толкнул папеньку в грудь, и тот попятился, сел на кровать. – Только поэтому я могу оставить тебе жизнь. Да не просто оставлю, а вознесу тебя на высоты, какие тебе не снились. Знаю, предел твоих мечтаний – услаждать похоть полудохлой старухи. Я же могу дать тебе неизмеримо больше. Мне нужен доверенный помощник. Безымянность во многих смыслах полезна, но по временам крайне неудобна. Обычным слугам не все доверишь – так можно себя и выдать…
– Я… я все равно не понимаю… – пролепетал Алексей Воинович.
– То-то и хорошо. Мне не нужен шустрый, от такого жди измены или ненужного извива мысли. Ты же удовольствуешься ролью моего рычага, посредством которого я буду приводить в движение махины. Ты будешь единственный из живущих, кто знает про знаки, и уже одно это вознесет тебя надо всеми.
– Папенька, не слушайте его, он врет! – крикнул Митя, чтобы родитель поскорей пришел в себя, очнулся. – Вы не единственный, кому будет ведомо про знаки на его теле! Еще Мартын знает, глухой экзекутор! А раз Маслов вам в этом врет, то и все прочее ложь, только чтоб заморочить!
Тайный советник посмотрел на Митю и улыбнулся.
– Бедный Мартын Исповедник. Помер он, Митюша. В тот же самый вечер, когда мы так неудачно допросили Пикина. Выпил Мартынушка протухшей водки и приказал себя поминать. Если б он не только глухой, а еще и немой был, тогда ладно бы. А так нельзя, сам понимаешь. Ты ведь у нас умник. Догадался ведь в тот же вечер к себе не возвращаться, сбежал из Питера.
Так вот он чего больше всего испугался, дошло до Митридата. Что я в тот же вечер исчез. Не знает про изгнание из Эдема! Откуда ему? Решил, что я все понял и пустился в бега – от него, от Великого Мага. Так, получается, Пикин мне тогда жизнь спас, вышвырнувши из окна?
– Я не зверь, но ведь большое дело на мне, – продолжил Прохор Иванович. – Сколько людей в меня верят, и каких людей – не твоему батьке чета. Светлые головы, радетели Отечества. По одному подбирал, как жемчужины в ожерелье. Как за дело возьмемся – у нас горы прогнутся, реки вспять потекут. А тут ты. Я людей хорошо знаю, изучил за долгую службу. У тебя талант из цифири корень извлекать, а я умею то же с людишками производить, каждого до самого корня вижу. Вижу и тебя. Ты мозгами резв, да не мудр. И мудрым никогда не станешь, потому что душонкой слаб. Гниль в тебе, которую для красоты жалостью зовут. Не способен ты к нерассуждающему повиновению. От тебя большое дело погибнуть может. Сам рассуди – можно ль тебе жить? Никак нельзя.
Верно, оттого что, говоря это, тайный советник смотрел на Митю и не цепенил папеньку своим магнетическим взором, Алексей Воинович скинул морок, стал приходить в себя.
– Не поспеваю мыслью за вашими речениями, – воскликнул он, подбежав к сыну и обняв его, – но вижу, что вы желаете Митридату погибели. Сжальтесь над младенцем! Или уж разите нас обоих!
Сказал – и рубашку рванул, как бы обнажая грудь. Никогда папенька не был таким красивым, как в этот миг!
Но Маслов родительской самоотверженностью не восхитился, равнодушно пожал плечами:
– Гляди. Мне что одного похерить, что двоих. Только не будь еще глупей, чем я про тебя думаю. Чем лишиться всего, лучше потерять часть. У тебя ведь есть и другой сын. Решай, Карпов. У меня театры разводить времени нет. Желаешь умереть – умрешь. Хочешь жить – поедешь, со мной в Питер. Жену и старшего сына бери с собой. Для начала выговорю тебе чин статского советника, да в память о царицыном воспитаннике тысячонку душ. Для утешения. Но это пустяки. Скоро свершится некое событие, после которого мой помощник получит все, что пожелает – хоть графский титул, хоть министерство. Только служи верно, не двурушничай.
– Графский титул? – повторил Алексей Воинович. – Ми… министерство? И вдруг перестал быть красивым.
– Да. Или смерть. Выбирай. Папенька все еще прижимал сына к себе, но как-то рассеянно, без прежней горячности. – Но… но что я скажу супруге, родившей в муках это дитя?
Взглянул на Митю сверху вниз – боязливо, словно не на живого человека, а на покойника.
Маслов отмахнулся:
– Насколько я успел узнать твою жену, ей можно набрехать что угодно. Через месяц она и не вспомнит, что у нее было два сына, а не один. О, твоей Аглаюшке будет чем себя занять в Санкт-Петербурге.
По лицу Карпова-старшего ручьем потекли слезы.
– Бог свидетель, я имел о тебе попечение самого нежного отца, но что я могу сделать? – зарыдал он, обнимая сына. – Ты же слышал, его превосходительство говорит, что ты все равно обречен. Так не будь жестокосерден, не разрывай мне сердце. Подумай о матери, о брате, о твоем любящем отце наконец!
И Митридат понял, что в самом деле обречен, теперь уже окончательно и бесповоротно. И заплакал. Но не от страха, а от невыносимой печали.
Папенька разомкнул объятья, сделал шажок в сторону. Осторожно вытянул руку, погладил сына по голове.
– Бедное дитя! Ты ни в чем не виновато! Истинно говорят, что рано созревшие дарования не живут долго. Плачь, плачь! Ах, сколь мало наш рассудок способен предотвратить уготованные нам удары Фортуны и еще менее пригоден для нашего утешенья!
Глава двадцать первая
Солнечный удар
– Утешайтесь тем, что скоро все кончится, – шепнул Макс, из чего Николас понял, что физиономия у него, должно быть, бледная и перевернутая.
Команда покинуть квартиру поступив всего минуту назад. Оба мобильных телефона зазвонили одновременно: один у Макса, второй у Фандорина.
– Тут была задержка, – раздался в трубке мягкий, приглушенный голос Игорька. – Председатель комиссии опоздал. Теперь все нормально. Вперед. Телефон все время держите возле уха. Я предупредил ассистентку Ястыкова: если связь прерывается, не важно по какой причине, хоть бы даже технической, договору конец. Не молчите, все время что-нибудь говорите, а я буду информировать вас о ходе торгов.
«Задержка» была нешуточной – почти полчаса, и с каждой минутой напряжение в прихожей, где заложники и охрана дожидались сигнала, возрастало.
Жанны не было, она состояла при своем боссе и руководила операцией по телефону. Николаса и Миранду опекали двое старых знакомых, Макс и Утконос. Поначалу Фандорин усмотрел в малочисленности стражи хороший признак, но по мере того, как пауза затягивалась, все более крепла другая версия, нехорошая: это охраны должно быть много, а вот киллеров вполне достаточно и двоих. Магистр изо всех сил улыбался Мире и даже подмигивал – мол, все хорошо, все идет по плану, а сам уже готовился к худшему.
Когда враз затрезвонили телефоны, Николас чуть не вскрикнул от облегчения.
Сразу же вышли на освещенную солнцем лестницу: впереди Утконос, придерживающий за локоть Миру, потом, в такой же сцепке, Фандорин с Максом.
Тогда-то Николасов надзиратель и прошептал неожиданные слова утешения. А еще прибавил:
– Идем медленно и, пожалуйста, без самодеятельности. Помните, что жизнь девчушки в ваших руках. У меня инструкция: если что, валить ее первой.
По улице шли прогулочным шагом, по двое, сопровождаемые еле ползущим вдоль бровки джипом. Утконос держал Миру за руку, сзади они были похожи на старшего брата и сестренку. Макс с Николасом, кажется, производили менее идиллическое впечатление: идут два мужика под ручку, каждый прижимает к уху мобильник. Фандорин слышал, как в стайке шедших навстречу подростков зашептались: «Гляди, гляди – пидоры».
– …Председатель зачитывает условия торгов, – шелестел в ухе вялый голос Игорька. – Это минут на шесть, на семь. У вас все окей?
– Да-да.
Максу, видно, тоже полагалось подавать начальнице звуковые сигналы, но он ограничивался тем, что время от времени мычал в трубку:
– Мгм… Мгм… Мгм…
Так и шествовали по окраине столицы. Утро было не по-ноябрьски свежее и яркое, только вот холодное – без ватного одеяла облаков земля зябла.
– А Кимринская улица это где? – спросила Мира, оборачиваясь.
Фандорин прищурился от солнца, посмотрел на табличку, в которую тыкала пальцем его невоспитанная воспитанница. Пожал плечами:
– Москва – город большой.
– Что? – удивился куценковский секретарь. – В каком смысле? Макс предупредил:
– О местонахождении пока молчок.
– Это я Мире, – сказал Николас секретарю, охраннику успокаивающе кивнул, воспитаннице сказал. – Впервые про такую слышу.
– А еще москвич, – разочарованно протянула она и засеменила дальше, – Утконос дернул за руку, чтоб не останавливалась. – Так, с условиями закончили, – докладывал Игорек. – Теперь представляют участников тендера. Первый – Мират Виленович… У вас порядок?
– Да, – ответил Фандорин, наблюдая за Мирой.
Какие крепкие у девочки нервы! Или, может быть, все дело в физиологическом детском оптимизме?
Казалось, Мира наслаждается этим смертельно опасным променадом. Вертела головой во все стороны, что-то сама себе приговаривала. Пыталась завязать беседу с камнеподобным Утконосом, не дождалась ответа и тогда снова повернулась к Нике:
– Неужели это тоже Москва? Все равно что центр в Краснокоммунарске! А я думала, вся Москва – это такие улочки, где вместо асфальта квадратные камни, и всюду магазины. А в них каждая фигнюшка, даже вот такусенькая, стоит дороже, чем зарплата у Роберта Ашотыча.
В другое ухо нудил Игорек:
– …Закончил представитель ЗАО «Мед-прогресс», следующий Ястыков. Потом еще «Петрофарм», и все, начнется аукцион. Как у вас? Нормально?
– Да.
– Что? – спросил вдруг своего невидимого собеседника (вернее, собеседницу) Макс. Его голос прозвучал чуть громче, чем прежде. – Точно? …Понял.
– …Я говорила, не надо мне шарфик за триста пятьдесят у.е. покупать, а Инга говорит, привыкай, – стрекотала Мира. – Я думала, в Москве все цены такие, а вон, смотри, в палатке почти такой же шарфик, и всего пятьдесят пять рэ.
Макс сунул телефон в карман. Что это могло означать?
– В чем дело? – спросил Николас. – А? – спросил, Игорек.
– Все нормально, – ответил Макс и тронул за плечо Утконоса. – Шесть-шестнадцать.
Снова убрал руку в карман.
– Минутку, – быстро заговорил Николас в трубку. – Здесь, кажется, что-то…
Увидел, как Утконос дернул Миру к себе, в его правой руке блеснул металл. Ника хотел крикнуть, но в тот же миг что-то кольнуло его в шею.
Кимринская улица с грязно-серыми параллелепипедами домов закачалась, Фандорин всплеснул руками, чтобы удержаться на ее скользкой поверхности, запрокинул голову, и солнце ударило его прицельным огнем безжалостных лучей прямо в мозг.
Магистр зажмурился и провалился в черноту.
Сознание вернулось к нему сразу, без каких-либо прелюдий. Николас услышал мерный стук, открыл глаза, увидел белый потолок с трещиной вдоль шва и рывком сел.
От резкого движения комната покачнулась, он испугался, что снова, как на Кимринской улице, соскользнет по наклонной поверхности в черную дыру, но, немного покачавшись, мир встал на место. Стук, правда, остался, он доносился из открытой двери.
Комната была знакомая – та самая, откуда Мира разговаривала по телефону с отцом.
– Что это? – кривясь, спросил Фандорин про стук, отдававшийся эхом в затылке.
– Девчонка бесится, – мрачно ответил Макс. – Минут десять, как очухалась. Сначала кричала, теперь просто в дверь колотится. Ничего, здесь звукоизоляция.
Он стоял у окна и смотрел вниз, на улицу. Второй расположился на стуле у двери, чистил ножом ногти.
– Обманули, – констатировал Фандорин.
– Это точно, – подтвердил Макс. – Кинуто красиво. Вам по телефону что говорили?
– Кто? Секретарь Мирата Виленовича? Что идет представление участников тендера.
– Ага, представление. – С кривой улыбкой Макс повернулся, но лица его было не видно – сзади сияло солнце. – Мозги он вам пудрил, вот что. Аукцион продолжался одну минуту. Назвали стартовую цену – восемьдесят миллионов, Куценко сразу бухнул: что всех заткнул. Продано! Ну, Жанна и приказала: «Шесть-шестнадцать». Это значит, вернуть обоих на место. Такие дела, Николай Александрович.
Николас затряс головой.
– Не может быть! Этого просто не может быть! Жанна врет! Ваш работодатель нарушил договоренность!
Макс смотрел на Фандорина с сочувствием. – Непохоже. Я с Жанной второй год работаю, никогда у нее такого голоса не слышал. Еще бы, для нее это облом неслыханный. Сюда едет. Уже два раза звонила с дороги. Вся на нерве, бешеная. Жалко мне вас. Ну вас то она, наверно, просто пришьет, а на девчонке отыграется по полной. Жанна, она знаете какая. Верно, Толь?
Утконос, которого, оказывается, звали Толей, не поднимая головы, кивнул. С левой рукой он покончил, взялся за правую.
Николас пытался собраться с мыслями, но голова была какая-то свежемороженная, мысли в ней прыгали, как пельмени в пачке, только что вынутой из морозилки.
– Чем это вы меня?
– Стрельнул ампулой ликвозола. Ничего, мозги сейчас оттают. Только чувствительность не сразу восстановится. Может, оно и к лучшему? – Макс вздохнул. – Хотите вколю еще дозу, послабее? Пока она не приехала. Мало ли что ей в голову взбредет. Не так больно будет. Помнишь, Толь, как она того, лысого?
Утконос снова кивнул.
– Я на что уж всякое повидал, и то после спать не мог.
Разговорчивый охранник передернул плечами, сел рядом.
У него в кармане зазвонил телефон.
– Я, – сказал он в трубку. – Все нормально… Да, оба… Окей. Фандорину пояснил:
– Она. На Дмитровское повернула. Время уходило, неостановимо утекало меж пальцев. По сравнению с чудовищем, которое неслось сейчас на север по Дмитровскому шоссе, сторожившие квартиру убийцы казались Николасу чуть ли не добрыми знакомыми. По крайней мере, один из них, в ком жестокая профессия не до конца вытравила живое, человеческое. Ах, если бы поговорить с ним наедине, чтоб в двух метрах не сидел этот угрюмый австралопитек со своим узким, длинным ножом!
Но выбора не было.
– Послушайте, Макс, – быстро, но все же стараясь не глотать слова, начал Фандорин. – Я не знаю, какую жизнь вы прожили и почему занимаетесь тем, чем занимаетесь. Наверно, вам за это хорошо платят. Наверно, вам нравится ощущение риска. Не сомневаюсь, что у вас есть веские основания относиться к человеческому роду с презрением. Все так. Но ведь у вас есть душа. Это не выдумки, она действительно есть! И ваша душа подсказывает вам, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. Вы, конечно, не всегда ее слушаете, но всякий раз, когда вы идете ей наперекор, вам потом бывает скверно. Ведь так?
Черт! Снова телефон! Как не вовремя!
– Я… Сейчас. – Макс щелкнул пальцами Утконосу. – Толь, проверь, тут ванная со звукоизоляцией или как… Сейчас, Жанна… Да, оба очнулись.
Утконос отсутствовал меньше десяти секунд. Вернулся, кивнул.
– С изоляцией, – сказал в трубку Макс, и разговор закончился.
Пряча телефон в карман, пояснил:
– На светофоре стоит, Петровско-Разумовское проехала. Ну, гонит!
– Вы же понимаете, зачем ей это нужно, – еще быстрей заговорил Николас. – Она собирается истязать девочку. Даже не ради того, чтобы выпытать какую-то информацию. Какую информацию может знать ребенок? Нет, ваша начальница просто выместит на ней свою ярость. Может быть, сейчас вам кажется, что это неприятный инцидент, не более. Но пройдут месяцы, годы, а это ужасное злодеяние будет висеть на вашей совести камнем. Вы будете слышать крики, видеть искаженное болью лицо ни в чем не повинной девочки. Вы не сможете это забыть! Опять звонок.
– Я… Сейчас… Толя, сходи, посмотри, а розетка там есть?
– Есть, я смотрел, – впервые за все время раскрыл рот Утконос.
– Есть, – доложил Макс. – Вы где? Ясно.
Положил телефон на стол.
– Уже свернула на Кимринскую. Сейчас будет. Несется, как ведьма на метле! Мне жаль, Николай Александрович. Правда, жаль, но…
– Да вы не меня жалейте! – перебил его Ника. – И даже не девочку. Вы себя пожалейте! Если в вас остается хоть кусочек живой души, вы же потом сами себя изгрызете!
– Нет, не могу. И кончайте вашу пропаганду, не то надену железки и рот заклею. – Макс встал, выразительно позвенел прицепленными к поясу наручниками. – Если Жанна прикажет, я вас лично лобзиком на бефстроганов настругаю, при всем хорошем отношении. Я не слюнявка, а профессионал, ясно? Вы бы лучше насчет ликвозола подумали, а то поздно будет.
Из передней донесся скрежет ключа. Ничего ужаснее этого обыденного звука, такого мирного, домашнего, Николасу доселе слышать не приходилось.
– Ну вот, опоздали, – развел руками Макс. – Толя, пригляди-ка за ним.
И вышел в холл.
Жанна ворвалась в комнату со стремительностью гоночного автомобиля. Волосы новоявленной Медузы топорщились черными змейками, лицо застыло в маске ярости, а зрачки сжались в крошечные точки. Нанюхалась кокаина, догадался Николас, пятясь к стене.
Он был готов к тому, что кровожадная мстительница сразу кинется на свою жертву – собьет с ног, вцепится в горло, а то и выстрелит, но Жанна на него даже не взглянула. Остановилась и медленно, даже несколько заторможенно, произнесла:
– Сегодня день моего позора. Моя репутация погублена, восстанавливать придется долго. Но ничего, я уже придумала, как извлечь из этого разгрома пользу. Такое устрою – легенды будут рассказывать. Ни одна тварь не посмеет со мной шутки шутить.
– Что делать-то? – нервно спросил Макс. – Ты говори.
Она кивнула в сторону холла.
– Там у меня в сумке магнитофон. Буду работать с девчонкой в ванной и записывать. Потом пошлю кассетку Куцему. Хотела на видео, но аудио лучше. Можно и по телефону запустить, и по офисной трансляции – отовсюду. Он у меня, сука, от любой техники шарахаться будет. Что бы ни включил – отовсюду вопли доченьки. Ночью, днем. Здесь, за границей. Денег и времени я не пожалею. Представляете? – Ее губы раздвинулись в стороны, но это трудно было назвать улыбкой. – Включает Куцый утром электробритву, а оттуда писк: «Па-апа! Па-почка! А-а-а-а!». Я знаю, как это устроить – вопрос техники.
– Послушайте, вам сейчас не об этом нужно думать! – громко, словно к глухой или буйнопомешанной, обратился к ней Фандорин. – Ваша главная проблема – Ястыков. Вы его подвели, ваш план не сработал. Он захочет с вами рассчитаться. Не отнимайте жизнь у других, лучше спасайте свою!
Жанна развернулась к нему всем телом, и Николас вжался в стену.
– А, мастер разумных советов! Спасибо за рекомендацию, но с Олежеком я уже поговорила, проблем не будет. Как же мне быть с вами, добросердечный Николай Александрович? – Она посмотрела на него взглядом повара, решающего, как бы ему приготовить кусок мяса. – Нет, током в чувствительные места я вас жучить не стану. Есть идея получше. Для начала вы послушаете, как визжит и орет ваша Мирочка. А потом я организую вашему семейству инсценировку по Эдгару Аллану По. Читали про дом Эшеров? Мое любимое литературное произведение.
Она засмеялась, довольная произведенным эффектом. Потом деловито приказала:
– Девчонку раздеть, запястья и щиколотки сковать. Рот не затыкать – пускай солирует.
– А этого? – спросил Макс, показав на Фандорина.
– Пускай бегает вокруг, машет руками. Работать веселей. Если размашется слишком сильно, стукните разок-другой, но не сильно, чтоб не отрубился. Давайте, парни, давайте!
– Сейчас сделаем.
Макс вышел из комнаты и направился к двери, о которую упрямо и безнадежно билась Миранда. Второй охраннник почесал ножом бровь, поднялся со стула, но дальше не двинулся – видимо решил, что напарник справится и один.
Выскочив в холл следом за Максом, Фандорин крикнул только два слова:
– Ради Бога!
Жанна и Утконос стояли у него за спиной, но магистр их не замечал. Его взгляд был прикован к крепкой, поросшей рыжеватыми волосками руке, которая тянулась к засову – миллиметр за миллиметром, нескончаемо. Время растягивалось, будто резиновое, секунда все никак не желала кончаться.
И вдруг оказалось, что Николас существует в другом временном масштабе, что он может поймать эту нескончаемую секунду за гуттаперчевый хвост, удержать, вернуть обратно.
С истошным воплем, которого сам он не слышал, Фандорин ринулся вперед. Неуклюже согнувшись, двухметровый магистр пересек неширокий холл и с неостановимостью мяча, летящего к баскетбольному щиту, ударил охранника головой в позвоночник.
Столкновение было такой силы, что Макс вмазался лицом в дверь и, полуоглушенный, сполз на пол. Временно утративший рассудок и цивилизованность Ника рухнул на врага сверху, схватил его руками за горло.
Откуда-то сзади, словно сквозь перегородку, донесся женский голос:
– Стоп, Толя. Не надо. Дай посмотреть корриду.
Автоматическим, но безупречным по точности движением Макс ткнул Фандорина пальцем в солнечное сплетение и, воспользовавшись тем, что хватка всхрипнувшего магистра ослабла, высвободил шею. Рванулся вбок, сбросил с себя противника, да еще врезал ему ребром ладони пониже затылка – так, что Николас упал лицом в пол.
– Браво, – сказала Жанна, но Фандорин уже ничего не слышал. Он увидел прямо перед собой ногу в черном ботинке и полусползшем носке, зарычал, извернулся и вгрызся зубами в сухожилие (кажется, оно называлось ахиллесовым).
– А-а-а! – взревел Макс и присел на корточки, чтобы дотянуться до головы осатаневшего заложника.
Выплюнув кровь и лоскут кожи вместе с нитками, Ника вслепую выбросил руку, схватился за что-то. Это был ворот рубашки. Тогда Фандорин вывернулся своим длинным телом по какой-то немыслимой траектории, противоречившей законам анатомии, и со всей силы рванул Макса на себя.
Потерявший равновесие охранник с тупым стуком ударился лбом о паркет, Николас же вцепился и второй рукой – но не снизу, а сверху, в воротник, и исступленно принялся колотить головой врага по полу.
Бум! Бум! Бум!
На четвертом или пятом ударе Макс обмяк, завалился на сторону, но Николас не сразу понял, что схватке конец – все тряс и тряс бесчувственное тело, никак не мог остановиться.
В себя его привел отчаянный крик из-за двери:
– Гады! Гады! Что вы с ним делаете?!
– Все в порядке, Мирочка, все в порядке, – прохрипел Фандорин, с ужасом и недоверием глядя на дело своих рук – неподвижного человека, из-под лица которого резво выползали два языка крови.
Поднялся на ноги, шарахнулся от подбиравшегося к ботинку красного ручейка, замахал руками и увидел, что руки тоже в крови.
Сзади раздались громкие хлопки. Это аплодировала Жанна.
– Редкое зрелище, – сказала она, зачем-то снимая пиджак. – Чтоб бык забодал тореадора. Я читала, что таким героическим быкам ставят памятники. Но коррида продолжается. Впервые на арене Северного округа столицы женщина-матадор Жанна Богомолова.
Она вскинула руку, имитируя приветствие матадора. Отшвырнула один за другим туфли на высоком каблуке. Вжикнула молнией юбки, сбросила и ее. Осталась в черных колготках, шелковой блузке.
– Ну-ка, чемпион реслинга. – Жанна сделала манящий жест. – А теперь одолейте слабую женщину. Если получится – отпущу и вас, и сиротку. Соглашайтесь, приз серьезный.
Приступ безумия, на минуту превративший выпускника Кембриджа, отца семейства и убежденного противника насилия в дикого зверя, закончился. Николас неловко выставил руки вперед – не для того, чтобы драться, а чтобы защититься от удара. Жанна же чуть согнула колени, опустила голову и сделалась ниже своего визави на добрых полметра.
Утконос Толя наблюдал за невиданной сценой, поигрывая ножиком. На туповатом лице не отражалось никаких эмоций – ни волнения, ни даже любопытства.
– Послушайте… – начал Николас – и поперхнулся, получив удар ногой по плечу.
Схватился за ушибленное место, а быстрая, как рысь, противница уже ударила его с другой стороны – под колено.
Фандорин грохнулся на пол. Только приподнялся – новый удар, тоже ногой, но теперь в лоб.
Стукнулся затылком о галошницу, на миг потемнело в глазах.
Кое-как поднялся, ткнулся спиной в висящую на вешалке одежду.
– Ну же, ну, – поманила его Жанна. – Бодни меня, бычок, как бедного Макса.
Она протянула руку, чтобы взять Николаса за полу пиджака. Он хотел отбросить узкую, быструю руку, но только рассек рукой воздух, а наманикюренные пальцы цепко ухватили его за нос и дернули книзу, так что магистр сложился пополам.
Второй рукой Жанна ухватила его за ремень брюк, оторвала от пола, швырнула на живот.
Ударившись локтями и коленями, он перевернулся на спину, но встать не успел. Маленькая ступня прижала его к паркету, вырваться из-под этой стальной пяты было невозможно.
Как кошка с мышонком, мелькнуло в голове у пропадающего Николаса. Силы в руках уже не оставалось.
– Бык повержен, – объявила Жанна. – Внимание! Завершающий удар.
Села побежденному на грудь. Наклонилась, шепнула:
– Сейчас умрешь. Поцелую, а потом умрешь.
Он ощутил на горле ледяные пальцы и увидел совсем близко два неистово сверкающих глаза с черными змеиными точками посередине.
Просипел:
– Я бы предпочел наоборот. Шутка, прямо скажем, была не Бог весть, даже с учетом крайних обстоятельств, но Жанну она почему-то ужасно развеселила.
Женщина-вамп издала горловой, булькающий звук, глаза ее расширились, как бы от радостного изумления, а красные губы приоткрылись, и из них на под бородок полилась алая, пузырящаяся жидкость.
Не пытаясь разобраться в природе этого загадочного явления, а лишь пользуясь тем, что хватка на горле ослабела, Николас отдернул голову, чтобы кровь не пролилась ему на лицо.
Увидел сверху, над Жанной, Утконоса. Он стоял и, наморща лоб, смотрел на свою правую руку.
В руке у Утконоса был все тот же ножик. Только лезвие из светлого стало темным.
Он вздохнул, наклонился, рывком поставил Фандорина на ноги. Жанна опрокинулась на пол, ее рука откинулась в сторону, блеснув серебристыми ногтями.
– Вы работаете на Мирата Виленовича, да? – спросил Николас убийцу.
Тот помотал головой, вытер нож о блузку мертвой женщины. На белом шелке осталось две длинных алых полосы.
– Тогда… тогда почему?
Утконос почесал бритый затылок, нехотя ответил:
– Не знаю… Наверно, потому что хреновый из меня профессионал. Вот Макс – другое дело.
Он склонился над своим поверженным напарником, стал щупать ему пульс на шее.
– Я не понимаю, – все не мог опомниться Ника. – Так вы не человек Мирата Виленовича?
– Нет. Я просто человек. Сам по себе.
Угу, вроде жив…
– Правда? – обрадовался Фандорин. – Я его не убил?
– Нет. Оклемается.
– Коля! – закричала через дверь Миранда. – Ты живой? Коля!
– Да-да, – нетерпеливо откликнулся он. – Анатолий, почему вы это сделали? Я думал, вы…
Фандорин не договорил, потому что не сумел подобрать правильных слов, но Утконос понял и так.
– Ты думал, я пень безухий? Нет, Коль, я давно к тебе приглядываюсь. Правильный ты мужик. Пацаненка тогда на шоссе спас. И вообще. Говоришь по делу. Правду ты сказал – потом сам себе печенку выгрызу. Главное, девчонка-то чего ей далась? Ну, замочи ее, чтоб не заложила или в отместку. А мучить зачем?
Толя открыл комнату, где была заперта пленница, и немедленно получил удар дверью по носу. В холл стремглав вылетела Мира, мельком взглянула на следы побоища и бросилась к Николасу.
– Уроды! Козлы! Что они с тобой сделали! Тут больно? – Она потрогала его щеку, отняла пальцы – они были красными. – А тут?
– Да ерунда, ссадины, – ответил Ника, чувствуя себя персонажем из голливудского фильма. (Are you okay? – I'm fine. И небрежно размазать кровь по лицу.)
– Валить надо, – сказал Толя. – Ты правильно говорил. Ястыков за облом с нас спросит.
Мира посмотрела на Утконоса, перевела взгляд на Фандорина.
– Он что, за нас? Николас кивнул. – Его папа подослал, да?
– Нет. Твой папа… купил Ильичевский комбинат…
Сказал – и отвернулся, чтобы не видеть ее лица. Мира шмыгнула носом. Плачет?
Нет, ее глаза были сухими, только блестели ярче обычного.
– Тогда почему он нам помог? – шепнула она Николасу на ухо.
– Потому что слово эффективнее кулака, я тебе это уже объяснял.
Она взяла его за руку, посмотрела на разбитые костяшки:
– Оно и видно. – И вдруг поцеловала его окровавленные пальцы, а потом расплакалась.
Толя тронул Фандорина за плечо.
– Все, ноги. Макс пускай сам. Он скоро очухается. Калач тертый, выкрутится.
У подъезда Утконос быстро повертел головой вправо-влево, сунул Николасу пятерню.
– Ладно, Коля, бывай.
– Ты куда теперь?
– На Кавказ подамся. К абхазам или в Махачкалу. Там работы много.
Он поднял воротник куртки, кивнул Мире и, перепрыгнув через заборчик, двинул прямо сквозь голые кусты. Закачались ветки, потом перестали. От плохого профессионала по имени Толя осталась только цепочка рифленых следов на снегу.
– А мы куда? – спросила Мира, размазывая слезы. – К папе, да? Или куда?
К папе хорошо бы – чтоб задать ему пару вопросов, подумал Николас. Но сказал не так:
– Пока не знаю. Главное – подальше отсюда.
Быстро шли по Кимринской улице. Мира еле поспевала за размашистым шагом учителя, вынужденная то и дело переходить на бег.
Фандорин через шаг оглядывался назад, голосуя автомобилям.
Первым остановился фургон «газель».
– Куда надо? – спросил шофер. – Куда-нибудь подальше, – пробормотал Николас, нервно глядя на вылетевший из-за поворота черный джип. Вспомнив, что по мобильному телефону можно определить местонахождение, вынул аппарат из кармана, потихоньку бросил под колесо.
– За стольник докачу хоть до Ерусалима, – весело предложил водитель. Джип пронесся мимо.
– Куда-куда? – уставился Ника на шутники. – До Иерусалима?
– Ну. В Новый Ерусалим, свечки везу.
А, это он про Ново-Иерусалимский монастырь, дошло до Николаса. Вот кстати. Оттуда и до Утешительного недалеко.
Хотя это еще надо было подумать, ехать в Утешительное или нет…
Вот по дороге и подумаю, решился Фандорин.
Сели, поехали: веселый шофер – слева, пел про батяню комбата и товарища старшего сержанта; Николас – справа, думал про Мирата Виленовича и Олега Станиславовича; Мира – посередине, всхлипывала и шмыгала носом.
Так, каждый при своем занятии, и катили до самой Истры.
Купол Воскресенского монастыря – пузатый, несуразный, не похожий ни на одно известное Николасу творение православной архитектуры – засверкал позолотой над полями задолго до того, как грузовичок подъехал к тихому городку. Заглядевшись на диковинную конструкцию, Фандорин на минуту отвлекся от насущных мыслей, вспомнил жестоковыйного патриарха Никона, который затеял в дополнение к Третьему Риму и даже в затмение оного воздвигнуть новый Господень Град. А поскольку ни патриарх, ни его зодчие в Святой Земле отродясь не бывали, то черпали сведения с европейских картин, на которых Иерусалим изображался в виде фантастического златобашенного бурга готико-мавританского обличья. Как это по-русски, подумал Николас: материализовать заведомую европейскую химеру. Но лучше уж монастырь, чем логический немецкий парадиз в одной отдельно взятой нелогической стране.
Попрощались с шофером, который отправился с накладными к какому-то отцу Ипатию. Остались у надвратной башни вдвоем.
Дилемма, над которой Фандорин ломал голову всю дорогу от Москвы, так и не была решена.
Идти к Куценко или нет? Этот человек сделал свой выбор. Наверняка давшийся ему нелегко, но все же окончательный и обжалованию не подлежащий. Было, скорее всего, так. Он искренне намеревался выполнить условия сделки, но, когда увидел торжествующую физиономию врага, ненависть выжгла из его сердца любовь, перевесила ее. Или же порыв был менее романтического свойства: Мират Виленович просто физически не смог выпустить из рук желанный куш. Закоченел, как чеховский дьячок при виде лохани с черной икрой, и забыл обо всем на свете. Так или иначе, он сам отказался от дочери. Согласился с тем, что он больше не отец.
Вопрос в том, согласилась ли с этим Мира? Девочка немного постояла возле молчаливого магистра и отправилась гулять по монастырской территории. Задрав голову, разглядывала купола, садилась на корточки, чтобы прочитать полустертые надписи на старинных надгробьях. По виду – самая обычная экскурсантка. Приехала с классом или с родителями, да и отбилась от своих.
Ладно, Мират Виленович оказался негодяем, думал Николас. В иных обстоятельствах следовало бы предать эту жертву алчности, этого скупого рыцаря презрению, вычеркнуть из своей жизни. Но у кого кроме Куценко искать защиты от опасности?
Жанны больше нет, но Ястыков-то остался. Он наверняка жаждет возмездия, а головорезов у Олега Станиславовича и без Жанны предостаточно. Кто-то из них приставлен следить за фандоринской квартирой. А там живет маленькая черноволосая женщина и двое четырехлетних любителей сказок, которых Ясь обещал оставить в живых, только если операция пройдет успешно. Ястыков же, как он сам сказал, человек слова.
И все прочие соображения стали несущественными.
Николас быстро направился к Мире, сосредоточившись только на одном: как уговорить ее вернуться к отцу. Если девочка заупрямится, Алтын и дети погибли – защитить их будет некому.
Миранда склонилась над серой, поросшей мхом плитой. Оглянулась на Фандорина, и он увидел, что ее глаза сухи, а лицо непроницаемо. Значит, уже приняла решение, с замиранием сердца понял он.
– Смотри, какая смешная надпись, – сказала она, водя пальцем по полустершимся буквам. – «На сем месте погребен конной гвардии вахмистр Дмитрий Алексеевич Карпов на седмом году возраста своего веселившимся успехам его в учении родительским сердцам горестное навлекший воспоминание преждевременною 16 марта 1795 года своею кончиною. Покойся милый прах до невечерня дня».
– Что ж тут смешного?
– Ну как же – вахмистр на седьмом году возраста. И грамматика – шею свернешь.
– Витиеватость считалась в те времена хорошим тоном, – объяснил Николас, не зная, как подступиться к разговору.
Мира задумчиво протянула:
– Красиво – «до невечерня дня». Отчего малыш умер? Жалко.
Выпрямилась и пошла гулять дальше, Николас же шел следом, уже чувствуя с нарастающим отчаянием, что не найдет таких слов, которые заставили бы его гордую воспитанницу вернуться к предавшему и продавшему ее отцу.
В этот холодный и солнечный ноябрьский день монастырь был почти безлюден. Присыпанные снегом деревья, забытые могилы, утонувшие в земле старые стены – все это, казалось, и не нуждалось в людях, отличным образом обходилось без них.
Может быть, именно поэтому Мира повернула от церквей в сторону дальней стены, где располагались домики монастырских служителей.
Николас тащился следом, невидящим взглядом посматривая на палисадники, огороды, окошки с цветными занавесками. Как найти правильные слова, чтобы она переступила через свою боль, через ужасную травму и, несмотря ни на что, простила Мирата Виленовича? Есть ли вообще на свете такие слова?
Было очень тихо, только поскрипывал снег под ногами, да бубнило где-то радио.
– Криминальная хроника, – произнес бодрый женский голос. – Сегодня утром в автомобиле «БМВ», припаркованном на стоянке возле здания Госкомимущества, обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Оба мужчины убиты выстрелом в рот.
Судя по документам, это известный предприниматель, владелец сети аптек «Добрый доктор Айболит» Олег Ястыков и его шофер Леонид Зайцев. Несмотря на то, что двойное убийство произошло в людном месте и в дневное время, свидетелей преступления нет. Оперативно-следственная группа…
– Мира! – закричал Фандорин во все горло. – Мира!
И не смог продолжить – пошатнулся. Облегчение было таким абсолютным, таким физическим, что его замутило, как водолаза, слишком быстро вынырнувшего из-под толщи воды.
– Что?! Коля, что с тобой?! – испуганно пискнула Мира.
Кинулась к нему, крепко обняла, чтобы не упал.
– Тебе нехорошо? Сердце?
– Она его убила, – с не по-христиански ликующей улыбкой сообщил Николас. – Жанна. Ястыкова. Выстрелом в рот. Это ее манера. Вот почему она сказала: «С Олежеком проблем не будет». Мне… то есть нам больше нечего бояться.
– Ну и хорошо, – сказала она помолчав. – Значит, я могу туда не возвращаться.
Он несколько раз моргнул, не сразу вникнув в смысл ее слов. Когда же вник, стало стыдно – за то, как плелся сзади побитым псом и подыскивал ключик к ее сердцу.
– Ну и правильно.
Николас снял снежинку с ее волос, потом другую, третью. Не удержался, поцеловал туда, где у корней золотился нежный пушок.
– Поехали в Москву. Будешь жить у меня.
Сказал – и вдруг представил картину своего возвращения. Пропадал невесть где десять дней, морочил жене голову какими-то ужасными опасностями, а потом заявился – сияющий, в сопровождении умопомрачительной нимфетки, и бух с порога: «Это Мирочка, она поживет с нами». А тут еще Глен со своей дурацкой запиской… Будет трудно.
На шоссе, у поворота к усадьбе Утешительное девочка вдруг сказала таксисту:
– Нам нужно заехать вон туда, под «кирпич».
Шофер оглянулся на Николаса – тот пожал плечами. Повернули.
– Зачем? – спросил он шепотом.
– Вещи заберу. Мне его шмоток и цацек не нужно, а свой чемодан возьму. Его Роберт Ашотыч на свои деньги купил. Еще там дневник, я его с одиннадцати лет веду. И мамина фотокарточка.
Ее губы были упрямо, до белизны сжаты, но по мере приближения к поместью линия рта постепенно утрачивала твердость, а белизна перемещалась с губ на щеки.
У ворот Мира взяла Фандорина за руку.
– Нет, не могу. Коля, сходи один, а? Ну пожалуйста! Там в шкафу, в самом низу чемоданчик, с наклейками. Инга хотела выкинуть, но я не дала. А дневник и фотокарточка спрятаны в розовой подушке.
– Говорить, что ты здесь? – тихо спросил Николас.
Она не ответила.
Минуты три он стоял перед стальными створками, дожидаясь вопроса из динамика. Не дождался. Странно.
Тогда нажал на звонок.
И опять никакой реакции.
Уехали все, что ли? Но ведь кто-то должен присматривать за домом?
Наконец из металлического динамика донесся дрожащий женский голос:
– Кто это?
– Клава, вы? Это Николай Александрович. А где охрана?
– Господи, просто конец света, – пожаловалась Инга Сергеевна, встречая Фандорина на пороге гостиной. – Ходкевич исчез, охранники тоже. Хулиганье какое-то кинуло из-за стены камнем в оранжерею. Сидим тут вдвоем с Клавой, всего боимся. Как видеокамеры работают, не знаем. Звоню Мирату, Игорьку – они на комбинат улетели, с Гебхардтом. Мобильные не работают, а на место они еще не прибыли…
Тут она спохватилась, виновато прикрыла ладонью рот.
– Ой, ради Бога простите! Я о своей ерунде, а вы… Слава Богу, что вы живы! А Мирочка? Где она?
Он замялся, не зная, говорить ли, что девочка здесь, за воротами.
Госпожа Куценко поняла его молчание по-своему. Горестно вздохнула, перекрестилась.
– Да-да, Мират сказал, что девочку спасти не удастся… Ужасно. Только не рассказывайте мне подробностей, ладно?
– Так и сказал: «спасти не удастся»? – поневоле вздрогнул Николас.
– Да. Он держался очень мужественно, во всяком случае по телефону. Так его жалко – слов нет! А тут еще поездка на комбинат. И ведь не отложишь, у Гебхардта каждый час расписан… Кошмар! После стольких лет найти дочь и сразу же потерять… У нас ведь с ним детей быть не может, я рассказывала…
Должно быть, он не совладал с лицом – хозяйка смутилась и затараторила:
– Дело, конечно, не только в Гебхардте. Даже и вовсе не в нем. Мират так устроен – когда ему плохо, он ищет забвения в работе. Бедная Мирочка! Какая славная была девочка. Выросла бы настоящей красавицей… – Инга всхлипнула, осторожно промокнула платочком слезу. – Ее хоть не мучили? Нет-нет, не надо рассказывать! Ужасные времена, ужасные… А как пронюхает пресса – такое начнется! Но Мират все выдержит, он железный.
Оглянувшись вокруг, хотя никого постороннего быть не могло, госпожа Куценко перешла на шепот:
– Про Яся вы, конечно, знаете. Я по телевизору, в новостях видела. Голова запрокинута, весь подбородок в крови. Ужас! Это его Мират убил, да? За Мирочку? Господи, я помню их обоих в пятом классе – один вихрастый такой, второй в смешных очочках… Все посходили с ума…
Речь хозяйки становилась все неразборчивей и неразборчивей, зубы начали клацать – кажется, дело шло к истерике.
Николас усадил Ингу на диван, налил воды.
Стукаясь зубами о стакан, она бормотала:
– Камнем в оранжерею… Там же лилии, им холодно… А Павел Лукьянович почему… Приезжаю – одна Клава… Все сумасшедшие, все… Что за жизнь… Ни шагу без охраны… Не помню, когда по улице гуляла… Детей убивают… Приговоры по почте шлют… Ненависть, злоба и безумие…
– Что?! – воскликнул Фандорин. – Какие приговоры по почте? О чем вы?
– А? Да это давно. Не важно. Мират сказал, не бери в голову, разберусь. Инга допила воду, высморкалась.
Фандорин полез за записной книжкой, дрожащими пальцами открыл нужную страницу.
– Когда это было? Шестого июля?
– Да, точно! В мой день рождения, поэтому я и почту вскрывала сама. Правильно, шестого! Открытки, поздравления и вдруг, на такой плотной карточке, какой-то бред: Куценко приговаривается к смерти, потому что он сволочь. Что-то в этом роде.
– «Объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению». Так?
– Да, так! – Прекрасные глаза Инги удивленно расширились. – А вы откуда знаете? Что это у вас за записи?
– Значит, Мират Виленович видел приговор, – констатировал Фандорин, не обращая внимания на вопрос. – И что он?
– Ничего. Поручил Игорьку разобраться. Я через несколько дней спросила, он говорит: ерунда, ничего серьезного, обычный псих.
Николас даже зажмурился – настолько ослепительным, до боли ясным было озарение. Ах, Мират Виленович, мастер шахматных комбинаций! А вы, господин Фандорин, осел. Дедушке Эрасту Петровичу было бы стыдно за ваши дедуктивные способности.
Вот же он, список приговоренных. Разгадка с самого начала таилась в нем.
СУХОЦКИЙ,
Президент АО «Клятва Гиппократа»
Приговор – 9 июня
Вручено – 11 июня
Исполнено —
ЛЕВАНЯН,
Генеральный директор 000 «Играем и выигрываем»
Приговор – 25 июня
Вручено – 28 июня
Исполнено —
КУЦЕНКО,
Директор АО «Фея Мелузина»
Приговор – 6 июля
Вручено – 6 июля
Исполнено —
ЗАЛЬЦМАН,
Генеральный директор ЗАО «Интермедконсалтинг»
Приговор (указ.) – 14 августа
Вручено – 15 августа
Исполнено – 16 августа
ШУХОВ,
Председатель совета директоров агентства «Клондайк»
Приговор (корр.) – 22 августа
Вручено – 23 августа
Исполнено —
ЗЯТЬКОВ,
Председатель правления «Честного банка»
Приговор (указ.) – 10 сентября
Вручено – 13 сентября
Исполнено – 19 сентября
ЯСТЫКОВ,
Председатель совета директоров АО «ДДА»
Приговор (указ.) – 11 октября
Вручено – 13 октября
Исполнено —
ФАНДОРИН,
Президент фирмы «Страна советов»
Приговор (корр.) – 8 ноября
Вручено —
Исполнено —
До появления в списке имени Куценко приговоры не исполнялись, после же 6 июля появились таинственные «указ.», каждое из которых приводило к смерти приговоренного. Кроме самого последнего – господина Ястыкова. Но с ним отдельная история, не стоит забегать вперед.
Последовательность событий была такая. Бедному, свихнувшемуся от горя вдовцу наконец приснилась покойница-жена. Судя по записям в «Эпикризе» («3 июня. Спасибо, Люба! Все понял, все сделаю. Мне отмщение и Аз воздам!»), именно в тот день или, скорее, в ту ночь, Шибякину явилась Люба и потребовала возмездия. Ничего удивительного, ведь месяц за месяцем в душе страдальца накапливались боль и обида, требуя выхода. Первым делом Иван Ильич исполнил личную вендетту – приговорил к смерти гада и обманщика Сухоцкого из «Клятвы Гиппократа», который обобрал несчастную семью. Выполнять свой приговор Шибякин не собирался, да и как бы он смог это сделать? Ведь он же был не взрывник, не снайпер, а обычный совслужащий, который тронулся рассудком.
Болезнь усугублялась. Ему понравилось воображать себя ревнителем справедливости и истребителем не правды. Начал выискивать рекламы, которые казались ему мошенническими. Так в список приговоренных угодил генеральный директор лотереи «Играем и выигрываем», который, кстати, до сих пор жив и продолжает надувать доверчивых граждан Российской Федерации.
А третьим в списке стал владелец «Феи Мелузины», компании, сулившей состоятельным женщинам неземную красоту и вечную молодость. В дефиниции господина Куценко суровый судья ошибся лишь наполовину:
Мират Виленович обманщиком не был, а вот гадом – несомненно. Причем гадом очень осторожным. Можно не сомневаться, что исполнительный Игорек без большого труда определил отправителя смехотворного вердикта. Тогда-то у шахматиста и возник план многоходового этюда: использовать сумасшедшего в собственных целях. Отличное прикрытие! В записях Шибякина число 13 августа подчеркнуто трижды и рядом загадочная фраза: «Я не один!» Черт его знает, каким образом заморочили голову бедному психу. Возможности у господина Куценко самые широкие – мог и соответствующее видение организовать, даже инсценировку. Когда человек очень хочет во что-то поверить, ему довольно малости. А если он еще и нездоров…
«Указ.» – это «указы» или «указания», что-нибудь в этом роде. В общем, выбор «гада и обманщика», произведенный самой Высшей Силой, а не ее «корр.», то есть «корреспондентом». 13 августа Ивану Ильичу было откровение, что он не один, а уже на следующий день последовал первый «указ».
Фандорин оторвался от записей, снова взглянул на хозяйку, которая, оказывается, все это время продолжала изливать поток сознания:
– …Почти все время одна… И никого, кроме него. Ни подруг, никого. Раньше хоть мама. Если бы ребенок. Тогда да, тогда совсем другое. Но что жаловаться. Я не жалуюсь. Грех жаловаться. Спасибо, что жива осталась…
– Зальцман, генеральный директор «Интермедконсалтинга». Вам это имя что-нибудь говорит? – перебил ее Николас.
– Вы знали Михаила Львовича? Он когда-то работал с Миратом. Они вместе начинали дело, вместе разрабатывали методику. Но потом Зальцман оказался непорядочным человеком. Открыл собственную клинику, украл у Мирата разработки. Не все конечно, но достаточно, чтобы развернуть успешный бизнес. А сам как хирург ничтожество, пустое место. Деляга от медицины. То есть был, потому что его уже нет. Запутался в каких-то темных делишках, вот его и убили.
В десятку!
– А Зятькова из «Честного банка» вы знали?
Инга сердито всплеснула руками:
– Еще бы мне его не знать! Подлец, каких мало! Сколько раз дома бывал, увивался вокруг Мирата, а потом даже не предупредил, что собирается банкротиться. У нас там знаете сколько денег пропало? Мират пробовал Зятькова урезонить: верни, мол, хоть часть. Ведь миллионы в оффшоры перевел, вилла у него в Канне, «мерседес» на племянницу записан. Какой там! Но ничего, нашлись кредиторы пожестче Мирата – взорвали Зятькова вместе с «мерседесом».
Дальше – ясно, покивал сам себе Фандорин. Дошла очередь до одноклассника. Дело здесь не в старой вражде, а в Ильичевском комбинате. Куценко решил отобрать у Ястыкова куш, который тот долго и тщательно подготавливал для себя. При этом Мират Виленович отлично понимал, что Ясь будет драться за такую добычу не на жизнь, а на смерть. Вот и решил нанести упреждающий удар. Только Олег Станиславович оказался предусмотрительней Зальцмана и Зятькова – отнесся к нелепому приговору всерьез, пустил по следу Жанну, ну а дальнейшее развитие событий известно, потому что в них президент «Страны советов» принимал личное и весьма активное участие…
– Что с вами? – спросила Инга. – Что вы все шепчете?
– Скажите, а когда у Мирата Виленовича возникла идея купить Ильичевский химкомбинат?
– Впервые я об этом услышала с полгода назад. Может, чуть меньше. Так увлекся этой идеей! Знаете, он, когда ему западет что-нибудь в голову, становится просто как бульдозер – движется только прямо и все сметает на своем пути. Но с комбинатом получилось иначе. – Инга всхлипнула. – В августе нашлась Мирочка, и Мирата стало просто не узнать. Он помягчел, стал чаще бывать дома. Даже на телевидение с ней, бедняжкой, ходил.
И хозяйка горько заплакала, уже не следя за сохранностью ресниц.
Николас же замер на месте, осененный новым озарением, и тихо-тихо спросил:
– Скажите, а он вам раньше говорил, что ищет дочь?
– Нет. Он иногда бывает такой дурачок, только я это знаю. Боялся, что я буду на него сердиться. За что? За грехи молодости? Да и какие это грехи…
То есть о существовании Миранды вы узнали лишь в августе?
– Да, в самом конце.
Ай да Куценко!
К тому времени Мирату Виленовичу, надо думать, доложили, что убрать осторожного Ястыкова, опекаемого Жанной, будет непросто, и он разработал этюд поизящней.
Подыскал девочку ангельской внешности, чтоб хорошо смотрелась на телеэкране и на страницах таблоидов. Добросовестно разыграл роль счастливого отца. Безошибочный сюжет, воплощенная масс-медиальная мечта! Маленькая Золушка, добрая фея, богатые тоже плачут – и все, как говорится, в одном флаконе. Можно не сомневаться, что у них с Игорьком уже заготовлен целый пиаровский букет по поводу похищения и убийства бедной сиротки.
Зная повадки своего оппонента, Мират Виленович сам приготовил ему подставку – такую, мимо которой пройти было невозможно. А любимую супругу на всякий случай подстраховал – завел «цыпулю» на стороне, чтоб имитировать свое к жене охлаждение.
Не человек, а шахматный компьютер. – Вам нехорошо? – испуганно уставилась на него Инга. – У вас такое странное лицо.
Это у вас, госпожа Куценко, лицо странное, подумал Фандорин. Прежнее, со школьной фотографии, было не таким красивым, но куда как лучше этой кукольной мордашки.
И в эту секунду магистру истории было третье озарение, самое жуткое из всех.
Выйдя из ворот усадьбы, он молча положил в багажник «волги» дешевый чемоданчик с яркими наклейками.
В машине играла музыка. Мира сидела, забившись в угол, во все глаза смотрела на Николаса.
– Что, просто отдали вещи, и все? – спросила она со страхом в голосе.
– Поехали, – велел он шоферу и отвернулся, потому что не хватало мужества смотреть ей в лицо. – …Там одна Инга. Отдала – даже не спросила, зачем мне твои вещи. Сказала, Мирату будет тяжело их видеть… Она думает, тебя убили.
«На ковре-вертолете мимо ра-ду-ги мы летим, а вы ползете, чудаки вы, дураки!» – пело радио. Хорошо, что громко – водителю слышать разговор было ни к чему.
– А… он? Он где?
– Уехал на химкомбинат, – кашлянув, ответил Фандорин.
И наступило молчание. Минут, наверное, через пять Миранда произнесла неестественно спокойным тоном, словно пытаясь уяснить условия задачки:
– Значит, так. Сначала у меня никого не было. Потом у меня появился отец. Потом оказалось, что мой отец – гнойный урод, который променял свою дочь на гребаный химкомбинат.
– «Гребаный» – скверное слово, еще хуже, чем простой мат, – сказал Николас, потому что еще не решил, нужно ли говорить девочке правду.
Осторожно посмотрел на нее, увидел воспаленно блестящие сухие глаза. Понял, что нужно.
– Он безусловно урод, но все же не до такой степени, чтоб променять собственную дочь на контрольный пакет акций. Куценко тебе не отец.
– А кто? – все тем же безразличным голосом поинтересовалась она.
– Он… шахматист, вот он кто. И, подсев к воспитаннице поближе, Фандорин объяснил ей смысл разработанного Миратом Виленовичем ферзевого гамбита, в котором Мире отводилась роль жертвенной пешки.
Удивительно, но зловещий рассказ подействовал на пешку живительным образом. Помертвевшее лицо девочки сначала обрело нормальный цвет, потом порозовело, а под конец запламенело яркими пятнами. Брови сдвинулись, ясный лоб нахмурился, а глаза смотрели уже совсем не жалобно.
– Ах, вот он со мной как! Ну, гад! – воскликнула она, сжав кулачки.
– И обманщик, – криво усмехнулся Фандорин. – Только, знаешь, с тобой он еще поступил не самым худшим образом. Ты знаешь историю про то, как он добился Ингиной любви?
– Да, она мне рассказывала. Мы сидели вечером вдвоем, она выпила и рассказала. Объясняла мне, что такое большая любовь.
Николас передернулся:
– На мой вкус, чересчур большая. Я уверен, что и это была шахматная партия. Гарде королеве. Ему мало было… ну, вступить с ней в отношения. Похоже, она, действительно, была мечтой всей его жизни, но он хотел владеть не только ее телом, но и душой. Очень трудно, почти невозможно заставить, чтоб тебя полюбили. Но Куценко волшебник, он сумел. Сначала, правда, пришлось королеву немножко изуродовать, но потом он это поправил, руки-то у него золотые. А что яичники вырезал, так это чтоб она только его одного любила, на детей не рассеивалась. Конечно, доказательств нет, но я уверен, что вся история со смертельной болезнью – выдумка. Сам, в собственной клинике, сделал анализы, сам поставил диагноз, сам оперировал. Просто чемпион мира по шахматам!
Девочка слушала с раскрытым ртом. Потом закрыла рот, постучала таксиста по плечу.
– Едем назад! Поворачивай!
Тот затормозил, раздраженно обернулся:
– Але! Вы чего, с дуба попадали? Сговорились за три сотни до центра. А тут сюда поверни, торчи там полчаса, потом опять разворачивай. Так не пойдет.
– Сто баксов, – сказала Мира. – И все, засохни. Крути баранку!
Шофер немедленно засох. Рванул с места, развернулся через двойную полосу – только камешки из-под колес полетели.
– Что ты задумала? – всполошился Николас. – Ты хочешь вернуться в Утешительное? Но зачем?
– А чего это я должна уезжать из своего дома? – процедила она, сузив глаза. – Я законная дочь Мирата Виленовича Куценко, у меня и паспорт новый. Про нас с папочкой вся страна знает.
– Ты… Ты хочешь ему отомстить?
– Обманщикам и гадам спуску давать нельзя, – отрезала Миранда. – Что он, мразь, со мной хотел сделать? И сделал бы, если б не ты! А с Ингой? Изрезал лицо, утробу искромсал, да еще мозги выпотрошил, в болонку превратил! Нельзя, чтоб такое даром сходило!
Фандорин схватил ее за руку:
– Ты хочешь рассказать Инге? Не смей! Да она и не поверит!
– Конечно, не поверит. Сначала. А потом припомнит, как все было, и задумается. Будет смотреть на него и гадать: правда или не правда? – Миранда мечтательно улыбнулась. – Он ее одну любит, больше всего на свете? Так вот хрен ему. Ты сам меня учил, помнишь? Ну, когда мы про Джека Потрошителя спорили. Со злом надо бороться, пасовать перед ним нельзя.
Он взволнованно затряс головой, боясь, что не сумеет сейчас найти нужных слов.
– Послушай… Ты ведь уже взрослая, ты умная, ты должна это понять! Человеку только кажется, что он борется со злом, которое вовне. На самом деле он борется со злом в самом себе, преодолевая свои собственные малодушие, корысть, эгоизм! Победа над злом – это победа над плохим в самом себе. Вот почему когда зло побеждают нечестными, недостойными способами, это никакая не победа, а поражение. Потому что зло извне перемещается внутрь тебя, и получается, что оно победило, а ты проиграл! Черт, я путано говорю! Ты меня понимаешь?
Мира помолчала, глядя на него исподлобья.
– Ладно. Сегодня ей не скажу… Было ясно, что большего от нее не добиться. Фандорин откинулся назад, закрыл глаза. Какой тяжелый, нескончаемый день, думал он, чувствуя себя постаревшим на десять лет.
Глава двадцать вторая
Много шума из ничего
Мне еще не исполнилось семи лет, а будто семьдесят, думал Митридат, глядя на жалкое папенькино лицо. Слезы высохли сами собой – все равно по части слезообильности за родителем было не угнаться. Да и о чем плакать? Ну их всех, с их жизнью, если тут такие дела творятся. Лучше умереть. Только Данилу с Павлиной жалко.
Видно, что-то такое проступило в его лице – Алексей Воинович попятился, потер рукой лоб, словно хотел вспомнить нечто, но не мог.
– Шишку родительской любви расчесываешь? – усмехнулся Маслов. – Это самоновейшее немецкое открытие – будто все качества человеческой натуры в шишках черепа проступают. Ты бы лучше шишку решительности в себе развил. Мне понадобятся доказательства твоей преданности.
Папенька в ужасе поворотился к тайному советнику:
– Я?.. Вы желаете, чтобы я… сам? Нет, увольте! Я не смогу! Ведь это единокровный сын мой!
И рухнул на колени, руки по-молитвенному сложил, зарыдал в голос.
Маслов назидательно сказал:
– Следовало бы. Чтоб еще крепче тебя привязать. Но ведь ты и вправду не сможешь, только шуму да грязи понаделаешь. Я и сам на этакие дела не умелец, – признался он. – На то свои мастера есть. Соврал я давеча, будто один приехал. Тут на почтовой станции, близехонько, мои людишки ожидают. Они все и исполнят. Не трясись, мои чисто работают. Ты вот что, завтрашний министр, ты его за руку возьми, чтоб не вырвался, да рот заткни – только от тебя и нужно.
Митридат не стал ни кричать, ни метаться – такое на него сошло ко всему безразличие. Папенька, бормоча молитву, прижал его к себе, на уста наложил горячую ладонь. Укусить, что ли, вяло подумал Митя.
До кости, чтоб память о младшем сыне осталась. А, ну его…
– Вот и хорошо, вот так и славно, – приговаривал Прохор Иванович, доставая из кармана бутылочку. – Еще одно германское изобретение, потолковей черепных шишек. Средство для усыпления. Я химическую науку превыше всех прочих ставлю, истинная королева учености.
Смочил платок, накрыл им Митино лицо. На макушку часто-часто капали папенькины слезы.
Платок пах резко, противно. От вдоха внутри черепа пробежало щекотание, закружилась голова.
– Все дальнейшее без тебя устроится, – доносился издалека голос Маслова и с каждой секундой отдалялся все дальше и дальше. – Ты мне только помоги его завернуть и до саней донести. Отрок хоть и невеликий, а все ж пуда полтора весит. Мне же лекаря больше двадцати фунтов поднимать не дозволяют…
И еще потом послышалось – уже не поймешь, наяву ли, во сне ли:
– И похоронами сам озабочусь. Тут у вас Ново-Иерусалимский монастырь близко. Место намеленное, тихое. У меня там человечек свой. И закопает, и крест поставит. А ты, если пожелаешь, можешь после каменную плиту заказать, как положено…
А дальше Митя уже ничего не слышал, уснул. Без сновидений, без кратких смутных пробуждений, которые сопутствуют обычному сну. Просто отяжелели и упали веки, а когда открылись снова, он увидел над собой серое покачивающееся небо.
Фыркнула лошадь, что-то звякнуло – должно быть, сбруя.
Рассвет. Сани. Едем.
Более длинные мысли мозговая субстанция производить пока отказывалась, потому что пребывала в онемении. Во рту было еще хуже – так сухо, что язык шуршал о небо.
Митридат похлопал глазами, и от этого нехитрого упражнения взгляд стал яснее, а мысли чуть длиннее.
Платок с пахучей дрянью. Маслов – Великий Маг. Папенькины мечты осуществились. Ново-Иерусалимский монастырь. Не довезли еще?
Он приподнялся, увидел спину ссутулившегося возницы. Присыпанную снегом пелерину плаща, высоко поднятый воротник.
Это не Прохор Иванович. Тот в плечах поуже. Должно быть, мастер страшных дел, про которого говорил тайный советник.
И зачем только очнулся? Чтоб новую муку терпеть?
Тут возница обернулся, и Митя сразу понял, что новых мук не будет, потому что он уже отмучился и пребывает если не в лучшем из миров, то во всяком случае на пути к нему.
Лошадьми правил Данила Фондорин, и лицо у него было, хоть усталое, но чрезвычайно довольное.
Это у греков Харон (подумал еще не совсем оттаявшей головой Митридат), потому что в Греции всегда тепло и Стикс зимой не замерзает. А у нас Россия, у нас нужно на тот свет по льду ехать, на санях.
– Данила Ларионович, – спросил он скрипучим голосом, – он и вас убил? Вы теперь тут пристроились, Хароном? Или нарочно меня встречаете, чтоб я не боялся? А я и не боюсь.
– Ничего, – ответил Харон-Данила, – сонная дурь из тебя скоро выветрится, на холоде-то. Я по запаху понял, – он тебя спиртовым раствором белильной извести одурманил. Одного не пойму – зачем Маслову тебя живым в землю закапывать? Чем ты ему-то насолил? Неужто и он итальянцу служит? Невероятно!
Живым в землю? Это в каком смысле?
Однако учтивость требовала сначала ответить на вопрос собеседника, а потом уж спрашивать самому.
Митя и хотел ответить, но от сухости закашлялся. Зачерпнул с санного полоза снежку, проглотил. Стало полегче.
– Так Маслов и есть Великий Маг. У него на копчике двойной крест. Метастазио – злодей сам по себе, а этот сам по себе.
Фондорин присвистнул.
– Погоди, погоди, друг мой. Как так? И откуда ты про копчик узнал? Я ведь не успел тебе рассказать про сатанофагский обряд посвящения: как члены капитула наносят человеку в маске, своему новому Магу, тайные знаки – два на место рогов, один на место хвоста.
– Не успели, – сварливо сказал Митридат. – А кабы рассказали, все иначе бы сложилось. Не полез бы я прямо к волку в пасть, не остался бы сиротой!
– Что я слышу! – вскричал Данила. – Что стряслось с твоими почтенными родителями?
– Маменьки у меня по-настоящему никогда не было, – тихо ответил Митя. – А папенька… Он теперь тоже брат Авраама. Который своего сына Исаака не пожалел. Наверно, и выше того поднимется – прямо в члены Капитула…
Фондорин открыл было рот, да тут же и закрыл. Кажется, решил погодить с дальнейшими вопросами. Вместо этого пробормотал:
– Mauvais reve![15] Alptraum![16] От упоминания о сне Митя вздрогнул, опасливо спросил:
– Данила Ларионович, а вы сами-то мне не снитесь? Вы наяву или как? Меня же, вы говорите, заживо закопали? Откуда ж тогда вы взялись?
Фондорин откинулся назад, оперся на локоть. Вожжи бросил, и лошади побежали медленней, зато веселее.
– Расскажу, все расскажу, ехать еще далеконько, – пообещал Данила, хмурясь. – То, что ты мне поведал, меняет очень многое. Тут думать надо… Но сначала выслушай мою удивительную повесть, прочее же оставим на после… Расставшись с тобою и вверив свою участь слугам закона, я пребывал в глубокой печали и задумчивости. О чем, иль верней, о ком я размышлял в тот ночной час, догадаться нетрудно. О той, которая, подарив мне краткий миг блаженства, навсегда со мною рассталась. О тебе же, каюсь, не помышлял вовсе, ибо почитал тебя в совершенной безопасности и не мог даже помыслить, что собственными руками вверил бесценного друга кровожадному чудовищу. Вот оплошность, если не сказать хуже – преступление. Я бесконечно виноват пред тобой. Так виноват, что даже не осмеливаюсь молить о прощении!
– Данила Ларионович! – простонал Митя. – Ради Бога! Снова вы о прощении! Рассказывайте дело!
– Хорошо-хорошо, не буду, – успокоил его Фондорин, и далее рассказ тек плавно, не прерываясь.
«Величественная ночь несла нашу тройку на черных орлах своих, ее темная мантия развевалась в воздухе, и вся земля была погружена в сон. Как вдруг один из моих спутников, нарушив мои думы, сказал: „Ваше благородие, вон огоньки горят, не иначе станция. Коням бы отдых дать, да и нам с Федькой обогреться нехудо бы. А если бы вы еще велели нам по шкалику налить, то были бы мы совсем вами довольны и перед начальством за вас встали бы горой. Да и куда вам поспешать? Ежели в тюрьму, так это никогда не поздно“. „Ах, мой друг, отвечал я ему, заступничества мне не нужно, я готов понести заслуженное наказание. Однако же если вы замерзли – заедем, пожалуй“.
То и в самом деле была Лепешкинская почтовая станция, единственный остров бодрствования посреди всей дремотной равнины. В общей зале сидели ямщики и проезжающие простого звания, пили горячий сбитень, а некоторые и более крепкие напитки. Взял я своим стражникам, Федьке и Семену, штоф, потом второй.
Они принялись выпивать, судачить о своем, я же их разговоров не слушал, все вздыхал и, признаться ли, не раз смахивал с ресниц горькую слезу.
Вдруг Семен говорит – громче прежнего:
„Гляди, Федя. Видишь, в углу человек сидит, смурый. Пустой чай пьет, да на наш штоф косится. Это ж Дрон Рыкалов! При Архарове Николай Петровиче у нас плац-сержантом состоял. Никто лучше его не мог кнутом драть. За то и повышение ему вышло. Сейчас, слыхать, в Питере служит, в самой Секретной экспедиции, вон как высоко взлетел“. Я вздрогнул, про Маслова вспомнил. Эге, думаю, а ведь сей дратных дел мастер не иначе как с ним, подлецом, прибыл. „Пригласи, говорю, твоего знакомого. Пускай с нами посидит, я велю еще штоф подать“. Сам не знаю, что меня подвигло на сей маневр – должно быть, желание отвлечься от горько-сердечных раздумий.
Что ж, подходит к столу этот самый Дрон, садится. Семен не стал ему говорить, что я арестант, сказал – наш штатный лекарь, хороший человек. Я, как и сейчас, в полицейском плаще был, поэтому никаких сомнений у Рыкалова не вызвал.
Предложили ему выпить. Он покобенился немного – служба, мол, но однако противился недолго. Выпил – и вторую, и четвертую, и шестую. Мои Семен с Федором сомлели, головы на стол преклонили. Я же не пью, только вид делаю.
После чарки этак десятой Рыкалов похвастал, что приехал при большом человеке, а при каком именно и за какой надобностью, не скажет, потому не мое дело, но человек этот – наиважнеющий генерал и оказия великой секретности. Он, Дрон Саввич, тоже не лыком шит, ходит в немалых начальниках, не то что раньше в Москве. У него четверо подчиненных на сеновале, при лошадях.
И ему, Рыкалову, тоже там быть надлежит, такой у него приказ, да вот решил зайти, чайком погреться.
Я подливаю еще казенной, говорю: „Разве может быть секретная надобность в деревне? Наплел вам генерал. Приехал по приватной оказии, а вам всей правды не говорит. Известное дело“. Это я нарочно так сказал, чтобы его раззадорить. И что ты думаешь?
Он кулаком по столу стукнул. „Мне его превосходительство завсегда всю правду говорит! Потому Рыкалов самый верный ему человек“. Я на это ничего, только губы поджал: мол, мели, Емеля. Выпившему человеку, особенно если он от природы чванливой диспозиции, этакое недоверие хуже острого ножа.
Ну, Рыкалов и не выдержал. „Ладно, говорит, дело секретное, но как вы есть полицейский лекарь, то присягу давали и тайну хранить умеете. Мальчонку одного ищем. Что натворил, не ведаю, врать не стану, однако, несмотря на малые лета, тот мальчонка – отъявленный злодей и государственный преступник наивысшего разбору. А то разве отправился бы сам Прохор Иваныч за сотни верст киселя хлебать?“
Можешь вообразить, как отозвались во мне эти слова. Однако не успел я подступиться к масловскому порученцу с дальнейшими расспросами, вдруг открывается дверь и просовывает свинячью харю некий господин в черном парике, каких ныне уже не носят. Повел глазами туда-сюда, усмотрел моего Дрона, подошел, тронул за плечо. Эге, думаю, а ведь это, должно быть, его превосходительство начальник Секретной экспедиции, собственной персоной. На меня глянул мельком, внимания не удостоил. Что для него Данила Фондорин? Не живой человек, не особливое лицо, а фамилия в протоколе, среди прочих подобных. Признаюсь, было искушение: взять со стола штоф и сделать тайному советнику Маслову брешь в черепном сосуде. Удержали два соображения. Во-первых, такой поступок более уместен дикарю, нежели человеку цивилизованному. А во-вторых и в-главных, я должен был узнать, не случилось ли новой беды с моим драгоценным другом Дмитрием.
Маслов своему помощнику не сказал ни слова, только пальцем поманил и тут же вышел вон. Рыкалов переполошился, чуть стул не опрокинул – так торопился поспеть за начальником.
Я, разумеется, подождал самое малое время и вышел следом.
Во дворе никого, снег метет, темно. Но, вижу, за околицей две фигуры. Подкрался, слушаю. Благодетельнице Природе было угодно сделать так, что ветер дул в мою сторону, и потому, находясь на довольно значительном отдалении, я мог слышать почти каждое слово, а чего не разбирал, легко мог угадать.
Правда, вначале понятно было не все, ибо до моего слуха донеслась лишь концовка фразы. „…Всего и делов, – говорил Маслов. – Спросишь отца келаря, Ипатием звать. Дашь ему от меня вот эту записку. От себя прибавишь: недоросль, мол, сын дворянский. Обгорел на пожаре. В церкви уже отпет, отмолен. Гроба никакого не нужно, пускай так кладут. Ипатий тебе монахов даст, могилу копать. Дождешься, как засыплют, и живо назад. Я тут в горнице посижу, отдохну. Заслужил. А про пьянство твое после разговор будет. Смотри, Дрон!“
Погрозил кулаком – и в дом. Близко от меня прошел, но я за поленницей стоял, он не заметил.
Ах, милый друг, что творилось в тот миг в моей душе – не передать. Неужто это он про Дмитрия, думал я? Неужто это ты на пожаре обгорел? На каком еще пожаре?
Но терзаться особенно было некогда. Мой собутыльник уже садится в сани, на которых приехал Маслов, отъезжает. Ищи его потом в ночи!
Бросился к полицейской тройке. Слава Разуму, мои ленивцы коней не распрягли, только каждому по торбе с овсом повесили.
Кричу кореннику: „Вперед, славный Equus, не выдавай!“
Несусь по дороге в полной кромешности, сам не знаю куда. Раз келарь, монахи, стало быть, Дрону велено в какой-то монастырь ехать. Может, в Воскресенский, иначе именуемый Новым Иерусалимом? Вроде бы он где-то неподалеку.
Тридцать лет не молился, почитая сие занятие постыдным для достоинства суеверием, а тут оскоромился: Господи, говорю, которого нет, сделай так, чтоб треклятый Дрон никуда не свернул.
Смотрю – вроде чернеет впереди что-то. Разогнал лошадок – он! Рыкалов!
Едет в санях, и там у него сзади некий куль рогожный, веревкой обвязан. Длиной аршина в полтора как раз в рост дорогого моему сердцу существа.
И в тот миг я едва не лишился человеческого звания. Покинул меня Разум, изгнанный звериным бешенством. Подозреваю, что уста мои даже исторгли подобие рыка, а зубы ощерились. И поклялся я себе, что, ежели в том куле твои останки, то первым делом ворочусь на станцию и убью Маслова до смерти, а потом отыщу Еремея Метастазио и его тоже убью. Я же не знал еще, что итальянец не Великий Маг!
О, сколь ненадежна клетка, в которую Разум и Достоинство заточают дикого хищника, что таится в нашей душе! Я чуть было не превратился в чудовище!»
При этих словах Фондорин содрогнулся и замолчал.
– А что дальше было? – поторопил его Митя. – Вы его догнали и стукнули по башке, да?
«Зачем без нужды прибегать к насилию? Хоть я и был почти что не в себе, однако же помнил, что человек по имени Дрон Рыкалов передо мною пока еще ни в чем не виноват. Отчего же не попытаться применить Доброе Слово?
Поравнялся я с ним, кричу: „Я по случайности подслушал ваш разговор с тем господином. Верно ли, что вы везете хоронить труп некоего отрока?“
Дрон удивился моему появлению, а еще более вопросу, однако же ничего опасного не заподозрил. „Верно, отвечает. Только это дело секретное, так что вы уж помалкивайте“.
„A продайте мне сие тело“, говорю ему я.
Он лошадей остановил, вытаращился на меня. Зачем, спрашивает?
„Я лекарь, мне крайняя надобность для анатомических упражнений. Не поскуплюсь“.
„Продам – что хоронить буду?“
Ага, думаю. Похоже, договоримся. „Вам же куль не разворачивать. Насыплете взамен мертвеца земли или хоть хворосту. И вам выгода, и мне польза“.
Мои приятель Дрон колеблется. „Да недоросль, сказано, обгорел весь. На что вам головешка?“
„Ни на что, отвечаю. Мне костяк нужен, костяк то ведь не сгорел?“
А у самого от чувствительности сердца терпение на исходе. Ну, думаю, еще ломаться будешь, сейчас сшибу с саней, даром возьму.
Тут Рыкалов и спроси: „Да много ль дадите?“
„Десять червонцев“.
Он чуть не подпрыгнул от этаких деньжищ, однако ж догадался сказать: „Мой генерал – он знаете какой. Если дело раскроется – мне не жить“.
„Да откуда раскроется-то? Закопают куль, и дело с концом. Ладно, двадцать червонцев“.
И за двадцать золотых он мне тебя продал. Вот часто сетуют, что у нас в России много воруют и всякий служивый человек мзду берет. Я сам по сему поводу часто негодовал. Но ведь, если задуматься, что есть мзда в стране, где законы несовершенны, а свобода унижена? Очеловечивание бесчеловечности – вот что. Где в законных установлениях хромает разумность, немедленно является костыль в виде барашка в бумажке, и сию дисгармонию подправляет. Без этой смазки сухие и грубые жернова, на которых вершится вращение нашего общества, давно бы треснули и рассыпались. Несправедливо, скажешь ты. Согласен. Но деньги все ж беспристрастней и человечней произвола и насилия, ибо…»
– Данила Ларионович! – взмолился Митя. – Не отвлекайтесь вы! Что дальше-то было? И откуда у вас целых двадцать червонцев?
– Как откуда? Приняты от тебя, в долг, Разве ты забыл? Ну вот. Подошел я к кулю, хочу веревку развязать, а руки, веришь ли, ходуном ходят. Никак не справлюсь. Дрон подождал-подождал, говорит: «Да забирайте целиком. А то разворачивать – паленым мясом завоняет, я не люблю, меня еще в юности, когда в застенке работал, завсегда от этого тошнило. Давайте я его в ваши сани переложу. А у меня тут внизу еще рогожка лежит, и веревка имеется. Буду деревню проезжать, из какой-нибудь поленницы дров наложу, обмотаю, и ладно будет». Укатил Рыкалов к своему келарю. Я куль трясущимися руками разворачиваю, а внутри ты, и нисколько не обгорелый. Вполне живой, целый. Мирно почиваешь, будто la Belle au bois dormant,[17] и пахнешь усыпляющим раствором.
Вот тебе и весь мой сказ.
– А куда мы едем? – спросил Митридат, приподнимаясь и озирая окрестности, вид которых, впрочем, ничего ему не подсказал – поле, лес, деревенька вдали.
– Теперь, право, все равно, – безмятежно молвил Данила. – Я сбежал из-под ареста. Думал в Москву заглянуть: единственно, чтобы не прибавлять к своим преступлениям еще и самое низменное – воровство. Оставлю казенное имущество, – он кивнул на лошадей, – подле какого-нибудь околотка, и буду совершенно свободен. Я ныне беглый, бродяга. Ты же, дружок, и вовсе не поймешь кто. Персона без имени, существующая на свете без соизволения церкви и начальства.
– Разве я больше не Дмитрий Карпов?
– Нет. Конногвардейский вахмистр, которого ты только что помянул, скончался и похоронен в Ново-Иерусалимской обители. Так покойнее для всех и в первую очередь для него самого.
– Кто ж я теперь? – потерянно спросил Митя, который, оказывается, уже был никакой не Митя, а персона без имени.
Фондорин ответил не сразу, а когда заговорил, то не так, как обычно, а медленно, с запинкой:
– Об этом я и размышлял, пока ты находился под воздействием паров белильной извести. Хочешь… хочешь быть мне сыном? Ты мне душой родня, а это больше, чем по крови. Может, мне тебя Высший Разум послал, вместо моего Самсона. Он, правда, двумя годами старше… был, но разница невеликая. Свидетельство о его смерти не выправлено, а стало быть, для государства он, в отличие от Дмитрия Карпова, жив. Будешь Самсон Данилович Фондорин, а? Все же дворянский сын, свободный человек. Если согласишься, пойду в полицию с повинной. А может, откуплюсь от побитого капитана Собакина, червонцев-то еще много осталось. И заживем с тобой вдвоем где-нибудь в дальней местности, никто нам не нужен. Имущества у меня никакого нет, но, Разум даст, с голоду не умрем, я ведь лекарь…
И замолчал. На спутника не смотрел. Показалось, что даже вжал голову в плечи, словно боялся услышать ответ.
И Митя тоже молчал. Вспомнил про папеньку – передернулся. Маменька? Прав Маслов, она быстро утешится. Братец? Тот лишь рад будет…
Сел рядом с Данилой, обнял его. Мысленно проговорил по слогам свое новое имя: Самсон Фон-до-рин. Звучит не хуже, чем Дмитрий Карпов.
Потом ехали в молчании, навстречу светлеющему дню.
– А государыня? – спросил сын. – Ведь отравят ее – не один, так другой. Не быстрым ядом, так медленным.
Отец выдернул соломинку, сунул в рот, пожевал. Было видно, что ответ предстоит пространный.
– Да ну их, земных властителей. Все они единым миром мазаны, пускай пожрут друг дружку. Только навряд ли царем станет Наследник. Сие была бы историческая несуразица, история такого не захочет. Я верю, что в истории есть движение и смысл. Иногда ловкачи хитростью замедляют или перенаправляют ее течение, но ненадолго. Подобно реке, бегущей к морю, история лишь сделает изгиб в своем русле и вернется на предуготованную стезю. Ну обхитрит Маслов итальянца и возведет на престол свою куклу. Не усидит она долго, кувыркнется вместе с кукловодом. Время сейчас не такое, чтоб всем носить естество на одну сторону, как у гатчинских солдат. Снасильничать общество не под силу никакому тирану и никакому Магу. Это только кажется, будто чрезмерно волевой правитель способен перевернуть целую страну вопреки ее воле и желанию. Способен – но лишь в том случае, если сих перемен внутренне желает активная фракция, про которую мы с тобой уже говорили. И мудрый государь сей закон разумеет. Маслов же хоть и умен, но не мудр. А Наследник еще того менее. Государственная мудрость, Дмитрий, состоит не в том…
– Самсон, – поправил Фондорин-младший.
– Государственная мудрость, сын мой, состоит не в том, чтобы плыть наперекор ветру, а в том, чтобы вовремя подставить под него парус. Августейший Внук, в отличие от своего родителя, дитя новых времен и новых устремлений. Ему и царствовать, чуть раньше или чуть позже. Маслов с Метастазио могут сколь им угодно суетиться и коварничать, воображая, будто изменяют ход истории, но…
Динь-динь-динь, доносился спереди серебряный звон колокольцев, с каждой секундой приближаясь.
Навстречу тройке по белой дороге неслась запряженная белой шестеркой белая карета на полозьях – будто сама Царица Зима ехала осматривать свои владения.
– Mon père примите в сторону, – перебил оратора Самсон, не придумав, как обратиться к новообретенному отцу по-русски – слово «папенька» язык произносить отказывался. – Вон как гонят. Не сшибли бы.
Фондорин дернул вожжи, заворачивая коренника на обочину.
Но остановилась и чудесная карета.
Кучер крикнул с высоких козел:
– Эй, служивый, где тут у вас поворот на сельцо Осушительное? Не проехали мы?
Из окна экипажа высунулась дамская головка в собольей шапочке.
– Не Осушительное, а Утешительное, стюпид!
Данила издал диковинный звук, средний между стоном и всхлипом, Самсон же закричал что было мочи:
– Павлина!
То, что последовало далее, до некоторой степени напоминало знаменитое античное творение «Лаокоон и его сыновья, опутанные змиями», ибо в переплетении объятий, взмахах рук и быстром перемещении лобызающихся голов нелегко было разобрать, какая часть тела кому принадлежит. Производимым же шумом сия сцена могла бы поспорить с финальной картиной пиесы «Триумф добродетели», которую покойный царский воспитанник Митридат видел в Эрмитажном театре – как и в «Триумфе», все восклицали, плакали и ежемгновенно благодарили то Господа, то Разум.
Самсон просто повизгивал, даже не пытаясь сказать что-либо членораздельное.
Данила нес чушь:
– Знак свыше… Еще разок, всего разок… Спасибо, Разум! Ах, теперь и умереть… Какое счастье! Какое несчастье!
Одна Павлина говорила дело, но остальные двое ей мешали – то старого надо было целовать, то малого.
– Полночи металась, сон не шел… Чувствую – не могу! Грех, а не могу! Лучше в петлю… Бросилась к вам, Данила Ларионович, а вас нет! Слуги говорят, еще вечером уехали, с какими-то ярыжками, на тройке. Догадалась – в Утешительное, больше некуда… Велела запрягать! Дорогой все обдумала, все решила! Боялась только, не найду. Слава Богу, нашла! Чего мы так напугались? Кого? Платона Зурова, его итальяшку вихлястого? Пустое, много шуму из ничего. Это они в Питере всесильные, а держава у нас, благодарение Господу, большая. Чем от дворцов дальше, тем привольнее. Уедем, Данила, на край света. У меня завод за Уралом, от мужа остался. Две тыщи верст от Зимнего, а то и больше. Не достанет нас там Метастазио, а сунется – ты ему живо укорот дашь. Побесится князь Платон, да и успокоится – сыщет себе другой предмет, покладистей меня. Поедем, Данила! Будем жить и любить друг друга – сколько Господь даст. И Митюшу возьмем. Надо только его батюшке с матушкой объяснить, что это ради его спасения.
– Не надо им объяснять! – крикнул Самсон, покоренный величавой простотой идей. А еще говорят, будто женский пол разумом слабее мужского. – Я и так поеду!
– Но я слишком стар для вас, – сказал Фондорин испуганно.
– Любящие всегда одного возраста, – назидательно ответила графиня.
– Я нищ, у меня ничего нет.
– А это слова обидные. После будешь просить у меня за них прощения.
– И наконец, – совсем потерялся Данила, – у меня дитя от прежней женитьбы. Вот оно, перед вами. Я искал его и нежданным образом нашел.
Павлина озадаченно перевела взгляд с Фондорина на мальчика и, кажется, догадалась, в чем дело.
– Это не твое дитя, а наше. И ежели ты не женишься на матери своего сына, то утратишь право именоваться порядочным человеком. Гляди, ты совсем его заморозил в своих убогих санях. Беги в карету, Митюша.
– Я Самсоша, – поправил сын.
Перед самой Драгомиловской заставой догнали гренадерскую роту, видно, возвращавшуюся с плаца. Впереди маршировали барабанщики, ложечники, мальчики-флейтисты. Сбоку вышагивал субалтерн – ротный капитан по утреннему времени, должно быть, еще, почивал.
Флейты монотонно высвистывали строевую мелодию, барабаны стучали невпопад, ложечники и вовсе не вынули своих кленовых инструментов.
Павлина велела кучеру остановиться. Поманила офицера.
– Скажите, господин военный начальник, умеют ваши музыканты играть «Выду ль я на реченьку»?
– Как же, сударыня, – ответил румяный от мороза офицер, с удовольствием глядя на красивую даму. – Новое сочинение господина Нелединского-Мелецкого, вся Москва поет.
И пропел звонко, чувствительно:
- Выду ль я на реченьку, погляжу на быструю,
- Унеси ты мое горе, быстра реченька, с собой!
– Так пусть сыграют, – попросила Павлина; – И коли постараются, всей роте на водку.
– А мне что? – томно спросил субалтерн.
Из глубины экипажа колыхнулся было суровый Данила, но графиня толкнула его в грудь – сиди.
– А вам поцелуй, – пообещала она. – Воздушный.
– Идет!
Офицер обернулся к музыкантам.
– Ну вы, мухи сонные! Хватит нудить. Давай «Реченьку»! Да живо, радостно! Барыня магарыч дает. Раз два-три! Эй, флейты, начинайте!
Глава двадцать третья
Отцы и дети
И флейты чисто, проникновенно заиграли душераздирающий вальс, оплакивавший солдат, которые пали на далекой, давно забытой войне.
Вряд ли когда-нибудь это маленькое, недавно возрожденное из запустения подмосковное кладбище видело такие похороны – разве что в 1812 году, когда здесь хоронили воинов, что скончались от ран после Бородинского сражения. Очень вероятно, что где-то здесь, в одной из братских могил тех, «чьи имена Ты, Господи, веси», лежал и дальний предок Николаса, молодой профессор Московского университета Самсон Фандорин, записавшийся в ополчение и пропавший без вести в деле при Шевардинском редуте.
Но только и тогда, два века назад, вряд ли на церковном погосте могло собраться столь блестящее общество – чтоб траурные мелодии исполнял секстет с мировым именем, а на аккуратных дорожках, меж тщательно реставрированных старых и еще более роскошных новых надгробий, теснилось такое количество красивых и знаменитых женщин. Были, конечно, и мужчины, но прекрасный (не в учтивом, а самом что ни на есть буквальном значении этого слова) пол явно преобладал. Редкие снежинки медленно летели с опечаленных небес, чтобы эффектно опуститься на соболий воротник или растаять на холеной, мокрой от слез щеке.
Вдовы не было, да и не могло быть. Во-первых, потому что из спецотделения психиатрической больницы не выпускают даже на похороны собственного мужа. А во-вторых, потому что убийце нечего делать у свежевырытой могилы своей жертвы.
Соболезнования принимала дочь, она же наследница усопшего. Маленькая девушка со строгим, бледным лицом стояла возле усыпанного дорогими цветами палисандрового гроба и с серьезным видом слушала, что нашептывали ей всхлипывающие красавицы. Одним отвечала что-то, другим просто кивала. Соболезнования были долгими, так что к девушке выстроилась целая длинная очередь.
Отовсюду доносились звуки рыданий – от сдержанно-трагических до откровенно истерических.
Известно, что внезапная и, в особенности, драматично внезапная смерть всегда поражает воображение больше, чем мирная кончина, а покойный покинул мир чрезвычайно эффектным образом: чтобы любимая жена во сне перерезала скальпелем горло – такое случается нечасто. Но одно лишь сострадание к безвременно оборвавшейся чужой жизни не способно вызвать такую бурю скорби. Столь неистово оплакивают лишь самих себя, думал Николас, стоявший в траурной веренице самым последним.
На печальную церемонию он выбрался, можно сказать, нелегально – наврал жене, что едет в Шереметьево встречать Валю Глена, который во флоридской клинике обзавелся новым носом, еще краше прежнего. Знай Алтын о похоронах, она, наверное, приехала бы на кладбище, но не для того, чтобы возложить на могилу цветы, а чтоб плюнуть в гроб. С нее, пожалуй, сталось бы…
Очередь все же двигалась. К дочери умершего подошла дама, стоявшая перед Фандориным. Дама сняла темные очки, и он узнал всенародно обожаемую эстрадную певицу.
– Мирандочка, миленькая, – завсхлипывала дива, – это правда? Вы правда нашли? Солнышко мое, я на колени упаду, честное слово!
– Только не здесь, ладно? – ответило юное создание.
– Да-да, конечно! – Певица дрожащей рукой дотронулась до локтя девушки. – Я не пожалею ничего… Вы меня понимаете? Если препаратов осталось мало и на всех не хватит, я заплачу больше. Мирандочка, Миранда Миратовна!
– Робертовна, – сурово поправила наследница и слегка тронула звезду за плечо – мол, пора.
– Так я позвоню? – жалко спросила та, отходя.
Николас стоял перед Мирой и глядел ей в глаза, поражаясь тому, как разительно изменилось их выражение – за какие-то несколько дней.
– Почему «Робертовна»? – спросил он наконец.
– Я возвращаю себе прежнее имя и фамилию. Краснокоммунарская Миранда Робертовна звучит лучше, чем Куценко Миранда Миратовна.
– Понятно… О чем это она просила? Мира усмехнулась краем рта:
– У этих щипаных куриц прошел слух, будто я нашла в папочкином сейфе не то секретную рецептуру, не то инструкции и ингредиенты. Вот они вокруг меня и выплясывают.
– В самом деле нашла? Она наклонилась к его уху.
– Ничего я не нашла. Но пускай выплясывают. Я выписываю из Италии профессора Лоренцетти, будет работать у меня в клинике. Как-нибудь их подшпаклюет. А еще я создаю исследовательскую группу, чтобы восстановили папочкину методику. На это уйдет несколько лет, так что кое-кому из этих бабусек не дождаться, но ничего, к тому времени у новых фиф рожи пообвиснут. Без клиентуры не останусь.
Нике сделалось не по себе, и он отвернулся от бывшей воспитанницы. Стал смотреть на белое лицо покойника – талантливого и безжалостного человека, который был когда-то маленьким, затюканным очкариком, потом играл в шахматы чужими судьбами, творил чудеса, осуществил главную, несбыточную мечту своей жизни, сделал много добра и еще больше зла. И вот он умер, и по нему воют прекраснейшие из плакальщиц так горько и искренне, как не оплакивали ни одного фараона или римского императора.
Скоро, очень скоро красавиц в российском бомонде катастрофически поубавится, со вздохом подумал магистр, кладя на землю возле гроба белые хризантемы – в самом гробу и около него места уже не было. Орхидеи, лилии, огромные розы лежали грудами, превратив этот угол кладбища в настоящую тропическую поляну.
А весной здесь высадят другие цветы, менее эффектные, но зато живые. Отчего в цивилизованном мире цветы – непременные спутники смерти? Чтобы компенсировать ее безобразие?
Нет, сказал себе Николас. Мы встречаем и украшаем смерть цветами, чтобы напомнить самим себе: последние корчи закончившейся жизни в то же время – родовые судороги нового бытия. Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…
