Смутные годы бесплатное чтение
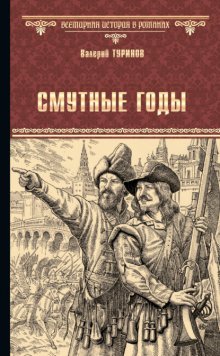
Валерий Игнатьевич Туринов
© Туринов В.И., 2022
© ООО «Издательство «Вече», 2022
Об авторе
Валерий Игнатьевич Туринов родился и вырос в Сибири, в Кемеровской области. После службы в армии поступил в МИСиС, окончил его в 1969 году по специальности «полупроводниковые приборы» и был распределен на работу в город Ригу. Проработав там три года, поступил в аспиранту МИСиС на кафедру физики полупроводников. После окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1977 году получил ученую степень к.т.н. и был распределен на работу научным сотрудником в НПП «Исток», в город Фрязино Московской области. Казалось бы, никакого отношения к истории и к литературе все это не имеет, но каждый автор приходит в литературу своим путем, зачастую очень извилистым.
Начиная со студенчества, работая в геологических экспедициях летом на каникулах, Валерий Игнатьевич объездил Сибирь и Дальний Восток. В экспедициях вел дневники, постепенно оттачивая стиль художественных приемов, а сами поездки пробудили интерес к изучению истории не только Сибири, но и истории государства Российского, а затем – и к прошлому Европы.
Особенный интерес вызывали XVI–XVII вв. – эпоха становления национальных европейских государств и связанные с этим войны. Вот почему осенью, зимой и весной Валерий Игнатьевич, как правило, пропадал в РГБ (Российской государственной библиотеке), собирал по крупицам в источниках судьбы людей, оставивших заметный след в той эпохе, но по какой-то причине малоизвестных сейчас, а то и вообще забытых.
К числу таких исторических личностей относится и француз Понтус де ла Гарди, родом из провинции Лангедок на юге Франции. Он дослужился до звания фельдмаршала в Швеции, прожил яркую, насыщенную событиями жизнь. Этот человек заслуживал того, чтобы создать роман о нем!
Сбором материалов в РГБ дело не ограничилось. Изучая жизнь Понтуса де ла Гарди, Валерий Игнатьевич делал выписки из документов РИБ (Русской исторической библиотеки), из АИ (Актов исторических), ДАИ (Дополнений к Актам историческим), из Дворцовых разрядов, материалов РИО (Русского исторического общества), а также многих литературно-исторических сборников, как, например, «Исторический вестник» за 25 лет.
Пришлось проделать большую работу, чтобы иметь более широкое представление об эпохе, а также о других известных исторических личностях, повлиявших на судьбу Понтуса де ла Гарди, или, говоря словами одного из героев, «сделавших» его человеком.
Эта деятельность, помимо основной работы по профилю образования, отнимала много времени и сил. Поэтому докторскую диссертацию в родном МИСиС Валерий Игнатьевич защитил поздно, в 2004 году, с присуждением ученой степени д.ф.-м.н., имея к тому времени уже свыше сотни научных публикаций и десяток патентов по специальности.
Избранная библиография автора (романы):
«На краю государевой земли»,
«Фельдмаршал»,
«Василевс»,
«Вторжение в Московию»,
«Смутные годы»,
«Преодоление».
К 400‐летию Смуты
Глава 1
Михаил Скопин-Шуйский
Князь Михаил Скопин-Шуйский, собрав на Новгородских землях войско из даточных, боярских детей и казаков, выступил 10 мая 1609 года из Новгорода на Москву. С ним вместе двинулись и полки наёмников под началом шведских генералов Якоба де ла Гарди и Эверта Горна. Этих наёмников генералы собрали из разных стран, на что им дал согласие шведский король Карл IX. Тот пошёл на это, опасаясь усиления Польши, своего племянника, польского короля Сигизмунда III, если тот захватит Московию. Так генералы выполнили тайный наказ своего короля. Они привели наёмников под Выборг, а затем к Новгороду, к Скопину на сход.
Всё шло гладко до Твери. Войска успешно шли вперёд, с боями, но слаженно, как следует союзникам доверчивым. Разлад между ними начался на подступах к Твери. Там первым через Волгу переправился де ла Гарди, оставив свой обоз на её левом берегу. И тут его наёмники столкнулись с польским гарнизоном: Зборовский вышел навстречу им и навязал тяжёлый бой. Гусары смяли всё левое крыло де ла Гарди, где немцы с французами держали оборону, а среди них немало было шведов. Шёл сильный дождь, и мушкетёрам отказали фитильные запалы. Там потерял де ла Гарди четыре полевых орудия и часть знамён. Но правый фланг его, где он сам находился со шведами и финнами, выдержал удар гусар. Затем он даже обратил их в бегство. При этом с поля боя бежал за укрепления, в свой лагерь, и раненый Зборовский.
Вскоре князь Михаил Скопин опять соединился с наёмниками. И вновь они сошлись на поле с гусарами Зборовского. Они побили гусар, иных загнали в их же лагерь и осадили ещё в крепости, в Твери. Объединённые силы русских и шведов направились к Переславлю-Залесскому тремя полками, подступили к городу и выбили оттуда польский гарнизон. Вскоре в Переславле уже был и сам Скопин. А через неделю из русского лагеря вышел с ратными Григорий Валуев. К нему присоединился полк шведских кирасир. И они двинулись на Александровскую слободу. К слободе они подошли на исходе ночи и атаковали полк Тромчевского. Гусары, застигнутые врасплох, выскакивали из избёнок без доспехов и тут же попадали под ружейный огонь. Завязались схватки – не на жизнь, ожесточённые. И гусары, пешими, без строя, сразу же сломались, в беспорядке побежали. Русские и шведы загнали их в реку, и вот тут-то началась безжалостная бойня. По реке метались и храпели кони, вниз летели седоки, всюду раздавались крики, там тонули раненые, но ещё звенели и клинки. С берегов же бухали и бухали мушкеты. Только к полудню, и то разрозненно и кучками, удалось немногим гусарам вырваться оттуда и уйти лесом от погони.
Так очистив слободу, Валуев отправил к Скопину гонца, а сам приступил к строительству острога. Скопин, получив его сообщение, двинулся к Александровской слободе и расположился в ней своим большим полком. Дорога на Москву была открыта. Но он не спешил туда. Не спешил он выступать и против Сапеги, осаждавшего Троице-Сергиев монастырь. Тем более не собирался он идти на Тушино, на поляков под началом князя Рожинского. Для этого у него не было достаточного численного перевеса. Он стоял в слободе, ждал ещё наёмников из Швеции, а также полки Шереметева.
Крытый возок боярыни Скопиной-Шуйской миновал ворота Александровской слободы и подкатил к палатам, где разместилась ставка большого воеводы царского войска. Дворовые холопы посыпались с коней, метнулись к возку, распахнули у него дверцу и почтительно склонили головы.
Елена Петровна, выходя из возка, слегка оперлась на комнатных девиц, ступила на снег и тут же увидела сына.
Князь Михаил встречал её у крыльца, в окружении своих ближних советников. Среди них сразу бросался в глаза молодой иноземец, светло-рыжий, с тонкими усиками, торчавшими в разные стороны, как у кота, и чисто выбритым продолговатым подбородком, чуть старше её сына. По-видимому, решила она, это и есть де ла Гарди. О нём сын уже писал ей как-то. Иноземец выделялся своей изысканностью и лоском, чего, подумала она, нет у русских воевод… «И Лыков тут! Ах, этот Лыков, с его завидными потугами всюду поспеть!..» Даже к ним на двор он захаживал чаще, чем другие. И вроде бы по-соседски. Среднего роста, бойкий и уж больно вездесущий… «И Яков Барятинский тут же!..» Ну что о нём-то сказать? Нечего. Она не знает его, хотя и видела не раз подле сына. Непонятный человек, странный рядом с князем Михаилом… И тут же она заметила, как сбоку, из-за угла царского терема, выбежали братья её снохи: Иван и Семён Головины. Они торопились… Всё, всё было написано у них на лицах, ну совсем как у отроков, опоздавших из-за проказ на литургию.
Князь Михаил низко поклонился ей: «Здравствуй, матушка!»
Елена Петровна поцеловала его в лоб и, шутя, пожурила:
– Ну, ты уж совсем встречаешь меня как государыню! С меня было бы довольно и одного тебя!
Князь Михаил, оправдываясь, с улыбкой показал на своих товарищей, на воевод: «Они бы не позволили мне, не простили!»
– И вы, стало быть, тоже? – нарочито сердито спросила княгиня Головиных, любуясь ими, ладно скроенными молодыми людьми.
– Как можно, Елена Петровна, оставить князя Михайло одного! – в том же шутливом тоне ответил ей Семён.
– Да ты, вижу, как нитка за иголкой: куда Михайло, туда и ты!
– То государь ведает!
– С вами сведаешь! Вы чуть что – так сразу подавай невместную!
Елена Петровна снисходительно покачала головой, как бы давая понять: «Ну что с вами, молодыми, поделаешь, придётся смириться…»
– Ну, веди, веди меня, а то приморозишь моих девок! – сказала она сыну. – Вас-то ничего уже и не берёт! – окинула она взглядом их лёгкие кафтаны, в каких они выскочили во двор встречать её.
Князь Михаил взял её под руку и поднялся с ней на высокое теремное крыльцо. За ними в терем вошли воеводы.
В большой палате, где когда-то собирал на пиры своих опричных Грозный, уже стояли столы. Подле них бегали дворовые Скопина. Они заканчивали приготовление к встречному угощению по случаю приезда матери большого воеводы, дня Архангела Михаила и дня рождения князя Михайло.
Елена Петровна переоделась у себя, в отведённой для неё комнатке, и вышла в палату в каптуре и смирной вдовьей телогрее[1]. Она прошла во главу стола и села в кресло. Высокая ростом, в длинной телогрее, она держала стан прямо, что подчёркивало всё ещё статную её фигуру. Не было заметно на лице у неё и белил, тем более румян, чем славилась, грешила боярская среда. У неё были такие же, как у сына, большие выразительные глаза и строгие черты лица, за которыми угадывался твёрдый характер. Светлые, дугой, красивые густые брови, прямой нос и губы с изящной чёткой линией делали всё ещё привлекательной её, несмотря на возраст.
Она немного откушала, поговорила с гостями и поднялась из-за стола, когда заметила, что воеводы начали дотошно обсуждать какие-то свои дела и совсем забыли о ней.
– Пора мне и честь знать! Воинские разговоры – не женское занятие! Вы обойдётесь тут уж как-нибудь без меня!..
На следующий день князь Михаил зашёл после заутрени к матери, на женскую половину терема.
Елена Петровна приняла его в маленькой горенке, рядом со спаленкой, где комнатные девки убирали стол после завтрака боярыни.
– Меланья, иди, – велела княгиня старшей комнатной девке. – Я уж тут сама, коли надо будет.
Она поцеловала сына в лоб, усадила подле себя, внимательно, с любовью, но строго оглядела.
– По дому-то, чай, соскучился?
За год, что она не видела сына, он похудел и от этого, казалось, вытянулся ещё выше ростом. На лице у него появились суровые складки, взгляд стал спокойным, глубоким. Исчезла у него и былая юношеская суетливость, тревожившая её, когда он начал вдруг быстро взрослеть.
– Ох и не говори, матушка! – невольно воскликнул князь Михаил. – Как там Александра-то?!
– Всё думает и молится о тебе. В заступницы Богородицу призывает. Ждёт тебя, все глаза выглядела. Каждый божий день спрашивает: «Да когда же приедет, скоро ли?..» А что я отвечу, коли самой то неведомо!
– Скоро, матушка, скоро! Вот откроем на Москву дорогу, так и приеду!
Он встал с лавки и заходил по горенке.
– Государь пишет, на столицу зовёт… Дары великие уже готовы. Ждут нас доподлинно!
– Ох, Михайло, Михайло! – с озабоченным выражением на лице заговорила Елена Петровна. – Слышала я, что вчера твой приятель, иноземец, за столом говорил. Над словами его поразмыслил бы. Не гулять приехала я сюда, хотя и на ангела твоего. И то верно – истомилась по тебе, моему единственному! Но могла бы ещё подождать. Да не это тревожит меня… Слухи недобрые по Москве идут: венец, мол, тебе предложили воровские людишки, что поссорить с Василием хотят! И у Шуйских о тебе очень худо распинаются!.. На Москве люди злы, завистливы! А пуще всех опасайся Дмитрия! Корень лютый от Скуратова на дворе у него поселился! Сам Василий не так уж прост! Сладки речи ведёт, да уж горько пить из рук царских его!..
– Что ты, матушка! – поразился услышанному Скопин. – Он мне верит во всём! Я служу ему честью! Воровству и обману не учила ты меня! С ранних лет мне отца заменила! И твой сын походить на него старался!
– Да, ты верно говоришь! – с горечью вырвалось у Елены Петровны, и её губы дрогнули, беспомощно и жалко.
Только теперь она поняла, что, научив его быть честным, правдивым, стоять на слове, сделала беззащитным перед людским коварством.
– Матушка, если царя ослушаться посмею – честь его задену!
– Напиши ему, что идёшь на Смоленск аль на Тушино! Как товарищ иноземный твой советует! С Сигизмундом безопасней воевать, чем в Кремле, во дворце, пировать!..
– Не о том говоришь, матушка! – обескураженно протянул князь Михаил, видя, что она не слушает его. – Дядю уважаю я и хочу поведать мысли важные ему!
Елена Петровна поникла головой… Поймёт ли он её страхи?.. Поймёт, но всё равно поступит так, как велит честь. И в этом она узнала своего мужа, Василия Фёдоровича, и, в общем-то, не удивилась тому, что услышала. Подспудно она ожидала это. И может быть, благодаря этой черте характера мужа, мелькнуло у неё, их семейство уцелело во время большой опалы Годунова, ещё в бытность того правителем. В тот год она была беременна, носила сына, и неизвестно, был бы сейчас Михайло и как бы повернулась их судьба, если бы Василий Фёдорович попал в немилость к Годунову, не был бы известен как человек чести. Она же знала, что не страх за неё, беременную, заставил мужа не поддержать старшую ветвь Шуйских, пытавшихся свалить Годуновых путём развода царя Фёдора с Ириной Годуновой. Погром Годуновым семейства Шуйских был ужасен: прокатились аресты, казни, ссылки. Пострадало много, очень много людей: митрополита Дионисия, примирителя Годуновых и Шуйских, затем решившегося развести царя с царицей, отправили в Хутынский монастырь и заточили там. Василия Фёдоровича лишили наместничества в Каргополе, но не тронули, а лишь отправили в Псков, на воеводство. Оттуда он ушёл воеводой в государевом полку против шведов под Ругодив. Когда же он вернулся из похода, то его больше никуда не посылали на службу. Он начал быстро хиреть и вскоре умер. Не таким был Василий Фёдорович человеком, чтобы сидеть на своём дворе… Вот и Михайло весь в него, и боярство выслужил даже раньше, чем отец… К его прадеду, вспомнила она, князю Ивану, сыну Василия Бледного, прилипло прозвище «Скопа» – хищной птицы… «Вон оно откуда пошло-то!» – подумала она, когда Василий Фёдорович как-то раз вернулся с охоты из своей старинной вотчины в Рязанской земле и привёз необычный трофей: орлана, с громадным размахом тёмно-бурых крыльев и белым брюшком. За ним он долго и безуспешно гонялся, следил, как тот высматривает что-то на водной глади, парит над Вердой, тихой песчаной речкой… Потом он зависает в «трясучке» и… вдруг падает из поднебесья, бреющим полётом проходит над водой, выхватывает когтями из воды подлещика…
И вот однажды, в такой момент, его настигла стрела…
Она гордилась своим сыном. Тот ещё с малых лет проявил такие таланты в грамоте, что дворовый дьяк Тимофей, обучавший его, поражался быстроте и живости его ума и только ахал и хвалил.
Вот и вчера, когда они затеяли при ней разговор о рейтарах, осадных пищалях, конном бое и ещё о чём-то ратном, воеводы, намного старше его, внимательно слушали её сына. Заметила она, что у него появилось много новых книг, заморских, и догадалась, что их привёз ему тот иноземный друг. Все книги были воинские, с картинками: на них сражались люди в ладных доспехах, чудно нарисованные. Таких книг она не видела ни у своего отца, боярина Петра Ивановича Татева, ни в иных московских семьях. Там, где были обучены грамоте, книги водились лишь богоугодные. А чаще всего бояре ставили под грамотами крестики.
И в то же время она боялась за сына, боялась, что он рано взлетел так высоко… «Неопытен, наивен он с людьми!..»
– Поступай как знаешь, – с усилием промолвила она, почувствовав, что он окончательно уходит от неё.
Этот разговор не принёс им обоим ничего, кроме расстройства. И она уехала назад в Москву.
Встреча с матерью выбила князя Михаила из равновесия, взволновала, и в памяти всплыло недавнее прошлое.
На берегу медлительной и крохотной речушке Вексы, что затерялась в сумрачных лесах под Вологдой, стояла пустынь, основанная монахами полтора века назад, ещё во времена великого московского князя Василия Тёмного. Глухое, уединённое место, окружённое густыми лесами и топкими болотами.
Хозяйственные и жилые постройки монастыря, обнесённые острогом, довершала башенка над воротами, чтобы досматривать приезжих. К реке выходили ещё одни ворота, поменьше. Они выводили и за обитель, на небогатые монастырские угодья вот здесь, у Молотильского озера, где стояла обитель, в двух десятках вёрст от Вологды.
С отрядом верховых стрельцов князь Михаил миновал засеку и подскакал к острогу. Сотник забарабанил бердышом в ворота, но отсыревшие толстые брусья, по-бычьи гукнув, проглотили удары.
– Никола, давай, давай! – заторопил князь Михаил его. – Не ночевать же здесь!
На помощь сотнику пришли стрельцы: ворота вскрякнули как будто и заходили ходуном. И тут же кто-то зашевелился в башенке, и оттуда тонким голоском спросили: «Кто там?!»
– От государя Димитрия! – крикнул князь Михаил. – К его матери, царице Марии!
За воротами послышались панические голоса, топот ног, там завозились с запорами и наконец, раскрыв ворота, впустили всадников.
В обители, у настоятельской, князя Михаила уже поджидала игуменья. Он объяснил ей цель своего визита и попросил немедля проводить его к великой старице.
Комнатка Марии Нагой, в иночестве Марфы, последней, шестой по счёту жены Ивана Грозного, куда его проводила игуменья, была скромно, но со вкусом убрана и отличалась от обычной кельи рядовой монахини. У двери возвышался поставец, на нём тускло блестел изящный серебряный кубок, стояли два стакана, фарфоровый кувшин и тарелки. На другом столике, подле крохотного оконца, лежало зеркало и стояли резные шкатулки из слоновой кости с женскими поделками. К кровати с низким изголовьем приткнулась маленькая скамеечка, обтянутая тёмно-красным бархатом.
Князь Михаил низко поклонился Марфе, коснувшись правой рукой пола.
– От царя Димитрия, государя всея Руси, к тебе, великой старице, послан я, его мечник!
– Кто же ты будешь такой? – спросила Марфа, когда он представился. – Из каких Шуйских?
Князя Михаила Марфа не знала и не могла знать. Когда её отправили в ссылку, ему было всего-навсего три годика.
– А-а, так ты сын Василия Фёдоровича! – протянула она, когда он сказал, кто он такой.
Она оживилась, рассматривая громадного ростом юношу с большими умными глазами и прямым крупным носом честолюбца.
– Вот времечко-то идёт! – доброжелательно улыбнулась она ему. – Помню твою мать, Алёну. Она ещё долго сидела в девках. А матушка её, Катерина Никитична, ходила одно время у меня в комнатных боярынях… Татева, да, Татева дочка, Петра Ивановича! – обрадовалась она, что вспомнила давно забытых людей.
Князь Михаил промолчал, ожидая, пока великая старица выговорится.
– Садись, что стоишь-то! – пригласила она его и показала на лавочку возле двери.
Он сел, неуклюже согнув длинные ноги, и сразу почувствовал себя неловко на низенькой лавочке, как будто оказался на корточках перед царицей.
Марии Нагой было всего сорок восемь лет, но выглядела она старуха старухой. И виной тому были последние четырнадцать лет опальной жизни здесь, в заточении обители, под скудным северным солнцем. Отёчное, нездоровой белизны лицо, большие выцветшие глаза, просторный старицкий наряд, и тело – полное и рыхлое: вид демонический и неземной…
– Ты справляться-то будешь, хочу я ехать или нет? – строго спросила она его.
– Велено узнать… – ответил он, сконфузившись.
Князь Михаил ещё не научился врать вот так, глядя прямо в лицо собеседнику. И это не ускользнуло от старицы. Она молча улыбнулась, заметив смущение на приятном и открытом лице юноши. Вспомнила она и тайный недавний визит своего сродственника Сёмки Шапкина. Приехав, тот назвался постельничим царевича.
Сёмка-то не краснел, как вот этот, сразу грозиться начал: коли-де не признаешь царевича своим сыном, то и быть тут удавленной!..
«Да кого уж мне бояться-то?! – горестно подумала тогда она. – Всё равно бы поехала!»
На самом же деле Димитрий строго наказал князю Михаилу: во что бы то ни стало привезти её в Москву. И князь Михаил беспокоился, не зная, чем была вызвана такая категоричность государя по отношению к матери.
Марфу же раньше времени состарила ненависть, которая сидела у неё внутри и грызла её изо дня в день, долгие годы. Сначала она думала, что преодолеет это… «Справлюсь, справлюсь!..» А как она молилась!.. Молилась не только на заутреню, перед едой и питьем, соблюдая каждый день павечерницу и полунощницу, с молчанием и поклонами, как то предписывал монашеский устав, чем раньше иногда пренебрегала. Но молилась она с поклонами и кроткостоянием по десятку раз на дню и сверх того, чтобы только отпустила её эта напасть… Время же шло, а боль не утихала, и хотя шрам от ожога на лице исчез, на сердце же остался…
А полтора года назад за ней в пустынь приехали вот так же, как сейчас. Не поленился, приехал свояк Бориса, Семён Годунов, его троюродный брат. Страшный человек! Это в подвалах его Пыточного двора навсегда исчезали люди. Тогда её не спрашивали, хочет ли она ехать. Подручные Семёна укутали её в монашескую рясу и завязали так, что она не могла ни пошевелиться, ни приоткрыть лицо. Так и привезли её, тайно, в глухой повозке, на царский двор. Привезли ночью и развязали только тогда, когда ввели в какую-то маленькую комнатку, где горели всего две свечки.
Было полутемно, и она не могла разглядеть всех находящихся в комнатке людей. Бориса же и Семёна, с его подмастерьями, разглядела сразу. В тени от свечки скрывался ещё какой-то человек, сидя на стульчике. Присмотревшись, она узнала Марию и невольно вздрогнула.
Она хорошо знала старшую дочь Скуратова, знала, на что та способна, так же как и её сестра Екатерина. Обе они были её ровесницы и в бытность ещё девками часто встречались на женской половине двора её родного дяди Афанасия Нагого, ближнего советчика Грозного царя и сотоварища по опричнине Малюты Скуратова.
«Неужели всё это было!» – мелькнуло с тоской у неё о прошедшей юности…
Борис поднялся со стула и подошёл к ней.
Она не видела его более двенадцати лет и сейчас, увидев глаза в глаза, поразилась, как он сильно сдал. Лицо у него стало угловатым, с болезненным желтоватым оттенком и выражением усталости, глаза глубоко запали, под ними залегли коричневые, мешками, круги.
«Совсем как у бабы на сносях!» – появилась у неё злорадная мысль.
И оттого, что ему, её недругу, очень тяжко, ей стало немного легче. Что-то отпустило её, что долгие годы держало в напряжении. Но желание вцепиться в его длинную седую бороду и выцарапать ему глаза не оставляло… «Выцарапать!.. Выцарапать! За что сгноил!..» О-о! Если бы она могла, если бы была в силах сделать это!..
Годунов уловил у неё в глазах тайный мстительный блеск, отошёл от неё, затем снова подошёл вплотную.
– Знаешь ли, почему я послал за тобой? – спросил он, равнодушно глядя на неё.
Марфа давно не слышала его голос и сейчас, услышав, вздрогнула. На мгновение ей показалось, что перед ней стоит Иван. Такой, каким его знала лишь она в ту пору, когда только-только стала его женой. Тогда он был уже замкнутым, молчаливым и подозрительным. Поэтому и свадьба проходила не по-царски, без былой широты и роскоши. В царском поезде и за столом были только родственники, узкий круг дворовых. Бориска же был на свадьбе её дружкой, вместе с её двоюродным дядей Михаилом Нагим. Он был молод, статен, красноречив. И она невольно, украдкой, взглядывала на него. Таким и запомнила. А теперь, постарев, он стал похож на Грозного. И его голос зазвенел теми же нотками: резкими и желчными. Только в глазах не было заметно тех провалов в памяти, какими страдал Иван. Она же до сих пор помнит нездоровое утробное дыхание мужа, как будто внутри у него что-то разлагалось…
Сейчас она знала, зачем её сюда привёз Сёмка, верный пёс Бориски, мастер тайных и пыточных дел: доброхоты донесли до неё слухи одной из первых.
– Да, – промолвила она.
– А коли знаешь, то и ответ держать: по совести, по чести, по вере православной!
По тону его голоса она почувствовала, что он раздражён тем, что слухи о появлении в Польше царевича Димитрия дошли и до глухих мест. Но даже сейчас, стоя перед ним, она всё ещё не решила, что ответить ему… Она попросту, по-человечески, боялась его. А теперь тем более, когда увидела в нём черты Ивана. Боялась и ненавидела. И в ней боролись эти два чувства до последней минуты. И она, не зная, что сказать, стояла и молчала.
В комнате на минуту наступила тишина.
Первой не выдержала, зашевелилась и встала со стульчика Мария Годунова.
Марфа встретилась с ней взглядом, и это решило всё. В одно мгновение у неё внутри взметнулся протест против Скуратовой! Ненависть к её счастливому уделу! К тому, что та сидит здесь, в Москве, на царстве, а она заживо гниет, умирает медленно день за днём в далёкой заброшенной пустыни! Эта сучка живёт и наслаждается в тереме, где когда-то жила она! И будет жить после неё!.. Это её, невзрачную девку, Бориска подобрал только из-за её отца! Это она уничтожила в заточении её красоту, силу, здоровье!.. Вот этого она не могла вынести…
– Услышал Бог мои молитвы! – с ненавистью выпалила она. – Спас и привёл – отомстить за меня! За дела твои с Бориской воровские!
Годунова тяжело колыхнула крупным телом и бросилась к ней: взметнулись длинные рукава её телогреи, словно у хищной птицы крылья… И эта птица подскочила к ней, схватила её за рясу и дёрнула так резко, что она невольно пошатнулась.
Стоявшая рядом свечка погасла. В комнатке стало ещё темнее, и по стенам замельтешили призрачные тени.
– Ах ты, б…! – срезонировал, ударил по ушам в тесной комнатке низкий голос Годуновой.
И она готова была вот-вот вцепиться ей в горло. Но Борис оттащил её в сторону, да не удержал. Она вырвалась из его рук, схватила со стола свечку и снова ринулась на Марфу.
– Я покажу тебе, стерва, как перечить мне! – побледнев от бешенства, ткнула она ей в лицо свечку. – Спалю красоту, воровка!..
Пламя полыхнуло по щеке Марфы. Она охнула и невольно отшатнулась от Годуновой. Свечка погасла. В кромешной темноте кто-то испуганно вскрикнул. И в комнатке заметались люди, натыкаясь друг на друга.
Тут же открылась дверь, и холопы внесли свечки.
Марфа прислонилась к стене и застыла, прижимая к щеке руку и не чувствуя боли. Сильнее её горело ненавистью сердце. За всю жизнь никто никогда не унижал её так. И в эту минуту она была готова безжалостно растоптать, уничтожить их всех до одного. И уже была не в состоянии что-либо соображать.
– Сгори-ишь в геенне огненной, сгори-ишь! – задёргалась она, как в припадке, и стала биться головой о стенку и завывать: «А-а-а!.. А-а-а!..»
Мария что-то вскрикнула и попыталась снова прорваться к ней. Но на помощь Борису теперь подоспел его свояк.
Марфа не помнит, как её вывели из комнатки, снова укутали в монашескую рясу, связали и посадили в крытую повозку.
На дворе была всё та же ночь. Повозка прогрохотала по деревянным мосткам, выкатилась из Кремля и понеслась, переваливаясь с боку на бок, по грязным улицам спящей столицы куда-то в неизвестность.
Её развязали, когда отъехали достаточно далеко от Москвы. Теперь её везли в другое место. И этим местом оказалась вот эта далёкая пустынь на Вексе, отрезанная от обжитых людных мест непроходимыми лесами и болотами…
Сейчас она не знала, кого увидит в Москве, зато точно знала, что это будет не её сын. Она не только билась в горе над ним, лежавшим мёртвым посреди двора, но и сама убирала его в гробу, затем провожала в последний путь. То было давно, не забылось, правда, не так болело. Теперь её не тянуло, как прежде, в мир людской суеты. Но ей не давала покоя мысль о том, как странно сбылось её проклятие, будто кто-то, воистину, услышал её. И это так поразило её, что не поехать в Москву, не увидеть того, кто назвался её сыном, она не могла, не могла не взглянуть на него, чтобы понять, что же это такое: действительно ли ей помог Господь Бог? Кто послан ей, кем он будет для неё?..
Инокини и прислуживающие ей дворовые девки собрали её скудные житейские вещи и погрузили в повозку. И она покинула тихую обитель, чтобы уже никогда не вернуться в неё.
В сопровождении стремянных стрельцов колымага великой старицы двинулась на Ярославль, где Скопина поджидал с большой свитой дворян боярин князь Василий Мосальский – дворецкий самозванца, Отрепьева Гришки.
Князь Михаил стряхнул с себя воспоминания и вновь вернулся в день сегодняшний, к неотложным делам войска.
Наконец-то в середине ноября к Александровской слободе с понизовыми людьми подошёл Фёдор Шереметев, а из Нарвы и Выборга ещё наёмники, четырехтысячный отряд.
Князь Михаил сразу же собрал у себя всех воевод. И дьяк Тимофей, его комнатный дьяк, объявил государеву роспись по полкам: «А как быть походу нашему боярину князю Михайло Васильевичу против воров, то быть по росписи по полкам: в большом полку боярин князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский да боярин Борис Михайлович Лыков, в передовом полку боярин Иван Семёнович Куракин да воевода Семён Васильевич Головин, в сторожевом полку боярин Фёдор Иванович Шереметев да воевода князь Яков Петрович Барятинский…»
Дьяк дочитал роспись и свернул грамоту.
– И быть всем по государевой росписи, как пойдём большим промыслом на воров, – сказал князь Михаил воеводам. – А по малым походам и посылкам, – добавил он, – росписи не быть, а быть где кому годно придётся! И на сей счёт имеется указ государя…
Воеводы настороженно притихли, ожидая неприятностей.
– А посему под Суздаль, на Лисовского, пойдут полком боярин… Борис Михайлович Лыков да князь Яков Петрович Барятинский, – закончил князь Михаил весьма неуверенно, почувствовав эту настороженность по тому, как в палате стало ещё тише.
Барятинский криво усмехнулся в густую бороду:
– То негоже, Михайло Васильевич. Не бывать мне в товарищах с Лыковым! Не хаживал, и меньше князя Бориса быть немочно!.. Никому в чести убыток не нужен… И если не отменишь сей наказ, бить мне челом государю на князя Бориса!
– Не делом бьёшь! – остановил его князь Михаил. – Не надо, Яков Петрович! Не оскорбляй чести Бориса Михайловича!
На красивом, с тонкими чертами лице Лыкова появились багровые пятна. Голубые глаза и гладкая белая кожа ярко высветили их. И князь Борис с трудом выдавил из себя:
– Барятинские с нами, Лыковыми, бывали бессловно в меньших товарищах… И с теми, которые с нами живут, в пятых и в шестых, везде в товарищах…
Среди Лыковых и Кашиных, из рода Оболенских, князь Борис Михайлович был самым «лучшим» и болезненно воспринимал всё, что касалось принижения его по лествице. И немало эта причина побудила его жениться на Анастасии Романовой, младшей дочери боярина Никиты Романова-Юрьева, сестре митрополита Филарета, сейчас в эту пору находящегося в Тушино, при Матюшке…
– Брехня это, Борис Михайлович! – громко выкрикнул Барятинский и пренебрежительно махнул рукой. – Брехня!
– Яков Петрович, силён этот поляк и опытен на коне! – стал уговаривать его князь Михаил. – На разные полки идти нельзя… Одна голова нужна!
Барятинский насупился:
– Вот и вели её снять, но не вели ходить в товарищах с князем Борисом!
Он побагровел тоже, и лицо у него покрылось испариной.
– Ох, Яков Петрович, Яков Петрович! – сокрушённым голосом заговорил князь Михаил. – Такое время, а ты!.. Скверно, скверно! Бей челом государю! Не возьму назад указ, не возьму! Но смотри: государь не простит чести князя Бориса!.. И раз так – подавай случаи!
Он отвернулся от Барятинского и крикнул дьяку:
– Тимофей, проверь по делам Разряда! И на Москву отпиши!
Барятинский смолчал, еле сдержался, чтобы не наговорить грубостей Лыкову да и тому же Скопину.
– Ладно, подождём государево слово! – натянуто сказал князь Михаил и обратился к Лыкову: – А под Суздаль ты пойдёшь!.. Всё, господа, на сегодня всё!
Он устало поднялся с массивного дубового кресла.
Воеводы шумно зашевелились, встали с лавок и кучно вышли из палаты.
– Тимофей, останься! – окликнул князь Михаил дьяка. – Ты вот что, – подошёл он к нему, – как он подаст челобитную, отправь к государю без мешкоты. Чтобы ответ до Юрьева пришёл…
Ответ на челобитную Барятинского пришёл быстро. И князь Михаил тут же вызвал заместничавших воевод к себе в ставку.
Дьяк Тимофей развернул грамоту и приготовился читать.
– Чти, чти, – сказал ему князь Михаил и стал прохаживаться по большой воеводской палате.
Несмотря на свой рост в добрую сажень, он был ловок и двигался легко, изящно. Лишь под тяжестью его громадного тела жалобно поскрипывали половицы. С большой круглой головой, ранними зализами и слегка вздёрнутым твёрдым подбородком, который подпирал высокий воротник кафтана, он ходил и ходил, не глядя на воевод, заранее хмурил лоб, нагоняя на лицо строгость.
– «От царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси, – начал читать дьяк, раскручивая столбец, – большому воеводе нашему, князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. А писал ты к нам, великому государю, что князь Яков Петрович, не послушав твоего указа, не пошёл с боярином нашим Борисом Михайловичем против литовских людей под Суздаль. И получив ту челобитную Якова, и рассмотрев дела местного приказа и Разряда и случаи, что дал князь Яков, решили мы: не по делу бьёт челом князь Яков… Под Суздаль же, на Лисовского, послать их по разным полкам. Но “литву” непременно повоевать»…
Он дочитал до конца и свернул столбец, скреплённый размашистой подписью дьяка Дворцового приказа.
– Указ государя исполнить! – холодно сказал князь Михаил заместничавшим воеводам, чтобы те поняли – никаких уступок не будет. – Готовтесь к походу… Всё, господа!
Лыков и Барятинский молча вышли из воеводской.
На Лисовского они выступили раздельно, двумя полками. К Суздалю их полки подошли ночью и с двух сторон ворвались в посад. Всполошив выстрелами весь город, они смяли передовые заслоны гусар и пробились к крепости. Но тут Лисовский собрал весь свой полк в один кулак и стремительно ударил конной атакой по пехоте князя Лыкова. Он опрокинул её и выбросил из города. Такая же участь постигла воинов Барятинского.
Потрёпанные русские полки бежали, спасаясь по лесам от полного разгрома. В Александровскую слободу они вернулись раздельно, так же как и уходили.
Князь Михаил, раздосадованный на воевод, не стал выяснять причины поражения и передал дело в Дворцовый приказ: для проведения сыска и разбора его дьяками.
К высоким деревянным воротам царских хором, построенных в Александровской слободе Иваном Грозным, подкатила пара под охраной верховых стрельцов. Кучер остановил лошадей: «Тпр-р, родимые!» – и соскочил на плотно утоптанный снег, цепко придерживая концы длинной уздечки.
Стрелецкий десятник заглянул в сани, где дремал воевода, и громко окликнул его: «Приехали, Григорий Леонтьевич!»
– А-а, уже! – отозвался Валуев, с трудом открывая слипшиеся веки.
Он окинул взглядом высокую каменную стену и не сразу сообразил, куда же их занесло-то.
Валуев любил ездить по делам в санях. Давно и безвозвратно связал он себя со службой государю, стал привычен ко всем её тяготам и, бывало, по нескольку дней не слезал с коня в больших походах. Но как только выдавалось затишье, на коня он не садился. В этом неприятии верховой езды чувствовались глубокие наследственные корни его предка из Литвы, Окатия, выехавшего в Московское княжество ещё три века назад. Окатий верно служил великому князю Ивану Калите, за что получил от него чин боярина и вотчинки, а среди них и малое село Валуево на тихой, заросшей вязами речке Ликовке, что впадала в грязную Пахру.
– Мирошка, давай во двор! – крикнул он кучеру. – И вы тоже! – приказал он стрельцам.
От ворот к возку подошёл сотник в огромном тулупе, с большим пистолетом, засунутым за широкий кушак, и строго спросил: «Кто такие?» Но, узнав думного дворянина, он неуклюже захлопотал, побежал к караульным: «Пропускай, пропускай!»
Мирошка снова вскочил на коренную, стегнул её плетью, и возок так дёрнуло, что Валуев невольно лязгнул зубами и сердито сплюнул: «Ну ты, пёс шелудивый!..»
Сани миновали ворота и вкатились на просторный двор. Мирошка лихо развернул пару и остановил её у хором.
И тут же с крыльца вприпрыжку сбежал Иван Максимов, войсковой дьяк Скопина, подлетел к саням.
– Григорий Леонтьевич, князь ждёт тебя! Уже не раз справлялся, не приехал ли!
– Один? – спросил Валуев дьяка.
Он скинул тулуп и стал неспешно выбираться из саней. Выбравшись, он громко высморкался, утёр ладошкой острый нос упрямца, торчавший вперёд.
– Нет, там ещё Фёдор Иванович и Михайло Бороздин!
Иван Максимов держался свободно, до фамильярности, со всеми боярами и князьями в войске Скопина. Они все знали его, и он ловко пользовался этим, через их связи выколачивая на Москве лишние десятки четей земли к своему поместному окладу.
– Зачем так спешно вызвал? – поправляя съехавшую набок саблю, вопросительно глянул Валуев на дьяка с явной издёвкой на маленьком круглом лице.
– На поиск, – важно ответил Максимов, как будто ему было что-то известно, но то воеводская тайна, и он не вправе раскрывать её, хотя Валуев и узнает всё через какие-нибудь четверть часа.
– А куда? – пропыхтел Валуев, поднимаясь по крыльцу хоромины вместе с дьяком. – Да говори ты, говори! – шутливо подтолкнул он в бок его.
Но Максимов скорчил оскорблённую мину так, чтобы стало ясно: спрашивать об этом бесполезно. Он не имеет права говорить, ибо то решать Скопину.
Валуев, не поверив ни одному его слову, невозмутимо хмыкнул про себя: «Хм! Вот ведь, проходимец, как наловчился!»
Сейчас, однако, он волновался не о предстоящем ему деле, а о своей жене Ульяне, которая осталась дома одна с детьми. У него был невеликий двор в Москве, где он жил с семьей вообще-то не слишком богато, но и нужда не посещала их. А дети что?.. Старший Иван, и тот был ещё мал даже на службу. Что уж говорить о дочерях, о Марфе и Татьяне. Те-то когда ещё будут ходить в девках… Вот и живут они там без мужского глаза. Его мать, правда, с ними тоже, с тех пор как не стало отца. Да, семья там, а тут дело…
– Пойдёшь к Троице. Долгоруков просит помощь, – сказал князь Михаил ему, когда он предстал перед ним. – Действовать будешь вместе с Жеребцовым. Проведаешь силы у Сапеги – и назад… В крупную стычку не ввязывайся. Только поиск. Понятно?
– Да, Михайло Васильевич!
– Тимофей, готовь указ о походе! – приказал князь Михаил дьяку, сидевшему у оконца за столиком. – С росписью людей, припасов и как вершить дело!
Он прошёлся по палате, остановился, погрозил пальцем Валуеву:
– Смотри, только по росписи спросится!.. Знаю я тебя: всё норовишь воевать по-своему!
Продолжая наставлять его, он заговорил о заразе, что поразила обитель, попросил его жить там осторожнее да высмотреть, устоит ли ещё монастырь хотя бы немного.
– А Жеребцов пока останется там. Ударит из монастыря, как пойдём на Сапегу… Хватит ему, настоялся, наворовал! – тихо проговорил он, и на юношески гладком лице у него проступила жёсткая складка.
– Какой силой-то, Михайло Васильевич? – спросил Валуев, нахмурив круглый лоб.
Он был, вообще-то говоря, человеком, долго думающим. И всё услышанное тут, пока не утрясётся у него, ещё помучит его.
– Многим скрытно не пройти! – раздался голос Шереметева с красной лавки в углу приказной палаты, где Валуев сразу и не заметил даже его.
Шереметев встал с лавки, достал платок из кармана, отёр вспотевшее лицо: в палате было жарко – натоплена была, и душно, хотя была пустой. Затем он так же степенно сложил платок, сунул его обратно в карман, огладил широкой ладонью короткую русую бородку и снова сел.
Со стороны Фёдор Иванович смотрелся солидно. Но в то же время в нём проглядывало что-то простоватое, посадское, въевшееся, что невозможно ничем вытравить: это печать, с ней рождаются и умирают. Ему было тридцать семь лет. И хотя он был старше Скопина на целых пятнадцать лет, однако чувствовал себя рядом с ним неуверенно, терялся, редко подавал голос. Двоюродный же его брат Пётр Никитич Шереметев, схоронив свою первую жену, сестру жены Фёдора Мстиславского, женился второй раз. Он взял за себя сестру Григория Рощи-Долгорукова, который сейчас-то и сидел в осаде в Троице-Сергиевской обители. Так что Фёдор Иванович в некотором роде был его свойственником. И по доброте своей души он беспокоился за него, когда из обители стали доходить слухи о разладе Долгорукова с другими воеводами. Что такое недобрые слухи и как они бьют под самое сердце, он уже испытал на себе совсем недавно, когда оставил остров Балчик и отошёл к Царицыну. Тогда по Волге прокатился слух, что в Астрахани объявился новый царевич Лаврентий, назвался сыном царевича Ивана и царевны Елены… «Вот и племянничка Бог послал!» – с сарказмом подумал тогда Фёдор Иванович, поставленный в затруднительное положение, понимая, что нужно как-то очищать от наговоров имя своей сестры… Но всё разрешилось само собой: «племянничек» погулял по Волге, взял да опрометчиво сунулся в Тушино, и там его повесили…
– Да, – согласился Скопин с Шереметевым. – Наряд и пеших оставишь в Слободе. Лишь с конными пойдёшь. Отряд возьми подвижный, небольшой, пять сотен конных. Но таких, чтобы рубились за двоих!
Глава 2
Троице-Сергиев монастырь
Вот так Валуев получил своё очередное задание: идти походом на Троицу. И уже в ночь с четвёртого на пятое января 1610 года его отряд конных воинов скрытно шёл по Ярославской дороге. Стояла тёмная метельная ночь. Непогода и долгий переход вымотали людей. И Валуев, подумав, не сделать ли привал, крикнул сотнику, чтобы нашёл проводника:
– Яков, Тухачевский, слетай и приведи его!
Сотник стегнул коня, скрылся в темноте, через минуту вынырнул из снежной круговерти. За ним появился мужик средних лет с густой бородкой клинышком, светловолосый и голубоглазый: со всеми признаками, что его предки происходили откуда-то из скандинавских или польско-литовских земель.
«А ведь на полячка похож, – мелькнуло у Валуева, подметившего это ещё днём. – Как пить дать – полячок!»
– Что надо, воевода? – грубо спросил проводник.
– Далеко ещё?
– Не-е! Сейчас Сватково будет, а там уж вёрст десять останется. На разъезды бы только не наскочить. Тогда поляк всполошится и уже не пройти… Ты, воевода, не сомневайся, но только накажи ратным: не вольничать, мирно, тишком идти.
Валуев успокоился, заметив, как проводник говорит о поляках. Но тут же он недовольно фыркнул, не стерпел, что тот учит его, воеводу, как ему поступать, что делать на походе. И вообще, говорит развязно, смело. Он раздражённо прервал его и отослал опять в голову отряда.
На подступах к монастырю по цепочке полетела приглушённая команда: «Не отставать… Тихо…»
Всадники сбавили шаг и медленно двинулись вслед за разъездом. Миновали Нагорный пруд. Впереди тёмной громадой замаячили высокие каменные стены.
Конники подошли вплотную к Красной башне и остановились. И тотчас же со стены раздался тревожный окрик: «Стой! Кто идёт?!»
– Свои! – зычно крикнул Валуев, подъехав с проводником к воротам башни. – Зови Жеребцова! Да поживей! Пришёл Валуев – передай!
– Григорий, ты, что ли?! – вскоре послышался голос со стены.
– Да – я! Не делом встречаешь, Давыд!
– Сейчас откроют!.. Подожди!
Вверх поползла решетка, заскрипели дубовые ворота, и Жеребцов вышел к Валуеву. Он пожал его жёсткую ладонь и обнял его:
– Ну, наконец-то! Мы заждались! С кем пришёл-то?
– Потом, Давыд, потом! Дай за стены войти! Люди пристали!
Жеребцов заторопился: «Да, да, заходи!» – пропуская в ворота конников Валуева.
И сотни одна за другой скрылись в обители.
– Раз ты здесь, тебе бы надо знать, – начал Жеребцов, заходя с Валуевым в крепость. – Непорядок у нас – в разномыслии живём. Долгоруков не ладит с Голохвастовым. Архимандрит – тот сам по себе, за обитель стоит! А мы за что? – недоумённо спросил он. – Так что, Григорий, надежда на тебя – принимай мою сторону!
– Не с руки, Давыд! Зачем встревать в вашу канительку? Я ведь сюда по скорому делу!
Окольничий приуныл: «А-а!..»
– Тут как с заразой-то? – спросил Валуев его, оглядывая пустынный монастырский двор, занесённый снегом, с редкими утоптанными узенькими тропинками.
– Утихла. Тут иная беда. Есть такие – перекидываются. У Сапеги донцы переманивают. Живём осторожно… Планы шибко не выговаривай, а то как бы литва на прознала их наперёд игумена! Ха-ха-ха! – громко рассмеялся Жеребцов над своей же шуткой.
Они подошли к длинной келейной, подле которой уже бегали сотники, размещая на постой воинов.
Из дверей игуменской вышел архимандрит Иоасаф, а за ним князь Григорий Долгоруков.
Валуев подошёл к настоятелю, поздоровался, склонив голову, поцеловал у него руку.
– Да хранит тебя Господь, Григорий Леонтьевич! – перекрестил его архимандрит. – Слава тебе, Господи, услышал ты наши молитвы! – И он, с надеждой в голосе, спросил его:
– Когда же придёт наш избавитель, Михайло Васильевич?
– Скоро, отче, скоро! – ответил Валуев и обратился к Долгорукову. – Дело у меня к тебе, Григорий Борисович! Пока устрой, отдохнуть бы немного. Потом совет: наказ есть от Михайло Васильевича!..
Малая трапезная, холодная, пустая, стол голый, длинный, деревянный, скоблили его когда-то тщательно, сейчас же был засаленным и грязным, а пол заплёван. Бревенчатые стены, обшитые досками, растрескались и пожелтели: до них добралась, иссушила старость… Здесь-то и собрались на совет все начальные люди монастырского войска. Пришёл осадный голова Сила Марин, родом из Тулы, осмотрительный и смекалистый, как и его земляк, сотник-алексинец Иван Ходырев, которых в обители всегда видели вместе. Кучкой держались сотники-переславцы Борис Зубов и братья Редриковы. Владимирский сотник Иван Болоховский захватил с собой пятидесятников. Пожаловал Алексей Голохвастов, за ним пришёл архимандрит и ключарь Гурий Шишкин. Давыда Жеребцова сопровождали боярские дети. Последним явился Долгоруков. Он прошёл вперёд и сел во главе трапезного стола, за которым уже расселись кучками собравшиеся. Кивнув головой в сторону Валуева, он сообщил, что тот пришёл от Скопина и доведёт до них его слово.
Валуев поднялся с лавки, в тусклом свете жирника увидел усталые измождённые лица: все глядели на него и чего-то ждали особенного… А что он мог сказать им, кроме того что было в наказе большого воеводы? Утешить, что скоро снимут осаду?
– Товарищи, князь Михайло Васильевич собрал большое войско под Слободой. Пробился к нему на соединение и Фёдор Шереметев с понизовыми. Много иноземцев, шведов, все воины умелые… Но выступать под Троицу пока не будем!
– Доколь же стоять тут ворогу-то – под нашей святыней?! – гневно вырвалось у Иоасафа, и он нервно сжал в кулачки пальцы, озябшие от холода.
– Погоним, отче, ой как погоним! – ответил Валуев. – Только дай договорить… Михайло Васильевич послал меня с наказом – испытать силу Сапеги!
– Что пытать-то? – хмуро забурчал Голохвастов. – Пытано, сколько раз уже!
Он заёрзал на лавке, настороженно глянул на Валуева, стараясь угадать, к кому пристанет, если задержится в монастыре надолго, вот этот думный дворянин, крутой и сильный воевода, которого, как слышно, побаивается даже сам Скопин… Голохвастов был уже немолод. Ему перевалило давно за сорок.
– Вот и спытаем ещё! – неодобрительно покосился Валуев на него. – Велено пытать – будем пытать! И боем!.. А если тебе большой воевода не по нраву, то мне он указ!
– Григорий Леонтьевич дело говорит, – поддержал его Долгоруков.
Все осадчики хорошо понимали, что надо выступать немедленно, пока в стане гетмана не узнали, что к обители подошла помощь.
– Григорий Леонтьевич, иноки тоже пойдут на вылазку, – предложил архимандрит Валуеву, чтобы хоть этим внести от обители свою лепту в предстоящее дело и сгладить впечатление от явного нежелания Голохвастова рисковать своими поселянами.
– У тебя, отче, их уже и нет! – язвительно поддел Голохвастов его.
Иоасаф не ответил на этот выпад воеводы. Лишь посиневший от холода нос заострился у него, и скорбь глубокая искусно скрылась под маской смирения, скорбь от разлада в монастыре…
Долгоруков приказал оставить только наблюдателей на колокольне и у осадного, а всех остальных выводить за стены и распустил начальных людей. Сотники разошлись по своим отрядам. За ними ушёл Голохвастов, затем и Долгоруков. В трапезной с Валуевым задержались только его сотник Яков Тухачевский, Иоасаф и Жеребцов.
– Почто здесь лютый холод? – толкнул Валуев в бок Жеребцова, потирая друг о друга ладошки и чувствуя, что замерзает. – Ты на Мангазее воеводил, тебе это за обычай! – ухмыльнулся он над хмурой физиономией окольничего, недовольного его отказом пристать к нему.
– А где эта Мангазея-то? – спросил Яков.
– Не забегай вперёд – узнаешь! – посоветовал ему окольничий.
Тухачевский вопросительно глянул на него, в его глазах блеснул живой огонёк интереса. Он, молодой, по виду – не прожил ещё, пожалуй, и четверти века, служил городовым боярским сыном. Валуев, приметив как-то в разговоре, что он хорошо разбирается в войсковых делах, к тому же обучен грамоте, взял его в сотники к себе из смоленского ополчения: выклянчил из полка у того же Якова Барятинского. Одет он был скромно, как видно, жизнь достатком не баловала его. За ним, за Яковом Тухачевским, числилось поместьице под Смоленском, деревенька в четыре крестьянских двора.
«Юнец!» – мелькнуло у Жеребцова.
– У тебя Сибирь написана на роже! – ответил он. – Строптивый!.. Только туда не пожелаю никому попасть…
На массивном угловатом лице окольничего выступили красные пятна, но руки, крупные и узловатые, оставались спокойными, в них таилось много силы и добра… Он, тугодум и отчего-то честный, вернулся недавно с воеводства из Мангазеи, пушного края, откуда рекой текли меха в казну царя.
Иоасаф встал с лавки. Звонко щёлкнули его коленки. И он невольно присел, лицо исказила боль и отразилась в его страдающих глазах. Его мучил, грыз кости ревматизм.
– Пошли как-то на вылазку, по дрова, так казаки атамана Чики всех побили! – с возмущением пробасил Жеребцов.
– Вот…! – выругался Валуев. – На кол сажать надо гадов!
– Вешаем, если попадают, – лаконично промолвил Жеребцов.
– Не все предали землю и веру, – тихо заметил архимандрит.
– Да, да! – поддакнул Жеребцов и рассказал, как летом Сапега повёл под стены подкоп, а куда – было неизвестно. И в обители чуть не сошли с ума от страха. Но из табора Чики выбежал казак и донёс, что, мол, под юго-западную, наугольную, ведут. И тут же навстречу им под землёй пошла команда монастырских, дошлых в горнокопном деле. Затем они сделали вылазку: взорвали подкоп, да наспех – десяток троицких мужиков насмерть задавило…
Иоасаф вернулся в свою келью, куда следом за ним пришёл ключарь Шишкин.
– Отец Гурий, сходил бы ты к сторожам, – попросил он ключаря. – Глянул, как там, всё ли тихо в станах у поляка.
– Отче, пошли молодого инока. Стар я. А это же такая верхотура! Аж в самый барабан лезть надо!.. А может, отсюда кликнуть? Услышат, если не спят.
– Кого же я пошлю-то?! – воззрился архимандрит на Шишкина, раздосадованный внутренне на него.
Он догадывался, что донос на монастырского казначея Девочкина и Голохвастова был делом его рук. Из-за этого-то с тех пор воевода и смотрит косо на него, считает, что и он тому виной. А ключарь умён, хитёр, уличить нечем.
«И как мог Девочкин стакнуться с поляками? – много раз задавал Иоасаф сам себе этот вопрос. – Такого человека замучили на пытках, не за потех…»
– Иноков-то осталось осьмеро, – печально произнёс он. – И те пойдут за стены. Пускай немного отдохнут. Может, это последний их денёк!
– Тогда из служилых или поселян, – не унимался Шишкин.
– Какие служилые! – поразился Иоасаф. – Там, в темноте-то, бывалый шишаков набьёт, прежде чем взлезет!.. Сходи, Гурий, сходи, надо это, для дела, для Троицы!
Скользя бесшумно, бестелесно по узкой келье, он остановился у ветхого киота и машинально подвигал его дверцу. И петли заскрипели, певуче и приятно. А он замолчал, прислушался… Их напев, неповторимый, странный, как слог молитвы, смысл её глубокий, лечил и успокаивал его… Он мягко улыбнулся, с любовью ласково на ключаря взглянул.
От его взгляда Шишкин смешался и торопливо вышел от него. Он знал, что архимандрит упрям и не отступится, когда речь идёт о благе обители. Вернулся он не скоро. С трудом отдышался от непривычного подъёма на колокольню церкви Пресвятого Сошествия Духа, высоко взметнувшуюся над всеми монастырскими постройками, и вошёл в келью к архимандриту.
Иоасаф молился, стоя на коленях подле киота.
– Тихо у поляка, отче, тихо, ни огонька, – сообщил ключарь. – Спят, должно быть.
Иоасаф сухо поблагодарил его и тяжело поднялся с колен: «Теперь пора и к воеводам…»
Перед рассветом на монастырский двор полезли люди из келий, палат, амбаров и щелей. Забегали стрельцы и поселяне, петляя, как зайцы на свежевыпавшем снегу. Они сбивались в сотни, строились и собирались у соборной церкви. В огромной людской массе совсем исчезли иноки архимандрита, как бусинки, упавшие в песке. В чёрных рясах, с длинными волосами, которые упрямо лезли из-под скуфеек на белый свет, чуть сутулые, с костлявыми плечами, они, взяв в руки сулицы, смиренно встали со всеми вместе в ряд.
Над площадью клубился пар, носился приглушённый говор, и тут же вздохи, стук копыт, и бряцало оружие. Топтались пешие на месте, а всадники ругались сонно, вяло горяча коней…
– Тише, братцы! Глянь – идут!
Из собора вышел архимандрит, за ним князь Роща-Долгоруков, Валуев, Голохвастов и Жеребцов с сотниками. Долгоруков остановился на паперти, рядом с Иоасафом, и поднял руку.
– Товарищи, братья мои! – крикнул он воинам. – Скоро, очень скоро сюда придёт большим полком Скопин-Шуйский! И Сапега побежит! Сочтены его дни под стенами! Нам же повелел князь Михайло испытать его силу! Покажем, что умеем драться, защищать свои дома, жён и малых! Сейчас, на вылазке – всем гарнизоном!..
Он отступил в сторону, давая место Иоасафу.
– Сыны мои! – дрожащим голосом заговорил архимандрит. – Мы чаяли милосердного, в Троице славимого Бога нашего милости и оборонялись от польских и литовских людей. И не оскорбил латынянин своей ногой нашей святыни. Кельи и палаты обители запустели, ибо прошёл злой мор за грехи наши перед Богом: за то, что каждый стал думать токмо о своей выгоде в ущерб вере и государю. Из-за этого литва и поляк в тесноту велию ввергоша обитель святого Сергия! И Господь Бог, и прах дедов наших повелели отомстить за это надругание над отечеством и верой. Сыны мои! Во имя веры православной, греческой, истинной, на которую покушается латынянин, творящий беды многие на Русии! Во имя Отца и Сына и Святага Духа благословляю вас, православные, на битву с ворогом!.. С Богом, сыны мои!.. – захлебнулся он в крике и поперхнулся.
Но тут ключарь подал ему всесильный аметистов крест, и он, собравшись с духом, благословил сначала князя, воевод, затем перекрестил и воинов.
На площади захрустел снег, забряцало оружие, отряды двинулись к крепостным воротам.
В морозном воздухе вдруг глухо ударил набатный колокол, вверх поползли тяжёлые решетки – скрип дуба не смутил уже никого.
Валуев вышел с конными стрельцами за ворота, построил сотни, и они покатились волнами, обогнули Мишутин овраг и вскоре выметнулись на Княжье поле. Тут они смяли польские заставы и, преследуя, погнали их в стан Сапеги.
А там уже тревожно пели трубы, поднимали на коней гусар.
По шуму со стороны монастыря Сапега понял, что это не простая вылазка, и вывел против русских все свои полки. И полуторатысячное войско ратников из крепости столкнулось с пятью тысячами гусар. Из станов выступило столь же пятигорцев[2], пахоликов[3], и челядь пошла тоже в бой. Их поддержали казаки донского атамана Чики.
И под стылым небом, на полях вокруг монастыря, в тот день, как раз в сочельник, сошлись полки в неравной схватке. И жарко там пришлось стрельцам Давыда Жеребцова на Волкуше: они дрались, стояли, не выдержали и отступили… А у Келарева пруда в строю, все пешие, возились с пахоликами поселяне и стрельцы, а среди них последние монахи.
А на Клементьевском поле Валуев натолкнулся на ряды гусар, которые тут выскочили наперехват ему. И сшиблись конные, пошли рубиться накоротке, саблями, и тяжело сопя. На снег, на поле, падали гусары, кони и стрельцы.
Валуев опрокинул там гусар и прошёл к Красной горе. Туда он вышел неожиданным наскоком с тыла. И в тот же момент туда же подоспели и осадчики. Они вырубили у пушек прислугу и захватили всю полковую батарею Сапеги. Вместе с ней захватили и осадную, чудовищных размеров пушку с разбитой затравкой и развороченным жерлом, разинувшую болезненно свой зев пороховой.
– Трещора! Наших затинщиков дело!
– Достали мастерски!
– Эй, мужики, матерь вас за…! – закричал Марин на поселян. – Глянь, литва прет!
На батарею плотными рядами бежали с копьями наперевес пахолики, а за ними челядинцы и донские казаки…
К полудню защитники обители стали изнемогать под давлением намного превосходящего их по силам противника. И осадный колокол тревожно загудел, зазывая обратно воинов за стены. И те поспешно отошли к монастырю.
– Григорий Леонтьевич, что с этими делать? – спросил Тухачевский воеводу, загоняя на крепостной двор пленных.
Валуев, дико уставший за последние бессонные сутки, равнодушно отмахнулся от него и приказал вырубить их.
– Ты что – выруби?! – вскинулся Жеребцов. – Не дам!
– А чем кормить будешь?! – сам не осознавая почему, вдруг рассвирепел Валуев. – Самим ведь жрать нечего! Два месяца уже тут! Не изголодался?! А туда же – кормить эту сволоту!
– Да, меня эти месяцы чему-то научили! Ты же и дня не побыл, а уже командуешь всеми!
– Ну и хрен с тобой! Оставайся с ними! Хоть целуйся! А я ухожу!
Злоба, внезапно вспыхнув, быстро ушла из него. И он, оправдываясь, проворчал: «Вот эти, пахолики, в пень вырубили Дедилов. Не пощадили малых и жёнок…»
Мысль о том, что из монастыря надо уходить, пока Сапега не очухался и не перекрыл все пути, появилась у него во время сражения. Он своё дело сделал: бой дал полное представление о полках гетмана. Сапега оказался силён. Малым войском его не оттолкнуть от Троицы.
– Нам тяжело, но совесть мы не забыли, – тихо заговорил архимандрит, внимательно приглядываясь к нему, оказавшись невольным свидетелем этой перепалки воевод.
– Ты же сам, отче, вот только что призывал погибель на их голову! – вырвалось у Валуева; он не ожидал нападения с его стороны. – Ты что, ты что? – грубо насел он на него.
– На поле все они враги. А здесь, в обители, у Господа, лишь овцы, – продолжил Иоасаф, с сожалением видя, что Валуев не понимает этого. – Ты воевода добрый, да на расправу больно скор…
– Враги тогда лишь хороши, когда убитыми лежат они! – отрезал Валуев и, чтобы больше не слушать ни игумена, ни окольничего, повернулся и пошёл к келейной, еле волоча от усталости ноги.
Он поднялся на крыльцо и крикнул сотнику:
– Яков, поди сюда!
Тухачевский подбежал к нему.
– Ты пленных не трогай, – зашептал Валуев ему, уставившись на его бородавку на лице, под носом… «Её, кажется, не было у него!» – с недоумением мелькнуло у него. – Оставь им. А мы до ночи отдохнём и уйдём. Но об этом молчок! Не то найдётся свистун, перекинется к литве и заворует. Всё! Распусти людей по палатам!
Он открыл дверь в келейную и скрылся за ней.
– Эй, сотник! – окликнул Тухачевского осадный голова Сила Марин. – Помоги собрать вот этих! – показал он на пленных.
Подталкивая рогатинами пленных, еле тащившихся по глубокому снегу, поселяне и стрельцы загнали их на скотный двор.
Внутри просторного бревенчатого сарая было тепло и сухо, но стояла удушливая вонь, так и не выветрившаяся от подохшего монастырского скота.
«Помрут иные!» – подумал Яков, наблюдая, как Марин равнодушно захлопнул за пленными дверь сарая и задвинул на ней засов.
– Стоять тут! Потом сменят! – приказал Марин поселянам и по-мужицки хитровато, но выразительно подмигнул Тухачевскому: «Ну, пойдём, сотник, я угощу тебя!»
Яков отпустил стрельцов и пошёл вслед за ним к длинному братскому корпусу, в опустевших кельях которого обосновались поселяне и Жеребцов со своими воинами.
Около портомойной, отданной Иоасафом под женские кельи, они столкнулись на узкой тропинке с двумя монахинями. Пропуская их, Яков отступил в сторону и увяз по колено в снегу.
Первая, уже пожилая монахиня, важно прошествовала по тропинке, не глядя ни на кого. Молодая же, следовавшая за ней, взглянула на Якова, обдала его жаром больших красивых тёмных глаз, обрамлённых густыми, чёрными, дугой, бровями. Заметив у него под носом бородавку, она чего-то смутилась и быстро опустила голову. А он невольно вздрогнул и вскинул руку, словно защищался от её глаз…
Монахини прошли мимо них и направились к игуменской палате.
Яков выбрался на тропинку и стал тщательно отряхивать шапкой сапоги, не поднимая головы, боясь взглянуть на Марина, чтобы не выдать себя. Сердце же у него часто-часто колотилось, готовое вот-вот выскочить из груди. Оно держало его и в то же время толкало вдогонку вот за ней, за чёрной, тенью исчезающей фигурой…
Успокоившись, он распрямился.
– То ливонская королева, жена короля Магмуса, племянница Грозного, – положив руку ему на плечо, показал Марин на первую монахиню. – А другая – Бориски Годунова дочь, Ксения, в инокинях Ольга, – почему-то понизил он голос и зашептал, хотя около них никого не было. – Расстрига в монастырь упрятал. Говорят, Маришки испугался. Потешился – и схоронил… Как молода-то! – сочувственно вздохнул он…
У братского корпуса, куда Яков притащился вслед за Мариным, он обернулся ещё раз и, ошарашенный тем, что только что услышал, с тоской посмотрел в сторону игуменской. И в этот момент оттуда вышли всё те же две монахини и направились к сараю, где сидели пленные.
В ту ночь, в канун Крещения, отряд Валуева покинул Троицу и ушёл назад на Александровскую слободу. А Яков унёс с собой тоску по тем глазам, которые так поразили его.
Глава 3
Конец тушинского лагеря
По Тушинскому городку поползли тревожные противоречивые слухи. Они волновали и сбивали с толку многих. То говорили, что князь роман Рожинский наконец-то одумался, решил оставить лагерь и отойти от Москвы. То приносили вести, будто король послал большое войско и оно вот-вот подойдёт, а вместе с ним и обещанные оклады. Откуда-то приходили слухи о большой победе над Скопиным: не то Лисовского, не то Сапеги, а может быть, самого самозванца. И без того беспокойная жизнь в военном Вавилоне смешалась, и всё покатилось к катастрофе. Её пока никто не осознавал, все лишь чувствовали, что вот-вот произойдёт нечто важное, ужасное, так как в самом воздухе над лагерем, казалось, носился запах беды.
В это время Вильковский сильно изменился, стал частенько отлучаться со двора, а когда возвращался, то был хмурым и неразговорчивым.
К началу марта положение тушинского войска осложнилось ещё сильнее. Перед ним всё так же недоступно стояла Москва. Царское войско в столице уже превосходило численно тушинское. В Калуге накопил силу Матюшка и перерезал Рожинскому все дороги на Угру. Позади Тушино, в Можайске, укрепился сильный гарнизон Шуйского, он перекрыл дорогу на Смоленск. Под Дмитровом Сапегу теснил Скопин. Оставался свободным только путь по Волоколамской дороге. И седьмого марта 1610 года от Рождества Христова тушинское войско покинуло лагерь и двинулось по ней. Рожинского везли в крытом возке. Он часто терял сознание и был совсем плох. Вместе с войском Тушино покидали с Филаретом те бояре, которые не пожелали идти под руку Василия Шуйского. Другая часть тушинских думных поехала с повинной в Москву; немногие отправились в Калугу.
Последние уходящие сотни казаков подожгли лагерь, и он запылал, занялся со всех сторон. А между горящих изб ещё долго носился на скакуне Заруцкий. Так он прощался с лагерем, где он вырос как верховный атаман, боярин, пробился в ближние «царика»… И теперь он сам же поджигал этот лагерь…
Огромное зарево пожара встревожило Москву. И под Тушино послали дозорных. Те вернулись и принесли жителям столицы радостную весть. И по Москве, ликуя, ударили во все колокола.
Когда Скопин узнал об отходе Рожинского, то выслал вслед ему полк Валуева: наблюдать за всеми его передвижениями. Сам же он выступил к Москве.
Тушинское войско не успело отойти от столицы на безопасное расстояние, как сразу же распалось: Хруслинский и Яниковский двумя полками ушли в Калугу, к «царику». Остальные полки, донские казаки Заруцкого и тушинский русский табор направились к Волоку Ламскому, чтобы обойти с севера Можайск и выйти на Смоленскую дорогу. Но под Иосифовым монастырем они застряли надолго…
Князь Роман Рожинский лежал в маленькой келье Иосифова монастыря на жёстком, убогом топчане завзятого анахорета [4]и бредил. Уже вторые сутки он был без сознания, бессвязно что-то кричал, грозил кому-то, а то ругался и богохульствовал. И келья содрогалась, глотая эти звуки, а то как будто затыкала уши…
Полковой лекарь Франц Касинский не отходил от него и ожидал, когда наступит, наконец-то, перелом. Казалось, вот-вот начнёт спадать жар, князь перестанет метаться и всё уляжется. Тогда можно будет и выспаться.
Франц уже устал от бессонных ночей и, сидя на низенькой лавочке, клевал носом. Изредка он вздрагивал от беготни дворовых слуг, непрерывно меняющих мокрые холодные тряпки, прикладывая их к пылающему лбу князя.
Франц подошёл к постели, пощупал у князя пульс, приложил ко лбу руку, озабоченно промолвил: «М-да!» – и присел рядом.
– Ян, где твоя голова, обормот! – вскричал Рожинский и что-то нечленораздельно зашептал.
– Успокойся, тихо, тихо… – наклонился над ним Франц, поправил съехавшую набок подушку.
Рожинский схватил его за руку и притянул к себе.
– Я же хотел… – обдал он лекаря горячим дыханием. – И с кем увяз!.. Сам метишь?.. Вижу, вижу – боишься! Не усидишь! Димитрий-то, может, был природным?.. Не знают это… А может, он сын Батория?.. На царство руку поднять!.. Дух слаб, на то не хватит… Слаб, слаб… – зашептал он, как будто засыпая.
Франц попробовал было освободиться из его цепких пальцев: но не тут-то было.
– Нет, нет, не уходи! – снова быстро заговорил Рожинский. – Я попробую! Это стоит… Ты слаб, не осилишь!.. Ишь как перекосило! Ты же завидовал ему? Да, да… Мелкий… И это съело тебя. А ну-ка, вспомни, из-за чего под Троицей сцепились?.. Вот, вот – затрепетал! Вспомнил! Ха-ха!.. Ничего-то нам не досталось. Слава и та ушла к нему!..
Франц подозвал слуг и велел держать князя за руки. Он разжал ему рот и влил маленькой ложечкой горького кардамонового масла, затем рейнского вина с корольковой солью.
Вскоре Рожинский затих, уснул. Франц устало вздохнул и вышел из кельи. Но радость его была преждевременной. Вечером у князя снова пошёл жар, и он метался в бреду всю ночь. К утру жар спал, и князь успокоился: тихо, молча, навсегда вытянулся он на узком монашеском ложе в тёмной крохотной келье, конечном пристанище его мятежного духа.
Выполняя последнюю волю гетмана, Станислав Мнишка с его племянником Адамом Рожинским отправили его тело в Польшу для погребения в родовом склепе.
Глава 4
Шуйские
Дружинка и Ивашка, два мальчишки лет тринадцати, вышли со двора и направились в сторону Сретенских ворот. Идти было далеко, но они были готовы выдержать и больше, только чтобы не пропустить то, от чего заранее захватывало дух. Им хотелось хоть одним глазком взглянуть на войско Скопина, которое было на пути к Москве и, по слухам, сегодня должно было подойти к стенам города.
С утра день выдался ясным. Яркое солнце слепило глаза, а под ногами хрустел ледяной коркой снег. Вскоре солнце начало припекать, снег размяк, и идти стало тяжело.
– Э-эй, поберегись! – раздался вдруг крик, и рядом с мальчишками пронёсся верховой.
Из-под копыт коня брызнули комья мокрого снега и с головы до ног заляпали Дружинку.
– Что ты делаешь-то, харя! – погрозил тот маленьким кулачком вслед коннику.
– Дружинка, берегись! – истошно вскрикнул Ивашка и толкнул приятеля к забору какой-то усадьбы.
И вовремя… Мимо них на рысях прошла сотня стремянных стрельцов с протазанами, затем прошла ещё одна.
– Во дают! – воскликнул Ивашка, не сводя восхищённого взгляда с красных кафтанов, белых берендеек и самопалов, притороченных у сёдел стрельцов.
– Пошли, чего разинул рот! – пихнул его в спину Дружинка. – Нам ещё далече!
К Сретенским воротам Земляного города Дружинка и Ивашка подошли к полудню, когда на церквушке, что стояла как раз напротив ворот, ударили четыре раза.
Напирая, толпа вытолкала Дружинку и Ивашку за ворота Сретенской заставы, пронесла за Земляной вал и разметала на широком поле, как половодьем щепки.
– Ух ты! – чуть не с плачем вырвался Ивашка из давки с изрядно помятыми боками.
В толпе ему порвали зипунишко, и где-то там остался кушак.
– Я же говорил тебе: не отставай, затиснут – и пропадёшь! – упрекнул Дружинка его, когда с трудом отыскал в толпе. – Не то обкрадут! А мне за тебя отвечать перед твоей мамкой!
– Не холоп, чтоб ты глядел за мной, – пробурчал Ивашка, придерживая руками порванный зипунишко.
– Ты захребетник[5], и я за тебя в ответе! – безапелляционно заявил Дружинка и решительно насел на приятеля: – Ладно, айда за мной!
– Куда это ещё? – заканючил Ивашка.
Ему уже наскучила их затея, после того как его чуть не затоптали в давке, порвали одежду и исчез кушак, за который отец задаст ему теперь трёпку.
– На вал, дурень! Здесь мы не увидим ничего!
Они протиснулись назад, за Земляной вал, и вскарабкались на него с обратной стороны.
На валу было так же тесно, как и на поле. Но с его высоты было далеко видно, и все цеплялись за свои места.
С большой свитой дворян подъехал Михаил Кашин. Дородный, с широкой окладистой бородой, он выглядел внушительно. Поверх красного цвета атласной ферязи[6], вышитой золотом и жемчугом, на нём была накинута нараспашку турецкая шуба на соболях с огромным отложным воротником. На голове у него громоздилась высокая горлатная [7]шапка из чернобурки. Сидел он на холёном аргамаке, в роскошном седле, неподвижный и неповоротливый. Стремянные помогли ему сойти с коня.
И тут же подъехал со свитой думный дворянин Василий Сукин, которому Шуйский указал быть при Кашине. Подошли и выстроились барабанщики и трубачи. Поглазеть на встречу войска Скопина явились бояре и окольничие со своими дворовыми холопами. Те бросились расчищать им место на валу. Но их там стенкой дружно встретили ярыжки. К ним присоединились ремесленники, и тотчас же завязалась потасовка. Боярские холопы схватились за сабли, и посадские дрогнули. Задиристых, неуступчивых, холопы тут же скинули в глубокий ров.
Подъехал в возке Коломенский митрополит Иларион. За ним на санях подвезли иереев и певчих дьячков, облачённых в стихари[8]. Из саней выгрузили большие выносные кресты и икону Богородицы.
– Доброго здравия, владыка! – поклонился Кашин митрополиту.
– Да хранит тебя Господь, Михаил Фёдорович! – перекрестил Иларион боярина.
– Иду-ут! – раздался в этот момент истошный вопль на Земляном валу, его подхватили сотни глоток.
На поле сразу всё пришло в движение: забегали сотники, стали равнять ряды служилых; толкаясь, подтянулись к митрополиту и Кашину дворяне и духовные.
– Слава тебе, Господи! – перекрестился митрополит.
– С Богом, батюшка, с Богом! – заволновался Кашин, стал поправлять на груди широкую золотую цепь. – А где гостиная сотня?! [9]– заозирался он, занервничал.
– Здесь мы, здесь, Михаил Фёдорович!
– Давай на своё место! Что вы там, где не надо быть?! Сукин, почему не держишь приставов в строгости?
– Михаил Фёдорович, они знают наказ добре!
– Ну-ну!..
А далеко на дороге тёмным расплывчатым пятном показалось войско.
Все застыли на валу, жадно вглядываясь в даль, хотя пока различить там что-либо было невозможно. Там как будто двигался огромный яркий персидский ковёр. Он увеличивался и увеличивался в размерах… И вдруг воздух словно раскололся: над войском взревели десятки труб. И люди на поле как будто откликнулись на их зов, всей массой двинулись навстречу этому ковру. Растекаясь в стороны и обгоняя друг друга, по глубокому талому снегу припустились мужики и парни, за ними мальчишки, бабы и даже старики…
Над войском снова взревели трубы, и так, что Дружинка с Ивашкой обмерли от восхищения.
А бегущие по полю люди на какое-то мгновение остановились… Затем точно кто-то подстегнул их, все прытко устремились вперёд.
Оттуда же, от войска, вразнобой покатились громовые удары медных набатов. Их везли на помостах четвёрки лошадей, скованные между собой цепями. На помостах же прохаживались барабанщики и по-молодецки разминались: по очереди с силой били и били в набаты колотушками, производя неимоверный гул.
Ничего подобного Дружинка и Ивашка не могли себе даже представить и от удивления разинули рты…
Наконец полки подошли ближе, и с вала их стало хорошо видно.
Впереди войска на серых в яблоках лошадях ехали пятьдесят стрельцов в красных кафтанах и шапках, вооружённые саблями и мушкетами. За ними попарно ехали на каурых лошадях десять трубачей в снежно-белых кафтанах и высоких белых шапках. Далее шла сотня одетых в тёмно-зелёные кафтаны и шапки боярских детей на одномастных пегих лошадях. Следом ехали два рослых дворянина в белых адамастовых кафтанах, в шапках из рысьего меха и белых сапогах, с золотыми цепями на груди. Один из них держал в руках саадак, а другой – тяжёлый серебряный шестопёр, украшенный драгоценными камнями.
Дружинка перевёл взгляд дальше и, толкнув в бок Ивашку, вскрикнул: «Глянь, глянь!»
Там, на белых лошадях, рядом, стремя в стремя, ехали два всадника. Один из них, справа, был таким громадным, что, казалось, конь под ним едва тянет свою ношу.
«Это же Скопин!» – от восторга зашлось сердечко у Дружинки, и он впился взглядом в большого воеводу…
Князь Михайло ехал на аргамаке, покрытом алой бархатной попоной и с пышным букетом страусовых перьев в золотой трубке на его голове. Шею аргамака украшала грива из пряденого золота, а вниз кокетливо ниспадал огромный науз [10]из красного шёлка. На ногах, выше изящных коленных чашечек, красовались золотые накольники, а у самых копыт – остроги из червлёного серебра. По обеим сторонам бархатного ухвата блестели большие золотые кованцы с лаловыми камнями. А ниже, вдоль повода узды, свисали кольцами золотые цепи и мелодично позвякивали в такт шагу аргамака[11].
Князь сидел на коротких стременах, в высоком седле, обтянутом бархатом с золотой оправой. На голове у него тускло отливала булатная ерихонка [12]с узорной насечкой. Поверх кафтана, под длинным плащом из золотой парчи с горностаевой опушкой, у него блестел стальной панцирь, пузырились наручи и бутурлыки[13]. Сбоку у него висел короткий меч, а в руке он держал копьё с прекрасным нарукавником.
Рядом с ним, по левую сторону, также на роскошно убранном коне, ехал молодой знатный иноземец со светлыми рыжими усами. Однако и одеждой, и ростом, и осанкой он уступал большому воеводе.
За ними ехал воевода понизового войска Фёдор Шереметев, а следом ехали другие воеводы.
Многотысячное войско конных и пеших растянулось далеко по дороге, и последнюю версту до Земляного вала оно двигалось в сплошном море людей.
Ещё раз взревели трубы так, что бросили всех в дрожь, затем коротко пропели и замолчали.
И в толпе как будто очнулись от оцепенения, истошно закричали:
– Слава Скопину! Да сохранит тебя Господь от злых напастей!..
– Солнце ты наше, государь земли Русской! Дождались светлого дня!
– Люди добрые, поклонимся всей землёй Московской освободителю и славному воеводе боярину Скопину! В ножки ему, в ножки!..
Толпа стала падать на колени в талый снег. И по обеим сторонам дороги словно откатились две волны и образовался проход, посреди которого медленно двигались полки. Всё вокруг смешалось. Стояли только стрельцы почётного караула.
Кашин, не ожидавший такого, растерялся.
«Ох, не миновать гнева государя!» – ударило у него под сердце оттого, что Шуйский, как всегда, вспылит и обвинит его за эти непорядки: дескать, допустил, позволил, чтобы московские чёрные люди безумствовали, падали на колени перед племянником, как перед царём…
И он с надеждой посмотрел на митрополита, взглядом взывая о поддержке: «Отче, помогай, ради Христа!»
– Не печалься, Михаил Фёдорович! – ответил на его страдальческий взгляд Иларион. – Бог даст, всё уладится!
По его сигналу архидьякон взмахнул рукой, певчие взяли высокую ноту и смолкли. Затем у Земляного вала пропели трубы, загоняя людскую стихию в ритуальные рамки встречи: туда, туда – и не высовываться!..
К Скопину и де ла Гарди, а это он ехал рядом с князем Михаилом, с двух сторон подошли по два рослых пристава и взяли под уздцы коней. Князь Михаил и де ла Гарди, а за ними Шереметев и остальные воеводы сошли с коней, подошли к митрополиту и боярам.
Кашин оправился от волнения и стал громко, на память, зачитывать указ Шуйского: «Царь и великий князь Василий Иванович, государь всея Руси, князь Владимирский и государь и царь многих иных государств и царств, повелел вас, больших воевод, боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, и генерала Якоба Пунтосовича де ла Гарди, и воеводу боярина Фёдора Ивановича Шереметева с товарищами встретить низким поклоном и хлебом-солью! За доблестные труды ваши ратные, кои свершили, освободив Москву от злого утеснения ворогом, хвала и слава вам от государя и великого князя Василия Ивановича и народа русского!»
Скопину и де ла Гарди поднесли хлеб-соль. Князь Михаил принял его и низким, ещё по-юношески ломким голосом поблагодарил встречавших за оказанную им честь. Затем вместе со своими воеводами он поклонился боярам, митрополиту и всему миру.
– Михаил Васильевич, тебя ждёт государь! И сейчас твой путь лежит в царские хоромы! – напомнил Кашин Скопину повеление Шуйского.
Воеводы снова сели на коней, и процессия двинулась в город: под крики, свист и вопли тысяч людей, облепивших крыши домов и заборы вдоль всего пути следования войска. У кремлевских ворот со стен громыхнули десятки пушек. Ошалевшая толпа взревела и, весёлая и хмельная, закачалась на узких улочках и площадях, обычно пустых и продуваемых в ненастье ветром…
Царский дворец встретил воевод также парадно рядами стрельцов, как и при въезде в город. Шуйский принял их со своей малой ближней думой в Грановитой палате. Когда же приём закончился и Шуйский отпустил всех, в палате у него остались Скопин, Кашин, Сукин и комнатный дьяк Никита.
Василий подошёл к князю Михаилу и пристально заглянул ему в глаза.
– Михайло, тебе Прокопий предложил венец?
– Об этом я уже писал тебе! – удивился Скопин тому, что царь с чего-то сразу перешёл к скандальному посланию Ляпунова.
– Почему же ты отпустил его воров?
– По делу их я наказал ослопами!..
Невысокий ростом, обрюзгший и невзрачный Василий Шуйский разительно отличался от молодого и статного племянника, что сразу бросалось в глаза, как только они оказывались вместе, рядышком, вот так же, как сейчас. И он почувствовал это, отошёл от него, недовольно буркнул: «Ладно, я верю тебе…»
– Государь, позволь я поведаю мысли тайные тебе! – шагнул следом за ним князь Михаил, волнуясь, что упустит момент откровенно поговорить о том, что наболело на душе.
Василий вяло повёл рукой: дескать, говори, то, что скажешь, уже известно.
– Государь, всей землёй решать бы надо, как нам дальше жить! – торопливо начал Скопин, чтобы успеть выложить главное. – Не бывать покоя в государстве, если не найдём согласия во всём!..
– Михайло, не раз об этом думал я! – перебил Василий его. – Поверь, готов и шапку снять, тому её отдать, кому её народ подарит! – скороговоркой выпалил он так, будто ему уже до чёртиков надоела шапка Мономаха и он хотел скорее с ней развязаться…
Мудрил Шуйский, как всегда мудрил и хитрил. Не раз уже проходил у него этот номер.
– Михайло, мне донесли, как чёрные людишки встречали тебя!
– Перед ним попадали все ниц, словно стал он их царём, – проворчал Кашин оправдывающимся голосом, что тут-де не его вина.
– И в мыслях не держу ссадить тебя! – вырвалось у Скопина, когда до него дошло то, что имеет в виду дядька.
Шуйский мельком прошёлся глазами по его лицу. Заметив на нём искренность, он странно задвигал руками, на глазах у него навернулись слёзы умиления.
– Михаил Фёдорович и ты, Василий, вы идите, идите, – кротким голосом велел он Кашину и Сукину. – Мы разберемся сами… Не так ли, Михайло? – растроганно спросил он племянника.
Князь Михаил промолчал, с сожалением подумав, что зря начал в спешке этот разговор.
Кашин же быстро покинул палату. По голосу царя он почувствовал, что тот размяк. Он знал, по себе знал, как недалеко было у Шуйского от слёз до гнева. За ним из палаты вышел и Сукин.
– Мы этим землю, государь, не соберём! – заявил князь Михаил всё о том же, что не давало ему покоя, когда они остались одни. – И не шапка в том виной!..
– Михайло, ты писал мне о грамоте короля, – снова заволновался Василий. – Что, он предлагал тебе стать холопом его сына?
– То, государь, от Филарета след!
– Ну ладно, я забыл уже об этом, – ласково заговорил Василий. – На тебя во всём я полагаюсь и больше не держу. Ты поезжай немедля на свой двор. Тебя ведь заждались там. Скажи матушке и жене: поклон свой низкий, от чистого сердца, государь шлёт им!
– Великий князь, ещё не всё поведал я, – просительным голосом залепетал князь Михаил; он был обескуражен скорым концом приёма у царя. – Есть планы о походе на Смоленск…
– Потом, потом! – остановил его Василий. – Тебя ждут на родном дворе!
Князь Михаил заикнулся было, что когда распускал войско, то распорядился снова собрать его, как только пойдёт трава. Взял на себя эту вольность вперёд государева указа, потому что время на Руси бедовое, смутное…
Но Василий не стал слушать его.
Никита, неподвижно сидевший в углу палаты с бесстрастным лицом отменно вышколенного придворного дьяка, поднялся с лавки, чтобы проводить Скопина из царских хором.
– Поезжай, поезжай, Михайло, – ворчливо приговаривая, Василий стал подталкивать Скопина в спину.
И князь Михаил, недовольный собой, пошёл к двери. И тут, у двери, он столкнулся с Дмитрием Шуйским.
Тот поспешно шагнул в сторону, уступая ему дорогу. На губах у него мелькнула кривая улыбка.
Князь Михаил секунду колебался, выходить или пропустить его вперёд.
– Иди, иди! – раздался позади него голос Василия.
И князь Михаил переступил порог, вышел из царской палаты.
Войдя к Василию, Дмитрий резко захлопнул за собой дверь.
– Ты что, дурак, там, на валу, кричал! – с бранью набросился Василий на него.
– А-а-а! Успели, донесли!
– Не надо чёрт знает что плести!
– Ты слушал здесь его наверняка! – сам перешёл в атаку Дмитрий. – Попомни, вот под Смоленск удачно сходит, тогда посмотришь, что будет в государстве!.. И верят ли таким, как ты, царям!
– Михайло чист передо мной! Ему я заглянул в глаза и воровства там не узрел!
– Он обманул тебя! А ты на радостях слезу смахнул! – с издёвкой произнёс Дмитрий.
– Он Шуйский, Шуйский он! – запальчиво выкрикнул Василий. – Тебе бы помнить это! И Богом, видимо, отмечен, – тише, с тоской в голосе произнёс он. – Я стар, детей нет у меня… Кому оставить царство? – как-то потерянно, сам себя спросил он.
– Мне!
– Тебе?! – с сарказмом вырвалось у Василия.
Он смерил пренебрежительным взглядом, с ног до головы, холёную фигуру брата.
– Тебе нельзя на царстве быть…
– Почему?! – вытянулось у Дмитрия лицо, и на нём появилось выражение оскорблённого самолюбия.
– Бояр не сможешь удержать… Они тоскуют без руки деспота и жрут друг друга, как в банке пауки…
– А что же мне ты уготовил? – прерывающимся от раздражения голосом спросил Дмитрий.
– С воеводства надо бы тебе уйти.
– Спасибо, братец, ты меня утешил! Хм! Ну, Шубник, как же ты смешон! Не зря народ московский на тебя кричит!
– Как смеешь, бездарь, на царя вот так! – вскинулся на него Василий. – Не забывайся, а…, м… – бессвязно вырвалось у него. – Ужо тебя сейчас!
И он гневно замахнулся на него тяжёлым царским посохом.
В тусклом свете палаты над головой Дмитрия мелькнула серебряная насечка с жемчужными зёрнами и отрезвила его. Он невольно попятился от Василия.
– Уходи! Немедля с глаз долой! – стиснув зубы, проговорил Василий. – Не жди, пока стрельцы придут!..
Князь Дмитрий покорно опустил голову и вышел из палаты, что-то бормоча себе под нос.
Домой он вернулся взбешённым. Узнав об этом от комнатных девиц, Екатерина тут же явилась к нему в горницу.
– Что мечешься, как сыч? – уставилась она на мужа, всегда покладистого и мягкого, а сейчас взвинченного. – Опять, чего доброго, с Василием сцепился?
– Из-за Михалки поругались, – устало произнёс он, плюхнулся в кресло, обложенное пуховиками, и безвольно опустил руки.
– Доколь же будет он тебя пинать! А ты терпишь и молчишь! – заходила она подле него, рассерженная его слюнтяйством, как иногда говорила прямо ему в лицо.
– Перестань, Екатерина! Ведь тошно без тебя и так!.. Послушай, ты только послушай, что он решил: передать трон Михалке!
– Ах, вот как?! Поставить выше ветвь младших Шуйских! Не токмо деток, а и ума он не нажил!
– Нам нужно немного подождать! Нет соперников ведь у меня? – вопросительно посмотрел он на жену заискивающим взглядом. По-своему он любил её, прилип к ней, привык во всём слушаться. Екатерина была женщиной умной, властной. Порой это его положение тяготило, но вывернуться из-под неё он не спешил. Да и больно крепкой была у неё хватка, засадить в монастырь было не так-то просто. В этом патриарх не шёл ни на какие уступки[14].
– А Романовы, Голицыны, Мстиславский? – удивилась она наивности мужа. – Но впереди всех твой племянник!
– Никто закона места на Руси не отменял! – возразил он ей. – Я сяду на Москве!
Дмитрий не сомневался в своём праве, по лествице, на престол после Василия. Князья Шуйские выводили свой род от суздальского князя Андрея Ярославича, старшего брата Александра Невского, и считали себя первыми, уступая первенство лишь великому московскому князю, род которого только что угас. Зато Екатерина лучше понимала своей женской натурой все тонкости прихода к власти в Московском государстве.
– Ты тряпка – не мужчина! – презрительно бросила она в лицо ему. – Раз ты не хочешь в том мараться, тогда я займусь тем!
– Немедля выкинь из головы! – испуганно вырвалось у Дмитрия; он догадался, что она задумала. – Ишь, тестюшка родимый как заговорил в тебе!
Он хорошо знал свою жену. Та не останавливалась ни перед чем, если ей что-либо западало в голову. И в этом, к своему прискорбию, он узнавал черты тестя. Казалось, тот давно уже мёртвый, а вот, поди ж ты, до сих пор скалится. Его поразило, что она даже не прослезилась, когда удавили её старшую сестру. А напротив, скрытно этому радовалась.
– Да, я Скуратова Екатерина! – запальчиво выкрикнула Екатерина.
Князь Дмитрий и не рад был, что рассказал ей о стычке с Василием. Что будет теперь – одному Богу известно. Ведь Екатерина-то просто так не отступится от своего. Ему было страшно чего-то. В то же время в голове у него засела мысль, что кто-то иной, без него, сделает то, чего он сам подспудно желал и о чём гнал от себя мысли. Но они не покидали его с того самого сражения, когда он был разбит под Болховом. На выручку же к нему тогда послали юного князя Михаила, и тот нашёл выход из положения, в котором увяз он. Правда, затем ему помешали Ванька Катырёв с Ивашкой Троекуровым, да ещё Юрий Трубецкой…
Однако князь Дмитрий многого не знал о своей жене. Не знал, что та с малых лет завидовала по-недоброму своей сестре Марии из-за того, что той доставалась вся ласка отца, который только её, старшую, и лелеял.
Малюта [15]раньше других разглядел в Борисе Годунове того, кем тот стал позже, и поспешил выдать за него свою любимицу, старшую дочь. Борис был красив, умён и с характером. Екатерине же достался, по расчётам отца, князь Дмитрий: полная противоположность Бориса. И за годы замужества она немало потратила усилий, чтобы сделать мужа таким, каким хотела видеть. И вот теперь сама судьба, похоже, идёт к ней в руки, но на пути оказался молодой племянник… После смерти Годунова она исподволь, тайно, выясняла, кто такой этот названный Димитрий. В воскрешение мёртвых в семействе Шуйских не верили. Да и Василий крепкое слово дал, что видел своими глазами мальчонку мёртвым, вот так же, как их. А уж кому, как не ему, об этом было знать, когда дело-то, угличское, о смерти царевича, вёл он сам по свежим следам… Самозванец, блудный вор, Гришка Расстрига. Многие его обличали, да не все живы остались… И упросила она мужа затащить в их хоромы гостем посла, пана Гонсевского, надеясь выведать бабьей хитростью про эти все затейные напасти. Как раз то было накануне рокового для Гришки дня. Но визит успеха не имел. Гонсевский сам не знал всего, поэтому-то и развёл руками, когда она как бы обмолвилась об этом. Да, видит Бог, скорее убоялся того же Расстриги. А может быть, короля. Не в его интересах было раскрывать все те тайны.
Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский жил семейством в Кремле, по правой стороне Житной улицы. Этот двор до него занимал Дмитрий Иванович Годунов, конюший боярин, дядька Бориса. По смерти того, в тот же год, когда умер и Борис, двор перешёл в государеву казну. А затем Василий Шуйский пожаловал его своему племяннику: за великие ратные заслуги.
Рядом с его двором стоял двор Бориса Лыкова. Он примыкал вплотную к Никольским воротам. С другой стороны его двор граничил с двором, который принадлежал до недавнего времени Семёну Годунову – правой руке Бориса. Двор этот выходил к Троицким воротам и был последним в этом ряду. Позади дворов, вдоль крепостной стены, от угловой Собакиной башни до Троицкой, длинной цепочкой протянулись государевы житницы. От них-то и получила эта улица название Житной. Помимо господского дома и холопских построек, в глубине двора Скопина, у глухой крепостной башни, стояла маленькая каменная церковка Бориса и Глеба.
И вот на Благовещение двор Скопиных заполнила шумная ватага богато разодетых всадников: в гости к князю Михаилу приехал де ла Гарди со своими капитанами. И во дворе забегали княжеские холопы вокруг иноземцев, принимая коней.
Гостей князь Михаил встречал у теремного крыльца. В коротком тёмно-синем кафтане с маленьким козырем[16], и длинной, внакидку, ферязи из объяри вишневого цвета, большой воевода был похож на обычного московского щёголя.
Здороваясь, он обнял де ла Гарди.
– Михайло, задавишь! – шутливо заворочался у него под руками де ла Гарди, похожий рядом с ним на подростка.
Он освободился из его объятий, поправил камзол, в который вырядился как никогда тщательно. Он был наслышан о красоте княгини Александры, жены Скопина, и полагал, что его представят ей.
– Ну ты совсем считаешь себя за немощного. Не дай бог угодить под твою сабельку.
– То искусство – не сила. А силу-то – только сила берёт.
Скопин радушно поздоровался и со спутниками де ла Гарди, прошёл с гостями в терем.
В столовой палате к ним сразу же вышла Елена Петровна.
– Ну, здравствуй, что ли, генерал! – поклонилась она де ла Гарди, как старому знакомому. – Как окреп-то! По весне уже и загорел. От походов, видно! Вот и Михайло стал похож на тебя. На дворе шпаги какие-то завёл. Не с тебя ли манеру взял?
– Ма-атушка! – укоризненно протянул князь Михаил.
– Не буду, не буду! – быстро проговорила Елена Петровна, уловив смущение на лице сына.
– Ты, Якоб, потолкуй с ним уж непременно, – понизив голос, прошептала она де ла Гарди, чтобы не слышал сын, и тут же, поклонившись, громко пригласила всех в палату: – Проходите, дорогие гости!
Де ла Гарди был уже знаком с семейными обычаями русских: с тем, что сейчас в доме Скопиных делами заправляет боярыня, как матёрая вдова. Знал он также, что за столом, кроме неё, женщин не будет. Обслуживать их также будут холопы. И разве что в знак расположения к гостям Скопин пригласит в палату свою жену и представит её им.
– Михайло, ты не тяни со сборами, – сказал он, когда за столом вновь заговорили о войне за Смоленск. – Король после зимы ещё не готов к походу. Не то выйдет вперёд нас, и к нему тут же пристанут тушинские полки… Сейчас-то врозь стоят…
Князь Михаил не догадывался, что этот разговор Якоб затеял по просьбе Елены Петровны. Та хотела скорее удалить из Москвы сына. Да и упрашивать де ла Гарди нужды не было. До него тоже доходили слухи о том, что у Шуйских не всё ладно в отношениях с племянником. Поговаривали, что и царь тому виной. Для де ла Гарди, искушённого в дворцовых интригах, это было плохим знаком. Вот и в доме Вазов столкнулся Сигизмунд со своим дядей Карлом из-за шведского трона… А выжил, выжил всё-таки дядя своего племянника из Швеции. Теперь он там законный король… Да-а! Недолго усидел Сигизмунд под двумя коронами… И что же?.. Сейчас Швеция и Польша враждуют…
«Ах! Если бы не корыстное своевольство шляхтичей, то вся Северо-Западная Европа была бы уже под Швецией!» – мелькнула у него идея, которой придерживались высшие круги, ближние короля Карла IX, в Швеции.
– Нам ли, князь Михайло, сидеть по домам, – дружески положил он руку на плечо Скопину. – Вот и матушка твоя о тебе тревожится, не советует в столице задерживаться, – кивнул он головой в сторону Елены Петровны, которая прислушивалась к их беседе.
– Дядю уважаю я и служу ему честью, – спокойно отвёл князь Михаил всякие подозрения на угрозу со стороны царя.
– Да не о том речь! – с болью в голосе вырвалось у Елены Петровны. – Не один Василий на Москве живёт! Есть дворы, где косо смотрят на тебя!
«Есть и такие», – мысленно согласился с ней князь Михаил.
Но не это занимало его думы, так же как и не планы о походе против короля. Там всё было ясно: подойдёт срок, выступят полки, и начнётся обычный ратный труд. О нём ли сейчас ломать голову.
– Михаил Васильевич, ты знаешь татар и гусар изведал на бою, – начал де ла Гарди. – Устоит ли сотня татар против полусотни гусар? Не-ет!.. А почему – то и тебе ведомо. Зачем тогда русское войско ходит по-татарски на войну?
– То от привычки. Уж больно увёртлив в седле татарин. Увёртливость эта и по нраву нашим. Без брони лишь она и спасает. А где бронь-то всему войску взять?.. То же великие расходы!
– Михаил Васильевич, тут до тебя от Воротынского гонец, – подойдя к нему, шепнул на ухо приказчик Николка. – Говорит, велено самому сказать.
– Зови.
Вошёл дворовый холоп Воротынского, низко поклонился Скопину и передал, что князь Иван Михайлович напоминает ему, крестному отцу, о крещении его сына завтра в полдень.
– Буду, – коротко бросил князь Михаил и отпустил гонца с поклоном Воротынскому.
Понимая, что гости слушают её лишь из одной любезности, Елена Петровна поднялась из-за стола и вышла из палаты. Вскоре она вернулась назад с княгиней Александрой, ведя её за руку. Та, выходя к гостям, волновалась так, что у неё даже взмокли ладони…
– Ты, милая, почему так оробела-то? – подбадривая, шепнула ей Елена Петровна. – Смелей, детка, смелей. Нечего мужиков-то пугаться. Они сами тебя боятся, – снисходительно хмыкнула она, когда заметила под толстым слоем белил на лице снохи красные пятна, совсем как у девицы на смотринах.
Княгиня Александра, внучка Петра Ивановича Головина, бывшего казначея Грозного, от природы была красавицей. И белила только портили её мягкую и гладкую, слоновьей белизны кожу. Ростом и сложением она была похожа на спартанских девиц, с тугими изящными формами, лишёнными альковных излишеств… Но!.. Была стеснительной, как все, не осознающие ни своей красоты, ни высоты положения. Хотя со стороны она выглядела уверенной.
Князь Михаил вышел из-за стола, принял из рук матери жену и подвёл её к де ла Гарди. Тот поднялся навстречу юной княгине, увидел прелестное лицо, чудесные глаза – и в них смущение…
– Познакомься, Якоб Пунтосович, с моей жёнушкой, моей голубушкой! – представил он её де ла Гарди.
Александра поклонилась гостю. Затем она жеманно подставила ему для поцелуя одну за другой щёчки.
Де ла Гарди поцеловал её, густо нарумяненную, уловил знакомый запах лаванды, рассыпался умело комплиментами перед княгиней.
Александра же, подумав, что этот симпатичный иноземец так шутит с ней, смешалась, затем, с трудом сдержав смех, фыркнула…
Князь Михаил обвёл жену вокруг стола, показывая её гостям. И те чинно, по очереди, прикладывались к щёчкам княгини. Он закончил церемонию, препоручил жену матери, и женщины вышли из палаты.
Чтобы гости совсем не заскучали, в палату пустили дворовых плясунов, и те прошлись сначала колесом, потом вприсядку, с прибаутками, под балалайку. За ними явились дворовые девки в ярких сарафанах. Напевно выводя загадалки и помахивая платочками, они покружились и тоже исчезли.
Гостей князь Михаил провожал поздно, когда на дворе стало уже темно и в хоромах зажгли лампадки и свечи.
– Ты береги себя, Михайло, береги! – прощаясь, обнял его де ла Гарди и спьяну неловко ткнулся ему в грудь, не доставая головой даже до его плеча. – А на короля мы пойдём, – заплетающимся языком промямлил он. – Ждут мушкетёры, ждут твоего указа… А Жолкевский-то, сукин сын, у меня в долгу! Ох в каком долгу! Хотя нет, это я должен ему шубу! Ха-ха-ха! – расхохотался он, отваливаясь от князя.
– Якоб, нам не гетман нужен, а Смоленск!
– Нет, ты его побьёшь, а я ему шубку! Ха-ха-ха! – никак не унимался, пьяно смеялся де ла Гарди.
– Побьём, побьём и его! – коснеющим языком проговорил князь Михаил, тоже пьяный, заражаясь весельем от этого не то шведа, не то француза. – А почему нет?!
На дворе, в темноте позднего весеннего вечера, горели факелы в руках боевых княжеских холопов, готовых проводить гостей до их стана по тесным и опасным ночным московским улочкам.
– Ну, Якоб, будь здоров!.. И вы, господа, тоже! – обнял князь Михаил по очереди каждого из гостей. – На поле свидимся! До просухи!
– На короля! – шутливо выкрикнули вразнобой пьяными голосами спутники де ла Гарди, воинственно отсалютовали обнажёнными клинками.
Захваченный их азартом, князь Михаил тоже вскинул вверх саблю с криком: «На короля!»
На дворе поднялся хохот. Гости с трудом вскарабкались на коней и гурьбой выехали со двора вслед за холопами.
«Какие же они ещё мальчишки», – подумала Елена Петровна, наблюдая за ними в окно.
Она улыбнулась, вспомнила, что её сыну только-только исполнилось двадцать два года. И женат-то он был ещё без году неделя. Не намного старше был и его иноземный друг.
На следующий день, как раз был понедельник, в большую каменную соборную церковь Казанской Богородицы князь Михаил вошёл рядом с тёткой Екатериной Шуйской. Та, как крестная мать, несла младенца. Позади них шёл Воротынский с супругой Ульяной. Та беспокойно поглядывала на свояченицу, замирая до ужаса от того, как небрежно держала та её ненаглядного девятидневного ребёночка.
Князь Иван Михайлович Воротынский был на десяток лет старше Скопина, писался он вторым в Боярской думе после Мстиславского, а по характеру был взыскательней даже, чем тот. Своё начало Воротынские вели от черниговских князей и старшей ветвью находились в родстве с князьями Оболенскими, Одоевскими, Мосальскими и Мезецкими; из последних, отделившись, вышли и Барятинские… Двор Воротынских, где должно было проходить застолье после крещения, располагался недалеко от вот этого Казанского собора, на большой Никольской мостовой улице, в двух шагах от приходской церкви Жён-мироносиц, глядя на неё фасадом. Он стоял по соседству с дворами Михаила Салтыкова и покойного князя Петра Буйносова-Ростовского, тестя Василия Шуйского. Двор был большой и богатый. За Воротынскими числилось три десятка холопов, вооружённых пищалями, которых он должен был брать с собой в государевы походы. Тут же, за двором Салтыковых, находился двор боярина Петра Шереметева. По другую сторону, за двором Буйносовых, стояли дворы Юрия Хворостинина, Андрея Телятевского, и далее был двор князя Дмитрия Трубецкого. Тот разругался со своим дядей, князем Никитой Романовичем, и съехал из Кремля сюда, в Китай-город, на Никольскую. И сейчас здесь, на Никольской, жила только жена князя Дмитрия, княгиня Мария Борисовна. Она коротала время с одной малолетней дочерью, тогда как её муж находился в бегах, при Тушинском воре.
Дородная и медлительная, тётка Екатерина вышагивала короткими неторопливыми шажками, переваливаясь с боку на бок, как гусыня. Она шла так, будто всё происходящее было затеяно ради неё. Поэтому все невольно подлаживались под её шаг.
За Воротынскими шёл Дмитрий Шуйский с младшим братом Иваном. Иван был молодым человеком, чуть старше Скопина. Он стоял во главе Стрелецкого приказа и ещё не был обременён семейными узами. Предстоящая церемония была для него не нова, и на лице у него, ещё юношески гладком, с короткой курчавой бородкой, была явно написана скука.
Князь Дмитрий же непривычно хмурил брови. И от этого он, холёный и упитанный, выглядел озорно, мальчишкой, случайно угодившим на торжество святых.
За Шуйскими шли братья Головины и князь Василий Куракин, свояк Шуйских.
Подле алтаря семейство Шуйских встретил протопоп Ипполит с дьяконом и церковными служками.
Весь обряд крещения мелькнул для князя Михаила как одно мгновение. Он же готовился к немалому испытанию и замешкался, когда они остановились. Так что тётка даже легонько подтолкнула его локтем: дескать, проснись, князюшко…
Кумушки, помощницы крестницы, распеленали младенца, и Екатерина передала его князю Михаилу.
Князь Михаил осторожно взял на руки крохотное и беспомощное существо, шагнул вперёд и на вытянутых руках вручил его дьякону. Тот ловко подхватил младенца, подошёл к крестильнице и отдал его протопопу.
Протопоп принял младенца и окунул его в купель со словами: «Крестится раб Божий Алексей в царство Христово земное! Аминь!»
Младенец отчаянно заголосил, напуганный внезапным погружением в воду. Но не успел он как следует вякнуть, как снова оказался на руках у Екатерины, и кумушки сноровисто опять запеленали его.
Протопоп окропил всех святой водой и поздравил Воротынских с крещением сына. Князь Иван Михайлович и Ульяна поцеловали у него руку. И все, весьма довольные собой, покинули церковь.
Всё остальное происходило уже в хоромах Воротынских.
Князь Дмитрий уселся за стол рядом с братом Иваном и как-то сразу растерял беспечность, с какой смотрелся вот только что в церкви, стал серьёзен.
Борис Лыков же, до ухода к Скопину в Александровскую слободу, тоже нёс службу по росписи у ворот, только у Спасских Кремля. И в осадное время он спокойно жил в своих хоромах, как и Дмитрий. Но если Лыкова это особенно не трогало, то князя Дмитрия весьма задевало. Тем более после слухов об успешном походе Скопина от Новгорода.
«Ивану проще, – покосился он на брата, сидевшего рядом за крестинным столом. – Он один, у него нет Екатерины…»
За столом тем временем Головины начали громко славить Скопина.
– В осаде, в голоде, полки сидели, – почему-то стал оправдываться перед ними Иван. – Ходили приступом на Тушинского вора!..
– Ума не много надо: в Кремле, в хоромах, просидеть, – насмешливо поддел его Семён.
Иван возмутился, выпалил:
– В Москве полки не ели хлеба зря!
«Зачем они так?» – подумал князь Дмитрий, но брата всё же поддержал:
– Москву посильно защищали…
– И что, освободили? – язвительно бросил Семён.
– Без помощи осадного войска не смог бы князь Михайло сделать то, что сделал, – возразил ему Дмитрий. – Не так ли, Михайло? – спросил он племянника, едва повернув голову в его сторону, чтобы показать этим своё пренебрежение ему.
– А что Михайло? Князь Михайло царство спас! – помимо его воли вырвалось у Скопина, но он тут же поперхнулся, запоздало сообразив, как хвастливо это получилось.
За столом на несколько секунд повисла тишина…
В каком-то непонятном запале, была и обида, князь Михаил не заметил, что его слова достали не только Дмитрия Шуйского… «Вон и Куракин прячет от меня глаза!»
– Твои заслуги принизить трудно перед царём, – напряжённым голосом выдавил из себя князь Дмитрий, у которого ещё не выветрилась из сердца недавняя стычка с Василием; жгла, не заживала зависть.
– Князья, да что вы всё о том же! – вскричал Воротынский, встревоженный накалом страстей. – Здесь пир крестинный, а не военный совет!.. Карпушка, давай! – приподнявшись на лавке, махнул он рукой своему дворецкому.
Дворецкий, грудастый малый, вышел на середину палаты и объявил: «Обычай предков мы начнём! Кто перепьёт кого: кум или кума?»
– Кума, готова ли ты к встрече с кумом дорогим? – спросил Воротынский Екатерину, которая сидела за столом напротив него, вместе с другими женщинами.
– Я с воеводою большим сойдусь охотно на поле винной брани! – ответила Екатерина, лукаво улыбнулась Скопину, поднялась из-за стола.
– Ай да кума! – воскликнул князь Михаил, не ожидавший такой языкастости от тётки. – Теперь сомненье появилось у меня, устою ли в битве я, где слово меткое верней удара пушек!
– Кум не уступает ни в чём куме! – подзуживая Скопина, крикнул Куракин, азартно притопывая ногами под столом.
– Вот только едва ли перепьёт, – пробурчал Иван Шуйский, с сарказмом намекая на слабость свояченицы.
– Кум перепьёт куму! – с вызовом бросил князь Михаил и вышел на середину палаты, вскользь заметив беспокойный взгляд жены, сидевшей рядом с княгиней Ульяной.
– Ах, какой же ты мужчина удалой! – подхватила его тон Екатерина и плавной походкой прошлась вокруг него, помахивая платочком.
К Скопину же подошёл виночерпий и подал ему полную чашу вина.
Князь Михаил взял её и повернулся к Екатерине.
– Известно, в этом ты сильна! – выразительно приподнял он чашу. – С мужчинами тягаться можешь! Посмотрим, перепьёшь ли ты меня!
И он с поклоном поднёс ей чашу.
Екатерина приняла её и, рисуясь, обратилась к гостям.
– С воеводою большим, как дорогой мой куманёк, мне ли равняться мерой пития! – напела она высоким голосом и вспыхнула, зарделась вся огнём хмельных желаний. Выпив залпом вино, она не по-женски, грубо швырнула чашу в руки холопу.
Чашу снова наполнили. Теперь виночерпий подал её Екатерине.
Та же поднесла её Скопину.
– Нектар в сей чаше от богов – такой, что нет слов! Ты град-столицу освободил, а вот куму не перепил! О том пойдёт теперь молва, что, дескать, я в том не нова!..
За столом все дружно засмеялись.
Князь Михаил принял чашу. В голове у него мелькнула неясной тенью мысль, и его сразу осенило.
– Я с кумою много пил, но кафтана не залил! А залил за воротник, потому-то козырь сник!
Екатерина удивилась его находчивости и по-новому, с интересом, взглянула на него.
«Что же это?.. Неужто он мне… Хм!» – кокетливо повела она плечами от мысли, томно отозвавшейся в ней, что её племянник, ещё совсем юнец, вскидывает на неё глаза, смущается, как мальчишка, и как бы приглашает, ведёт за собой куда-то… неуверенно, шаг за шагом…
А князь Михаил, бросив на Екатерину беспокоящий жаркий взгляд, поднял двумя руками чашу и осушил её. Махнув рукой, он стряхнул на пол остатки вина и вернул чашу дворецкому. Лицо у него посерело, затем на щеках и лбу выступили багровые пятна. Стараясь, чтобы никто не заметил, что ему плохо, он, покачиваясь, как хмельной, прошёл к своему месту и грузно опустился на лавку так, что она жалобно скрипнула под тяжестью его громадного тела.
Тем временем Екатерине подали новую чашу.
– А где мой милый куманёк? – стала озираться она по сторонам. – Князь Михайло, ты уже отвоевался?!
Она тоже была хмельна от медовухи, но на ногах держалась крепко.
– Я здесь, кума Екатерина… – выдавил из себя князь Михаил, через силу улыбнулся, чувствуя, как тело быстро одолевает слабость.
Он с трудом поднялся с лавки и хотел было вылезти из-за стола… На мгновение перед глазами у него мелькнуло лицо жены. Она о чём-то говорила с боярыней Ульяной, повернувшись к ней… Но пол под ним закачался утлым шитиком[17], палата накренилась, и он осел назад на лавку. Затем он неестественно смялся и грузно сполз на пол, как огромный неуклюжий медведь, услышал, как кто-то из гостей крикнул: «Князь Михайло лишку взял!»
За столом громко засмеялись, а он потерял сознание…
– Кума, на поле пьяной брани ты одна!
– Вот так Екатерина! Не устоял перед тобой большой мужчина!..
– Тихо! – раздался чей-то встревоженный голос оттуда, где был Скопин. – Михайло, тебе плохо?!
К Скопину торопливо подбежал Воротынский:
– Михайло, что с тобой? – Поняв, что тот без сознания, он наклонился над ним и легонько похлопал его по щекам: – Михайло, да очнись же!
Князь Михаил приподнял грузные веки. Вяло ворочая языком, спросил: «Что со мной?..»
– Расступитесь же! – испуганно взвизгнула Александра, прорываясь к мужу сквозь кольцо князей.
– Лекаря, немедля лекаря! – громко, в голос, вскрикнули Головины.
– А ну, давай, держись за меня! – запыхтел Воротынский. – Вставай, вставай!..
Он подхватил было Скопина под руки, но не в силах был даже сдвинуть его с места и закричал на растерявшихся князей: «Да помогите же!»
Скопина подняли и усадили на лавку. Он открыл было рот, хотел что-то сказать, но у него горлом и носом хлынула кровь. Его тут же быстро уложили на лавку. В суматохе забегали дворовые, стали прикладывать холодные тряпки к его одутловатому, сизого цвета лицу.
Кругом в палате шёпот, охи, вскрики женщин…
Александра, склонившись над мужем, всхлипнула, и её губы зашептали нервно и жалко: «Мишенька, Мишенька!.. Что с тобой, мой дорогой?»
Она была ещё такой юной, что не умела даже горевать.
– Иван Михайлович, отвези меня домой, – тихо попросил князь Михаил Воротынского, сжимая в дрожащей руке холодные пальцы жены.
– Нет, нет – в Чудов! – криком вырвалось у Воротынского. – К монахам! Там хворь изгонят – поставят на ноги!.. Да где же кони?! – в негодовании загудел он.
– Здесь, здесь уже! – влетел в палату запыхавшийся дворецкий с холопами. – Стоят подле крыльца!
Четверо дюжих холопов с трудом подняли Скопина на руки и вынесли из палаты. Вслед за ними гурьбой двинулись гости.
В тесных дверях князь Дмитрий столкнулся с Екатериной и зашипел ей в лицо:
– А ну, скажи – твоё ли это дело?!
– Нет… Это не моя рука, – прошептала Екатерина, и её голос дрогнул.
– А чья-а?!
Она ничего не ответила. Только на лице у неё мелькнула какая-то загадочная, растерянная и одновременно смущённая улыбка.
Князь Дмитрий изумился: впервые в жизни увидел он такой свою жену… Екатерина!.. Его Екатерина была растеряна и смущена!..
В Чудовом монастыре через неделю монахи беспомощно развели руками, когда испробовали все свои средства. Кровотечение они остановили, но не смогли больше ничем помочь князю: тот таял прямо на глазах. И по совету де ла Гарди Елена Петровна забрала сына из монастыря и привезла домой.
Там, в палатах, князя Михаила уже ждали два французских лекаря: их прислал де ла Гарди. И на двор Скопиных опустилось томительное горестное ожидание. Дворовые бабы и девки бегали на цыпочках с посылками лекарей, приглушённо вздыхали, охали и пускали из глаз влагу, когда украдкой взглядывали на Елену Петровну и Александру. Те же сидели день и ночь у постели князя, осунулись, почернели, выплакали все слёзы.
Проведать князя приехал де ла Гарди, застал его в беспамятстве, упрекнул лекарей. В ответ те тоже развели руками, как и монахи: «Болезнь люта – нам неизвестна!..»
Собрались у Скопина и ближние воеводы его большого войска. Они посидели в столовой палате в полном молчании и разъехались по домам. Двор Скопиных Григорий Валуев покинул с неспокойной душой, с предчувствием близкой беды.
В конце второй недели после крестинного пира Скопину стало лучше. Он очнулся от забытья и попросил привести духовника. Тихо, с трудом произнося каждое слово, он заговорил: «Отче, повинен я в смерти Татищева… И он преследует меня…»
Его дело с Татищевым было ещё там, в Новгороде, когда князь Михаил дожидался наёмников из Швеции…
Новгородский второй воевода, окольничий Михаил Татищев с шумом и грохотом ввалился как-то в избу к нему, споткнулся, опрокинул лавку, что стояла у двери. За ним вошли два боярских сына, Колычев и Огарёв. С ходу, от порога, окольничий загудел трубой, как дьякон:
– Михаил Васильевич, в Пскове меньшие людишки заворовали! И Тушинцу ударили челом! Восстали и Петьку Шереметева захлопнули в тюрьме! По Новгороду слух прошёл, что то же с воеводами тут враз поделают чернушки! Вот-вот нагрянут!
– Да полно тебе, Михаил Игнатьевич! – засомневался он.
– А вот спроси их! – прогремел Татищев, показав на боярских детей. – Они всё понизу вперёд всех узнают!
Князь Михаил и не помнит уже, как его угораздило поверить этому, поддаться уговорам и бежать из города. Может быть, подтолкнула на это памятная расправа черни с Гришкой Отрепьевым и Басмановым. В какой-то момент, что душой-то кривить, появился и страх.
Опамятовался он, взял себя в руки и стал спокойно взвешивать всё, когда оказался с малым отрядом стрельцов далеко от Новгорода, в какой-то глухой деревушке. Там их и отыскали посланцы из Новгорода, от Семёна Куракина. Они принесли весть, что митрополит Исидор успокоил горожан и всё, к счастью, обошлось.
Дурно стало тогда ему за это малодушное бегство, нелегко было возвращаться назад в город. И он смерил окольничего таким взглядом, что Колычев с Огарёвым тут же исчезли куда-то: не то подались к Вору, не то дальше – к шведам. А Татищев-то ничего – вернулся в Новгород.
И возненавидел он его за это унижение: стал во всём подозревать, норовил уличить во лжи, в измене. Тут сам чёрт-то возьми и выскочи… К городу подступил Кернозицкий из Тушино. И Татищев пристал к нему, к князю Михаилу, стал проситься выйти против того с полком. А тут ещё подвернулся дьяк Телепнёв и шепнул ему, что слушок прошёл: задумал-де окольничий сдать новгородское войско воровскому пособнику, поэтому и рвётся за стены… Собрал князь Михаил служилых на площади и объявил им о том, отдал окольничего на их торопливый суд. Но не подумал он, что всё так круто выйдет. Хотел он только истину прояснить да измену вывести, если выявится.
Служилые погорячились – растерзали окольничего тут же на кусочки. Уж больно тот засел у них в печёнках: из-за своей жадности немало их пограбил; чего только не отнял у них, тащил, как паук, всё на свой двор. Вот и посчитались они с ним…
Потрясло это тогда князя Михаила, и больше, чем укоры митрополита за неправедный скорый суд, невинную смерть. Как оно потом и выяснилось… Вот с тех пор он и стал осторожничать: боялся показать волю, ворочался осмотрительно, когда осознал обратную сторону своей силы…
– Сын мой, я отпускаю твой этот грех! Татищев встретится с тобой и не найдёт он в сердце зла: та распря умерла здесь с вами…
– Спасибо, отче… Ты снял камень с моей души…
Протопоп Корней причастил его, присел рядом с постелью и зашептал молитву на исход души.
Ночью князь Михаил скончался. И на дворе Скопиных поднялся вой. С воплями и причитаниями дворовые плакальщицы стали драть на себе волосы и царапать лицо, скорбя вместе со старой княгиней.
Елена Петровна же заголосила над сыном: «Ох! Да говорила же я тебе, родимый мой соколик: не езжай на Москву златоглавую!.. Чёрны души на Москве и завистливы! Уж кого невзлюбят – поедом едят!..»
Только теперь до неё дошёл весь ужас того, что случилось и что она осталась и без мужа, и без сына, одна-одинёшенька на белом свете.
А рядом со смертным ложем князя Михаила хлопотали лекари над молодой княгиней, тут же упавшей в обморок.
Придя в сознание, Александра заголосила, запричитала вместе со свекровью, как простая русская баба.
Вопли снохи подхлестнули Елену Петровну. Она вскинула к потолку руки и, будто призывая кого-то в свидетели или проклиная, вскричала: «Она, змея Екатерина, испортила мне на крестинах сына!» – схватилась за сердце и тоже упала в обморок.
Весть о смерти Скопина-Шуйского распространилась по Москве с быстротой прежних, опустошительных для неё пожаров, от которых она периодически выгорала. Прокатилась и молва, что то дело рук Дмитрия Шуйского с его женой Екатериной. И полыхнуло волнение, чуть было не снёсшее с лица земли их двор. От гнева московских чёрных людей Дмитрия и Екатерину спасла сотня стрельцов, которых послал царь Василий, чтобы предотвратить народный самосуд.
Для громадного ростом князя московские люди специально срубили по нему гроб и в великой скорби похоронили рядом с царской усыпальницей – в приделе Архангельского собора.
И Москва погрузилась в уныние.
Печальна была судьба Елены Петровны. Теперь уже ничего не связывало её с миром. Похоронив сына, она постриглась в Троице-Сергиевской обители под именем Анисия. И долго, очень долго, целых двадцать лет, не давал ей Господь успокоения. И она несла груз памяти о единственном сыне, так рано и странно умершем в самом начале своего блестящего взлёта. Похоронена она была там же, в обители, в родовом погребальном месте Татевых.
Александра после похорон мужа тоже постриглась, под именем Анастасия. Но к ней Господь Бог был милостив. Она не так долго скорбела о князе Михаиле, как её свекровь…
Глава 5
Григорий Валуев
В ночь со второго на третье мая к воротам деревянного городка Иосифова монастыря скрытно подступили две тысячи пеших и конных ратников Григория Валуева. Рядом подошёл и расположился с тысячей шведов и французов де ла Виль. Он расставил по местам роты, приказал капитанам ждать его сигнала и отправился к русским. Поминутно натыкаясь в темноте на повсюду затаившихся и готовых к штурму воинов, он с трудом отыскал Валуева.
– Ну что? – вопросом встретил его Григорий.
– Рассветёт, пойду с петардами к воротам.
– Хорошо, валяй! – согласился Валуев. – Только сейчас замри, чтобы поляк не смекнул, что мы обложили его.
– О-о, замри, замри! – оживился де ла Виль, рассмеялся. – Мы замри – поляк умри!
– Посмотрим, – неопределённо буркнул Григорий, нахмурил брови, глянул на француза; он не понимал, отчего тот веселится, когда дела у них идут неважно. – А теперь дуй к своим! Светает, пора, – добавил он и замолчал, чтобы уловить хоть какие-нибудь звуки из монастыря.
Но там не было слышно ни привычной переклички часовых, ни бряцания оружия, ни редкого мирного всхрапа лошадей.
Де ла Виль, заметив озабоченность хмурого русского воеводы, понял, что тут ему больше делать нечего.
– Я пошёл, – сказал он.
– Давай – дуй! – бросил Валуев.
Де ла Виль шагнул в сторону и сразу же словно растворился в серой дымке.
Тёмная майская ночь, подходя к концу, стала наполняться предрассветной мглой.
Григорий прислушался к той стороне, куда только что ушёл француз. Но там всё было так же тихо, и это насторожило его.
«Вот здесь-то и может быть опасность», – подумал он, внутренне подобрался и почувствовал, как в груди размеренно застучал какой-то молоточек, словно предупреждал о близости большого боя.
Он беспокойно заходил взад-вперёд, мысленно следуя за каждым движением француза.
«Вот он идёт к воротам… Подходит… На минуту затаился, прислушивается… Крепит петарды… Мешкает… Алебардщики опасливо поглядывают на стены… Поджигает… Бегут!»
И в то самое мгновение, когда он представил себе бегущих от монастыря французов, впереди что-то глухо хлопнуло, и мелькнул слабый огонёк.
Эхо взрыва отразилось от городских стен, с лёгким шорохом прокатилось над воинами и увязло где-то позади.
Затем раздался нестройный вскрик русских и шведов: «Аа-аа!»… И к воротам деревянного городка покатилась серая расплывчатая масса людей.
Бежавший впереди стрельцов Тухачевский остановился, когда увидел настежь распахнутые ворота… «Ловушка!» – молнией пронеслось у него в голове… Он закричал, хотел было остановить стрельцов, но те потоком нахлынули на него, подхватили и увлекли в крепость, пронесли через ворота и швырнули на широкий крепостной двор…
А в крепости эти взрывы петард подняли гусар из постелей и выбросили во двор, полуодетых, без доспехов. Первой от растерянности оправилась рота Рудского. Гусары выбили русских и наёмников за каменные стены и захлопнули за собой ворота. И тут же они сообразили, что в крепости оказались как в ловушке, и заметались.
Русецкий стал кидаться с десятком гусар то к наглухо забитым монастырским воротам, то откатывался от них, беспорядочно носился по двору.
– Там же колодки! – взвизгнул Мархотский. – Пьян, нализался!..
Русецкий вспылил, выхватил саблю и кинулся на обидчика.
Но его чуть не сбил с коня и оттеснил откуда-то появившийся Рудской. Тот осадил скакуна и рявкнул: «Москали кругом, а вы драться!.. За стены жмётесь!»
И он поскакал по монастырскому двору, крича хриплым голосом:
– Где ваша храбрость и слава?! За мной, гусары! Вперёд!..
Он пришпорил коня и устремился к воротам. Мархотский и с ним ещё десяток гусар последовали за ним. Они выметнулись из монастыря на городскую площадь, на полном скаку ударили из мушкетов, затем выхватили сабли и столкнулись с русскими.
«Ссадил!» – мелькнула в голове у Мархотского пьянящая мысль, когда он коротким взмахом палаша прошил московита.
Но тут же выстрел срезал под ним коня. Он повалился вместе с ним вниз и, падая, услышал глухой топот копыт и нестройные крики гусар, которые вылетали попарно из монастырских ворот, словно их там запускали катапультой.
Мархотский поймал лошадь московита, которого только что срубил, вскочил в седло, залихватски гикнул и ринулся на помощь своим.
Гусары выбили со двора неприятеля, заперли ворота и полезли на стены крепости защищать зубцы.
– Мархотский! – крикнул Рудской ротмистру. – Видишь, где они засели! – показал он на высокую деревянную башню, откуда шведы уже начали обстреливать из мушкетов защитников крепости. – Сейчас дадут нам жару! Надо отбить башню! Бери гусар – и живо туда!
Мархотский с гусарами выскочил за стены крепости. Они вломились на башню, и русские и шведы отступили под их натиском. Мархотский вернулся назад к Рудскому, просипел, еле переводя дух:
– Не удержим!.. Давай команду жечь!.. Пугнём их огоньком!
Рудской оглядел посад: он не решался поджигать его.
Мархотский нетерпеливо забегал по стене, недовольный тем, что тот медлит. Затем он с досадой махнул на него рукой и кинулся назад к башне. Через несколько минут там полыхнуло пламя. Прокалённая многолетним солнцем деревянная башня выбросила в небо высокий столб дыма. Остановить гусар, ожесточённых неудачной стычкой, теперь было невозможно. Со стен крепости во все стороны на дома пригорода полетели горящие головешки. И пошёл, загулял пожар, выжигая посадские избёнки.
Валуев понял, что надумали поляки, выругался и подозвал вестового.
– Разыщи де ла Виля и передай, чтоб отходил!.. Поляк выкуривает нас! Ну что ж – жечь так жечь! Устроим для них весёлый денёк! Без припасов не повоюют! Вылезут, как крысы! Хвост-то и прижмём!
Вестовой ускакал к шведам. А Валуев с десятком конных двинулся собирать свой полк.
– Отходи, отходи! – понеслось по русскому войску. – Поджигай!.. Отходи!..
– Яков! – окликнул Валуев Тухачевского. – Ты вот что, пройдись посмотри, сколько наших полегло. Что-то очень много…
Войско Валуева и наёмники отошли от Иосифова монастыря и расположились станом в семи верстах от него. К ночи все дороги в обитель были перекрыты конными дозорами. Наблюдать же за её стенами ушли пластуны.
А в это время Рудской, кое-как наведя порядок в крепости, собрал ротмистров и поручиков в трапезной и прямо заявил им: «Не высидим! Надо идти к Зборовскому!»
– Бартош, давай я пойду! – предложил Мархотский.
– Нет, ты нужен здесь.
– Пойду я! – твёрдо заявил Русецкий, чувствуя свою вину перед войском.
Рудской согласился и велел ему, чтобы он передал Зборовскому, что если тот не поможет, то они оставят монастырь и его тут же займут москали.
Уже с самого утра следующего дня на дорогах, ведущих на запад и юг от монастыря, застучали топоры. Стрельцы и казаки спешно строили острожки вокруг обители, зажимая её в кольцо так, как учил Скопин, школа которого не пропала зря для Валуева.
Жизнь у Григория Валуева была переменчива, но, в общем-то, укладывалась в одну колею. И одна из таких перемен началась с первым ударом набатного колокола в то памятное для всей Москвы раннее майское утро…
Со многими другими, такими же дворянами и боярскими детьми, оттеснив в сторону копейщиков Маржерета, он бегал по палатам царского терема. И они никак не могли найти самого Димитрия. И он помнит, как потом полетел и мгновенно взбудоражил всех крик: «Нашли, нашли!.. У Борисова шутовского городка! Под стеной!..»
Масса служилых увлекла его на этот крик, и он оказался со всеми на подоле, у кремлевской стены, где их остановили стрельцы. Те окружили какого-то человека, лежавшего на земле, выставили мушкеты и никого не подпускали к нему.
Он присмотрелся, узнал Димитрия.
В одной белой нательной рубахе, с потным, искажённым от боли лицом, тот полулежал на боку, с тревогой взирал на толпу, изредка бросая полные надежды взгляды на стрельцов.
Валуев встретился с ним глазами и смутился, не зная, что делать: перед ним был царь…
Толпа колыхнулась, стала напирать на стрельцов, и те, угрожая, подняли мушкеты: «Не при, собака, а то вдарю!»
– Стрельцы, отдайте его нам!
– Царь – не видишь, что ли?!
– Обманщик!.. Вор!..
– Бояре идут! Шуйской!..
Настороженно бросая взгляды на толпу, подошли Василий Шуйский и Голицын. С ними был и окольничий Михаил Татищев. Шуйский и Голицын, в окружении боевых холопов и большой группы дворян, выдвинулись вперёд из толпы и оказались прямо перед стрельцами, позади которых виднелась на земле фигура самозванца…
Василий Голицын, возбуждённый и решительный, почему-то затоптался на месте, затем тесно прижался к Шуйскому и закричал, не глядя на самозванца и больше обращаясь к толпе:
– Стрельцы, почто не пускаете народ?! Не даёте суд праведный вершить!
– То ж государь!..
– Какой такой госуда-арь! – завопил Шуйский, голос у него сорвался: «Кха-кха!..»
А рядом с ним как-то странно задвигался Голицын, заскакал бочком к самозванцу, ближе, ещё ближе, уже сжаты кулачки, и вдруг он взвизгнул:
– Гришка, Расстрига, вор!
– На то Бог судия! – ответили стрельцы.
– Глас народа – Божий глас! – находчиво ввернув знакомое Шуйский, и его от злости передёрнул озноб…
– Не подходи, не поглядим, что боляре, стрелять будем! – вскинули стрельцы мушкеты на него и Голицына.
– Братцы, да что с ними толковать! – закричал Валуев. – Выжжем стрелецкий посад!.. Опустошим, если не выдают полячка!
Толпа заволновалась и двинулась в сторону ворот с явным намерением привести угрозу в исполнение.
– Стой, глянь, бегут!.. А ну, хватай его – крути!..
Отчаянные смельчаки ринулись за разбегающимися стрельцами. Другие же бросились на самозванца.
Валуев увидел, как на того навалилось несколько человек, заломили ему руки и потащили к терему. Там его бросили на ступеньки высокого крыльца и обступили, задышали злобно, перекошенные:
– Говори, говори, кто таков?!
– Димитрий я! Димитрий! Знаете же, знаете!..
– Врёт!.. Вор! Обманщик!.. Таких царей – вон сколько у меня на дворе!
– Еретик!.. И жёнка латынянка!..
А кто-то уже кулачищем его – хрясь!.. И его рубашку, белую, опрыснуло кровушкой!.. И ногами, ногами его!..
И Гришка, размазывая красные сопли, заползал по земле и страшно заскулил:
– Марфу, царицу спросите! От чистого сердца скажет… вашу мать!.. Димитрий я!.. Сво-олочи-и!.. Богом спасённый!..
– Давай, давай – бей! Ишь как заворовался! – вырвалось у Валуева.
Он уже не соображал, что происходит, захваченный непонятной злобой к поверженному человеку, который к тому же ещё и сопротивляется.
– Люди, негоже так! Не по-христиански – душу отымать зазря! – раздалось из толпы.
– А вдруг Димитрий?! Как тогда?! Ведь государь же! Зови старицу!.. Не дадим без неё вершить суд! Послать за ней!
– А ну, дуй в Вознесенский: скажи старице, что тут делается! Если он её, пускай спасает! Давай, пока не поздно! Народ лютует – изверился!..
Несколько человек бросились в сторону Фроловских ворот, к Вознесенскому монастырю.
У Василия же Шуйского заныло в груди при одной только мысли о недавних мучениях на Лобном. Тогда лишь милость той же старицы Марфы отвела от него топор… «А теперь, если Вор вывернется, то уже никто не спасёт!..»
«Кончать, только кончать!» – мелькнуло у Голицына, и он подал знак Валуеву.
Григорий понял его, сунул под кафтан короткую пищаль и протиснулся вперёд. Кто-то, тесня, надавил сзади на него, и он оказался рядом с самозванцем.
– Да что толковать с польским свистуном! – фальцетом выкрикнул он, с трудом выгоняя из головы мысли о том, что это царь. – Вот я угощу сейчас тебя!..
Он выдернул из-под кафтана пищаль и выстрелил в самозванца.
Тот взметнулся на ноги, схватился за живот, охнул, согнулся пополам и шагнул к нему, глядя на него снизу вверх и пытаясь, с усилием, распрямиться так, что большая бородавка на верхней окровавленной губе у него тряско вздрагивала, вздрагивала… и всё вздрагивала…
Григорий не выдержал вида этой вздрагивающей бородавки и невольно отступил назад. Но тут чья-то услужливая сабля опустилась на кудрявую голову самозванца, и тот без звука уткнулся в землю лицом.
И всех бояр сразу точно сдуло ветром.
Мелкие служилые, оставшись наедине с убитым, в нерешительности уставились на него. Затем они подхватили его за ноги и поволокли к Фроловским воротам: грубо, по грязи, обнажённого, срамно…
У Вознесенского монастыря они неожиданно столкнулись с великой старицей.
Марфа остановилась перед возбуждённой толпой, которая загородила ей дорогу. По бокам, поддерживая её под руки, робко замерли её келейницы, подозрительно глядя на толпу из-под низко повязанных чёрных платков.
Бегавшие за старицей шмыгнули в сторону, исчезли. Труп самозванца поспешно бросили. Толпа смешалась. Огромная и на вид грозная, она, казалось, в одно мгновение усохла, сжалась в один бесформенный комок, от которого по сторонам проворно разбегались какие-то тени.
Через минуту в толпе оправились от замешательства, всплеснулись дерзкие крики: «Эй, старица! Твой ли это сын?.. Скажи правду, чтобы народ не сомневался более!»
– Об этом спросили бы его самого… – сказала Марфа и негромко, но гневно бросила толпе: – Посмели бы?!
Она презрительно оглядела притихших людей, повернулась и пошла назад к монастырю.
Толпа на мгновение замерла. Затем люди очнулись, заулюлюкали, подхватили за ноги труп и выволокли его на Лобное место. Следом подтащили труп Петьки Басманова и бросили рядом…
Давно это было и в то же время, кажется, будто вчера, хотя уже прошло четыре года. После того дня многое в жизни Григория изменилось.
Он поднялся с лавки, тряхнул плечами, словно сбрасывал воспоминания, прошёлся по избе, в которой устроил свою ставку вот здесь, в деревеньке под Иосифовым монастырем.
Ночью Валуева разбудил его холоп. Григорий поднялся, накинул кафтан и вышел из-за занавески.
У порога избы стоял Тухачевский.
– Зачем тревожишь среди ночи? – недовольно проворчал Григорий, насупив брови.
– Перебежчики из монастыря, важные вести, – ответил сотник и виновато отвёл от него взгляд.
– Веди! – бросил Григорий.
Тухачевский вышел и тут же ввёл в избу троих служилых. Один из них, среднего роста, худощавый, с острым носом и глубоко посаженными невыразительными глазами, держался уверенно. Судя по одежде, он был городовым боярским сыном. Два других, похуже одетые и не такие смелые, встали позади него, как будто прикрывались им.
– Кто такие?! – строго спросил их Григорий.
Уловив, как испуганно вздрогнули от его окрика те, что жались позади, он молча усмехнулся: «Как куропатки!»
– Люди митрополита Филарета, – ответил остроносый.
– Так Филарет в монастыре, у Рудского?! – удивлённо вскинул брови Григорий.
– Да, там… И другие бояре из Тушино…
От этой новости Григорий на минуту задумался.
– Почто здесь оказались?! – сердито повысил он голос, чтобы испугать тушинцев и заставить проговориться о цели побега.
Но остроносый не смутился, спокойно ответил:
– Филарет послал предупредить: поляки упали духом, караулы не несут, ругаются. Одни под Смоленск тянут, другие – в Калугу… Ударить надо по ним. Без боя побегут…
Он посмотрел на Тухачевского, как будто искал у того поддержки в искренности своих слов. Натолкнувшись на его равнодушный взгляд, он снова обратился к Валуеву:
– Завтра вечером уходят из крепости.
– Всё? – спросил Григорий его.
– Да, – кивнул тот головой.
Григорий потёр руками лицо, разгоняя остатки сна, затем подошёл к перебежчикам, усмехнулся:
– Если соврали – болтаться вам на берёзе! Подсушу, как тряпки!
– Уведи! – приказал он сотнику. – Да крепкую стражу приставь, чтобы не сбежали. Завтра проверим их…
Тухачевский увёл перебежчиков. Вернувшись назад, он спросил Валуева:
– Что делать-то?
– Спать, – сказал Григорий. – Сейчас спать. Теперь поляк никуда не денется. Отдохнём и завтра придавим, здорово придавим!.. Чую, правду говорят перебежчики. Иди спать, Яков!
Тухачевский ушёл. Григорий прошёлся по избе, затем вышел во двор. Подле забора маячили неясные тени караульных.
Ночь была прохладной. Дул сильный ветер, натягивая тучи. Пропели первые петухи. Стало светать.
«Никола вешний позади, а травы нет, – появились у него опять в голове мысли, что донимали днём. – Коней кормить нечем. Припоздала весна, припоздала… Поляка бы не упустить!»
Где-то вдали несильно громыхнул гром, будто сообщал, что вот наконец-то по-настоящему идёт весна. Громыхнул ближе, ещё ближе. От низких, густых чёрно-синих туч, что заволакивали небо, снова стало темнеть. А вот ударило совсем рядом, гулко, раскатисто, и упали первые крупные капли дождя. Затем зашумело, заплескалось, хлынул холодный весенний ливень, стеной накрывая деревню и стан русских.
Григорий заскочил в избу.
«Хорошо-то как!» – стряхивая с мокрой головы воду, радостно подумал он, уверенный в удаче в предстоящем бою…
Роты гусар походным порядком выступили из монастыря и двинулись на запад. За ними заскрипели повозки, гружённые полковым и личным имуществом, и телеги с дворовым барахлом русских, настроенных уйти под Смоленск, к королю. Следом примкнули донские казаки и ещё рота гусар.
Солнце медленно подкатилось к горизонту, густо покраснело и скрылось. Наступили долгие светлые майские сумерки.
Колонна гусар вышла на дорогу, что вела к плотине. И тут ей в тыл, громко крича, ударили стрельцы, чтобы отсечь путь назад к монастырю. Роты отбили нападение и тронулись дальше. Не прошла колонна и версты, как стрельцы снова ударили ей в тыл.
Рудской подозвал к себе Мархотского: «Москва хочет задержать нас здесь до утра! Надо оторваться! Отступаем к реке! Но без паники!»
Отбиваясь от мелких наскоков пехоты Валуева, колонна подошла к реке.
Стало светать. С рассветом упал густой туман. Неширокая река, с узкими бродами и глубокими ямами, в которых весеннее половодье крутило водовороты, казалось, появилась в тумане внезапно.
Гусары и пехотинцы с ходу врубились в леденящую весеннюю воду. И тут всё смешалось. Торопясь переправиться, и вместе с повозками, они проскакивали мимо бродов. Несильное, но коварное течение подхватывало их и сносило куда-то вниз, за сплошную пелену тумана. Оттуда слышались негромкие всплески, крики о помощи и ржание коней…
Мархотский переправился со своими гусарами и подскакал к Рудскому:
– Надо задержать здесь москву!
– Нет времени! Уводи людей от реки: через плотину, на дорогу к Царёву Займищу! Быстрее, быстрее, ротмистр! В этом наше спасение!
Роты спешно направились к плотине, что разделяла надвое обширную болотистую низину. И там, у плотины, головной отряд напоролся на залп пехотинцев Валуева. Сильный огонь стрельцов густо посёк ряды гусар и остановил колонну.
– Вперёд, только вперёд! – завопил Рудской и первым пустил своего скакуна на плотину.
Роты ощетинились копьями и понеслись на стрельцов. Они смяли тех, что стояли у них на пути, ворвались на плотину и под огнём русских пробились на другую сторону плотины. За ними покатились, загромыхали колёсами повозки. Над плотиной поднялся неимоверный шум, брань, выстрелы и вопли.
За плотиной Рудской собрал всех своих воинов. Когда он построил колонну, то увидел перед собой не более трети от полуторатысячного отряда, с которым выступил из монастыря. И он невольно растерялся, со слезами на глазах обвёл взглядом жалкие остатки своего полка.
– Панове, друзья мои, не забудем этот день!.. Припомним всё москве!..
Сильно поредевшее его войско спешно двинулось на запад, чтобы подальше отойти от плотины, пока ещё не совсем рассвело и русские не успели ввести в дело конных. Впереди отряда из предосторожности пустили донских казаков, и те маскировали его под войско Шуйского. Через два дня его полк добрался до Зборовского и соединился с ним.
А Валуев, разгромив поляков, занял Иосифов монастырь и захватил там тушинских бояр вместе с Филаретом. Ростовского митрополита он сразу отправил в Москву. Послал туда же, к государю, от себя с сеунчем князя Тимофея Оболенского-Чернова, который служил у него полковым головой.
Глава 6
Авраамий Палицын
Семён Самсонов уверенно вошёл в переднюю палату царского дворца вместе с Авраамием Палицыным и монастырскими приказчиками. У дверей, ведущих во внутренние покои терема, они остановились перед немецкими алебардщиками. И тут же из боковой клетушки выскочил комнатный дьяк царя Никита и замахал было руками, мол, туда нельзя…
Но Самсонов, ухмыльнувшись, подошёл к нему, похлопал по плечу: «А-а! Никита, здорово!»
И Никита!.. Тот Никита, который не боялся и самого чёрта, – кроме царя, разумеется, – странно заюлил…
Да, и на самом деле было так: над ним Семейка, его друг детства, верховодил когда-то и покровительственный тон взял сейчас тоже.
– Никита, а ну, поди, скажи там!.. Доложи! Как – сам знаешь!
И Никита, грозный царский дьяк Никита, что-то промямлил в ответ своему бывшему дружку, сейчас дьяку Челобитного приказа, и быстренько сбежал от него в государеву палату.
А там, в палате, за письменным столом сидел Василий Шуйский. Тут же были его брат Дмитрий и князь Иван Буйносов-Ростовский.
Перед Шуйским же стоял думный дьяк Василий Янов и зачитывал ему отписки: «Государь, вот вести, что пришли с разных сторон: земля Рязанская снова отложилась. Ляпунов возмутил там всех…»
– Опять Прокопий! – вспылил Шуйский. – Доколь же можно!
– Болотникова ты ему простил, вот он и за старое опять, – с укором в голосе произнёс Буйносов-Ростовский.
Он, стольник, князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский, был на много лет младше своего царственного зятя. Пожалуй, был годен ему в сыновья, но говорил и вёл себя с ним вольно. На что Василий Шуйский смотрел снисходительно, как и на капризы своей юной жены, похожей на брата, вот на него, на князя Ивана. Шуйский с удовольствием сносил капризы милой жены, всячески ублажал её и предавался уже давно забытым семейным радостям после долгого вдовствования во время опалы Годунова, а затем тревожного царствования Расстриги. Да и большие Буйносовы, из ростовских князей, которые уступали по лествице лишь Катырёвым и отдавали им между собой первенство, считали князя Ивана Петровича выше всех. А уж тем паче Пужбольских, самой младшей ветви из тех же самых ростовских князей, из которых был и вот этот дьяк Васька Янов. Да, он, Васька Янов, думный дьяк Разрядного приказа, был Шуйскому Василию по жене родственником. К тому же Шуйский доверял ему и благоволил из-за того, что он участвовал с ним в заговоре против самозванца, Отрепьева Юшки. Когда же Шуйский надумал обзавестись женой и подобрал себе родовитую невесту, в чём не последнее слово сказал и дьяк Васька Янов, собрался он вернуть своего будущего тестя, боярина Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, из Белгородской крепости. Туда же Петра Ивановича перевели из Ливен ещё при Расстриге, когда тот готовился к походу на султана. Расстриге не давал покоя титул непобедимого цесаря и императора, присвоенного им самому себе. И он посылал на южные рубежи государства припасы, оружие и опытных городовых воевод. Но в украинных городах, уже после смерти Расстриги, вспыхнул мятеж во время похода Болотникова. И князь Пётр Иванович был убит там. И на свадьбе дружкой у царицы был её дядя Василий Иванович, младший брат Петра Ивановича. Вскоре тот получил боярство по-родственному, от царя. Но и он пожил недолго. Поэтому Шуйский, чтобы рассеять печали своей любимой жены, приблизил к себе её брата: вот его, князя Ивана. И тот стал частенько околачиваться в думной комнатке царя. Но, в общем-то, он оказался бесполезным, так как советчиком, по малости лет, был никуда не годным…
– Один Зарайск остался тебе верен, – иронически протянул князь Дмитрий исподтишка, но всё же ухмыльнулся.
– Да, – подтвердил дьяк, сделав вид, что не заметил надоевший всем раздор между братьями. – Ляпунов посылал туда своего племянника Федьку: уговаривал Пожарского на измену. Но тот отказал его воровству. А чтобы не дойти до беды с Ляпуновым, Пожарский просит помощь у тебя, государь!
– Послать немедля ратных воеводе, – равнодушно распорядился Шуйский и снова впал в задумчивый вид, похоже, занятый какими-то иными мыслями.
– Уже велено снарядить Глебова со стрельцами, – сказал Янов. – Молви слово, государь! – поклонился он ему, опасаясь его гнева за это самовольство.
Шуйский сухо похвалил за расторопность дьяков Разрядного приказа, всё так же о чём-то думая и рассеянно переводя глаза с одного лица на другое.
– Государь, лазутчики доносят из Калуги: Прокопий-де ссылается грамотами с Вором, – стал дальше зачитывать будничным голосом дьяк те же неприятные известия и так, будто собрал их с умыслом все вместе.
– Узнать и донести! Да пошли туда кого-нибудь! Что – мне думать самому об этом?! – сорвался Шуйский на раздражённый тон.
Он понял уловку дьяка. Тот всегда делает пакости ему вон из-за того молокососа, князя Ваньки Буйносова, каждый раз, когда тот оказывается рядом. Мстит этим, по-родственному, за безнадёжное отставание по местнической лествице от князей Буйносовых.
«Дерутся, всё время дерутся! Даже здесь, при мне!..»
В палату торопливо вошёл Никита и доложил: «Здесь, государь, Самсонов и с ним троицкий келарь!»
Затем, зажав пальцами длинные рукава кафтана, он потянулся в стойке, как дрессированный пёс, чем-то обиженный.
Шуйский недоумённо посмотрел на него: что это с ним такое? Сообразив же, о чём доложил дьяк, он странно подскочил в кресле, как будто собирался взлететь, и выпалил скороговоркой: «Зови, и поскорей! Прими – как полагается!»
Никита вышел из палаты и тут же вернулся с Самсоновым и его спутниками. Те, вступив в палату, поклонились царю.
Неопределённого цвета глаза Шуйского мельком скользнули по Самсонову, перескочили на Палицына и заблестели наигранно добродушной улыбкой.
– Отец Авраамий, как поживает святая обитель?
– Бог дал, понемногу встаём.
– Всё наладится, наладится! – быстро заговорил Шуйский. – Беды тяжкие уже позади! И обещаю – не вернутся! Вот мир снизойдёт на землю, и Троица обогатится нашими дарами!..
Келарь, от природы неулыбчивый и серьёзный, угрюмо взглянул на него и снова поклонился ему.
– Да будет благословенно твоё царство, великий князь! За щедростью государей обитель всегда множилась иноками!
– Да, да, Авраамий! Но сейчас тяжко! Ой, как тяжко живётся Московскому государству! – сокрушённым голосом проговорил Шуйский и от огорчения прихлопнул руками по коленкам. – Что и тебе известно!
– Утихнет рознь великая в народе, коль станет сообща земля, – не уступая ему в разговорчивости, не останавливался Авраамий; он догадался, что хочет Шуйский, и надеялся отделаться от него одним лишь сочувствием. – И опять придут к пастырю заблудшие овцы, пополнится казна твоя, и могуществом прирастёт царство…
Василий согласно промычал что-то, приглядываясь к нему и соображая, как бы приступить к делу, ради которого вытащил его из монастыря.
Авраамий уже разменял свои шесть десятков годин, отпущенных ему свыше. Он был могучего сложения, с длинной жиденькой русой бородкой и, несмотря на полноту, с худым аскетическим лицом. На его высокий лоб постоянно наползала монашеская скуфейка, и так же постоянно он поправлял её. С Василием Шуйским его связывала стародавняя история, ещё по опале Годунова, в ту пору правителя, при царе Фёдоре. Тому уже будет двадцать два годика… Падая под ударами правителя, Шуйские потянули за собой многих мелких людишек, увлекая, как в воронку, и правых, и виноватых, в которую угодил и он, Аверкий, из многочисленного служилого рода Палицыных. Они, Палицыны, вели своё начало от общего предка, который оставил после себя след на поле сражения громадной палицей и выехал из Литвы в Московию два века назад. Он же, в миру Аверкий Иванович, загремел, по недоразумению, с воеводства на Соловки. И там он постригся, ибо в миру ему на пропитание ничего не оставили: его вотчинки и поместья отписали в государеву казну. А через пять зим и лет оказался он в Троице-Сергиевой лавре с другими чернецами из Соловецкого монастыря: укреплять-де послали иссякнувшее в ней благочестие зело обмирщившихся старцев… Ещё Грозный под конец своих преславных лет, когда накатывал по кругу – по местам ежегодного паломничества великих князей, – замучил старцев надоедливыми вопросами, получит ли, сподобится ли его душа благодати, и с царской простотой говаривал, что-де оскудела благочестием Троица: вклады не дают, не пострижётся никто… Потом, как раз то было в первый год великого голода при Годунове, послали Авраамия в Богородицкий Свияжский монастырь, поглощённый экономией Троицким. Служил он там долго строителем, не братом, набрался уму-опыту на казначействе и на других монастырских ставках. А два года назад, как пришёл под Москву второй самозванец, Матюшка-то, вспомнил о нём Шуйский и захотел видеть келарем в Троице: место беспокойное, доля тяжкая, жизнь бессонная… Владения Троицы обширные: двадцать монастырей ходили под ней, две с половиной сотни сел, а деревень и пустошей – не перечесть… Одних только крепостных душ было свыше четырёх десятков тысяч… То же как целое государево войско!.. В сотнях городков и сёл были подворья, с приказчиками… Дело хлопотное, прибыльное, доходы громадные, за сотни тысяч рублей переваливают… Вот и следи за этим с умом да с толком… За всё время осады обители он безвыездно жил в Богоявленском монастыре – Троицком подворье – управлял из него делами обители. Здесь, в Кремле, на подворье, хранились монастырские запасы хлеба, казна и иные богатства, о которых Шуйский и не догадывался даже.
– Отец Авраамий, – искательно заглянул Василий ему в глаза, – государи московские в трудные годины всегда находили поддержку у Живоначальной Троицы. Ещё с тех времён как Бог благословил Сергия на заклад святой обители. И сейчас царство наше в большой нужде: от разорения поляком, смуты несказанной, какой не ведала Русская земля с татарского прихода. Надобность в деньгах и богатствах великая, кои нужны на потребу войска… И я обращаюсь к святой обители за помощью…
Василий Шуйский рано поседел, к своим пятидесяти восьми годам и облысел. Полный, круглолицый и подслеповатый, он часто страдал недомоганиями, верил в предсказания и тайно посещал пророчицу. Та заговаривала его, отводила порчу от дурного глаза и всяких иных напастей… На престол он угодил по иронии судьбы, заброшенный туда исторической суматохой. Не было у него ни царских манер, ни твёрдости характера, ни государственного ума. Мягкий и слезливый, в то же время мстительный и подозрительный, он был опытным интриганом и отличался от многих бояр и князей тем, что хорошо знал разные книжные премудрости.
Шуйский говорил долго, расписывая нужды государства и царской казны. Авраамий же сидел и сосредоточенно кивал головой, словно проникался его бедами.
– Государь, обитель Пресвятой Троицы в великом разорении, – пустился он в объяснения, когда Василий наконец выдохся. – Нет у нас иноков. Триста было – шестеро осталось. Все отдали души праведные за веру православную, истинную, греческого закона, и за Отечество. Плачем мы о них каждый божий день… Тебе доносили, должно, государь, что казна Троицы разорена от воровства казначея Иосифа Девочкина! – повысил он голос, вспомнив строптивого, неуживчивого казначея. – Да и Голохвастова в том вина немалая! – добавил он и протянул руку монастырскому приказчику: «Подай-ка свиток долговой».
– Государь, – обратился он снова к Шуйскому и развернул свиток, – за прошлые годины обитель не раз помогала казной Москве. Царю Борису заимообразно были даны пятнадцать тыщ четыреста рублей на ратных против Расстриги. Безбожник и вор, именуемый Гришкой Отрепьевым, насильно взял тридцать тыщ. Кроме того, двадцать тыщ были даны, – келарь глухо кашлянул и посмотрел на Шуйского, – тебе, государь… Разновременно, на ратные и государевы дела…
– Знаю, знаю, что сейчас об этом говорить! – недовольно поморщился Василий.
– Знамо, государь, а напомнить надобно, ибо то монастырской казне в убыток вышло. И в ней едва ли наберётся на возведение разбитых башен, стен и иных зданий. Да и новый архимандрит Дионисий [18]открыл ворота обители для сирых и калек: и на сей день обитель кормит, поит и одевает столь многих, как не бывало в иные времена.
Василий нетерпеливо завертелся в кресле. Ему не было никакого дела до монастыря и тех убогих, которых призрел и лечит сердобольный Дионисий. Ему нужны были деньги: царская казна была пуста. Платить иноземным наёмникам было нечем. Из Можайска же приходили тревожные вести: под Смоленском готовится войско для соединения с разрозненными полками тушинцев.
– Отец Авраамий, – начал он, – тяжёлые времена для обители миновали не только с помощью небесных сил. Но ворог силён и идёт снова на Москву. Казна же оскудела от великих расходов. Да как не стало племянника нашего – князя Михаила, так иноземец плату затребовал вперёд. И прошу я святую обитель: помочь государству и вере православной! – умоляюще сложил он руки и, казалось, вот-вот готов был встать на колени перед келарем.
Авраамий, почувствовав эту зависимость царя от него, от келаря, внутренне затрепетал, сложил на животе руки и пустился долго, витиевато и красочно говорить, чтобы отказать Шуйскому и в то же время продлить это своё торжество:
– Государь, обитель Сергия сильно обнищала от мора, что явился от тесноты, от скверной воды, от недостатков зелени и корений. В утробах гной пошёл у монастырских, зловонный дух, повсюду язвы. И жутко стало в обители. Лёжа гнили, ещё живые, по келиям – и ратные, и крестьяне… И умирали на дню по двадцать и по тридцать, а потом по пятьдесят и по сто. И множилась смерть от духа людей. И велий храм Пресвятой Богородицы честного и славного Успения наполнился мёртвыми. За могилу давали сперва по рублю за выкоп, по два, потом по четыре и по пять. Но некому было копать, и некому хоронить, и некому успокаивать. И хоронили в одну могилу по десяти, а потом и по двадцати… И померли в осаде Живоначалъной Троицы старцев, и ратных людей побито, и померло своею смертью от осадные немощи слуг, и служебников, и стрельцов, и казаков, и пушкарей, и затинщиков, и галичан, и датошных, и служилых людей две тысячи сто двадцать пять человек, опричь женского пола, недорослей, маломощных и старых…
Авраамий замолчал и посмотрел на Василия.
Тот сидел глубоко в кресле, по-старчески сморщился и плакал. В глазах у него, полных слёз, была видна искренняя скорбь о страданиях троицких сидельцев.
– Хорошо, отец Авраамий, хорошо! – сказал Василий, растроганный до умиления, утёр слёзы платком, который услужливо подал ему дьяк Никита, и громко высморкался. Просветлев лицом, он зябко поёжился, как будто в комнате было свежо, и повторил: – Хорошо!.. Обитель Сергия понесла великую нужду, и надобность в покое у неё немалая…
– Семён, проводи келаря! – строго велел он Самсонову. – А потом зайди – нужен будешь!
Палицын ушёл от царя уверенный в успехе своего визита, думая, что оградил Троицу от разорения, как неоднократно наказывал ему в отписках архимандрит. Келарь знал Шуйского, его чувствительную, слезливую натуру. Но он не предполагал, что тот поплачет, успокоится, отойдёт сердцем, а затем пошлёт в Богоявленский монастырь и в саму обитель дьяков со стрельцами. И те опишут и заберут всё самое ценное, что найдут. И по совету того же дьяка Янова отчеканит Шуйский более лёгкую монету, чтобы выжать из изъятого церковного серебра как можно больше денег для оплаты наёмникам.
Авраамий отписал Дионисию о своём визите к царю. Но его известие не успело дойти до Троицы, как туда с обозом нагрянул Самсонов.
Телеги прогрохотали по брёвнам мостков, вкатились в ворота Водяной башни и остановились у игуменской.
Дьяк перешагнул порог кельи архимандрита и громко поздоровался:
– Здорово, отче!
За ним туда же вошли приказчик и стрелецкий сотник.
– Доброго и тебе здравия, – сдержанно ответил Дионисий.
Самсонов прошёлся по тесной келье, окинул ироническим взглядом скудную обстановку. Затем он достал из-за пазухи грамоту и протянул Дионисию.
– Договорная запись великого князя Василия Ивановича Шуйского! Государь повелел забрать из монастыря деньги, золотые и серебряные кубки, всякие вещицы, что на потребу царской казне годны будут!
Дионисий побледнел, прижал к сердцу руку, опустился на лавочку и тихо пробормотал:
– Это святотатство… Обитель разоряли поляки, а теперь свои – православные… Когда же бог смилостивится и пошлёт нам успокоение?..
Дьяк равнодушно посмотрел на него.
– Это указ государя – и мы его исполним! Где казначей, ключи?.. Ну-ка, Андрюшка, сбегай, сыщи Гурия! – велел он приказчику.
– Не надо, – остановил его архимандрит. – Иноки сходят…
Самсонов принял по описи от казначея деньги, кубки и иконное окладное серебро, приказал погрузить всё на подводы. И обоз под охраной стрельцов покинул стены обители.
Вывозя из Троицкого монастыря казну, дьяк оставил там ропот и возмущение на царя Василия, который подрубил этим сам себе немалую опору.
Глава 7
Клушинское сражение
Для похода на Смоленск Василий Шуйский формировал под Можайском полки. Туда был послан Андрей Голицын со вторым воеводой Данилой Мезецким. На сход с ними из Погорелова Городища пришёл Василий Бутурлин с Григорием Пушкиным. Из Москвы по указу государя с полком выступили сокольничий Гаврило Пушкин и Якоб де ла Гарди. Но до Можайска наёмники де ла Гарди не дошли: они разбили на полпути стан и потребовали у Шуйского выплаты жалованья.
А под Можайском все с нетерпением ждали нового большого воеводу, гадая, кто же им будет. Наконец в начале июня к своей армии прибыл Дмитрий Шуйский и привёз с собой деньги и меха. Часть окладов он отослал де ла Гарди, с условием выдачи остального после соединения всего войска.
Известия о подготовке русских к походу на Смоленск дошли до короля Сигизмунда. И у него в ставке было решено: собрать под началом Жолкевского гусарские полки, раздробленные междоусобицами и разбросанные по разным городам, но представляющие немалую силу. В Вязьме обосновался полк Казановского. Впереди него, прикрывая дальние подступы к Смоленску, в Царёвом Займище укрепился Дуниковский, при нём было семьсот гусар и столько же пахоликов. В Шуйском расположился Зборовский с тремя тысячами тушинцев.
И вот в конце мая Жолкевский выступил из лагеря короля, чтобы создать из полков вольных гусар заслон русским на пути к Смоленску и одновременно освободить гарнизон крепости Белой, которую осаждали наёмники во главе с Эвертом Горном и полком Якова Барятинского. Когда Горн и Барятинский узнали от лазутчиков о движении его войска, они сняли осаду и стали отходить ко Ржеву. Жолкевский послал за ними в погоню из-под Вязьмы полк Млоцкого, придав ему ещё две тысячи казаков Заруцкого. Но стрельцы и шведы бежали так быстро, что гусарам удалось настичь только отставшие отряды. Они частью погромили их, а частью захватили в плен. Подо Ржевом Горн и Барятинский соединились с полком Ивана Хованского и ушли в Можайск. В ответ на этот поход Жолкевского Дмитрий Шуйский послал под Царёво Займище Валуева с ратниками. Валуеву было приказано занять городок и держать его до подхода главных сил. К Царёву Займищу Валуев пришёл с нарядом и двумя тысячами пеших воинов, покрыв скорым маршем сто пятьдесят вёрст от Волока Ламского. На соединение с ним из-под Можайска двинулся Фёдор Елецкий с полутысячей конных. При их приближении к городку Дуниковский оставил его и отступил в Шуйское, к Зборовскому. Через два дня туда же подошёл Жолкевский с двумя тысячами гусар и тоже разбил лагерь неподалёку от Зборовского. Вслед за ним пришли два полка вольных казаков Ивашина и Пясковского.
Устроив стан, Жолкевский вызвал к себе в палатку тлуматского старосту Николая Гербурта, двоюродного брата своей жены, и велел сходить к Зборовскому: переговорить с ним, будет ли тот сражаться под знаменем короля.
От тушинцев Гербурт вернулся ни с чем. Там его даже не стали слушать, а попросту выставили из лагеря.
– Они не намерены воевать. Говорят, король не выплатил обещанное жалованье даже за четверть. Пан Станислав, не советую туда ехать. Гусары не пойдут с вами на коло, чтобы не оскорблять отказом вашу честь.
– Пан гетман, не мешало хотя бы забрать с собой казаков Ивашина, – посоветовал Жолкевскому полковник Николай Струсь.
В таборах вольных казаков осел всякого рода сброд, ищущий лёгкой наживы. В критической ситуации они могли не только подвести, но и были бы опасны.
И Жолкевский резко отказался от них: «Плохо с такими в бою! Оставьте и этих в покое!»
Он свернул лагерь, двинулся в сторону Царёва Займища, но не дошёл до него и приказал разбить новый стан. Сам же он, взяв тысячу всадников, пошёл осмотреть городок и разведать местность.
В это время Валуев, подгоняя воинов, спешно ставил острожек. Он был неутомим, подбадривал, ругал и торопил всех, зная о большой опасности, что накапливалась неподалёку, о которой ему непрерывно доносили дозорные.
Острожек рубили с четырьмя башнями, ставили под прикрытием густого, непроходимого для конницы леса, что вплотную примыкал к острожку слева и позади. Справа от него находилось обширное топкое болото, а перед ним простиралось поросшее яркими луговыми цветами поле. Оно тянулось до самой плотины, которая перегораживала неглубокую, но илистую речушку Сеж. На ней некогда был огромный пруд, сейчас спущенный, за ним раскинулся сам городок Царёво Займище. Наиболее опасный открытый участок перед острожком Валуев велел одёрнуть частоколом из брёвен, а со стороны леса заметать тыном.
Дав этот наказ сотникам, он поехал с Фёдором Елецким в городок. Когда он вернулся назад, вокруг острожка уже высился земляной вал, а впереди него, со стороны поля, зиял глубокий ров. Стрельцы и даточные заканчивали возводить сторожевые башни. Из леса же, покрикивая на лошадей, казаки подтаскивали брёвна. Слышались возбуждённые голоса и громкий перестук топоров.
Григорий осмотрел острожек, работой остался недоволен: по бокам и со стороны леса острожек укрепили слабо. Немного успокаивало то, что успели срубить башни. Они придавали острожку внушительный вид. Но всё равно душа была не на месте. И он, распекая сотников, забегал вокруг острожка, стал тыкать пальцем в их огрехи.
– А это что?! Кто рубил?! Какой…?! Почему так?..
В этот момент к нему подошёл Тухачевский и подтолкнул вперёд служилого:
– Перебежчик от поляков! Говорит, сюда подошёл коронный гетман!
Валуев, невольно обратив внимание на большие мозолистые руки перебежчика, грубо спросил его:
– Кто такой?!
– Из ярославских, сын боярский, – дрогнув голосом, ответил тот.
– За что же ты, дерьмо собачье, поляку продался?!
Перебежчик смолчал, однако глаза не опустил перед хмурым воеводой.
– Где гетман?
– Разбил стан: отсюда вёрст с пятнадцать будет…
В это время со стороны городка послышался крик, и на широкую равнину выскочил всадник. Он быстро покрыл расстояние от плотины до острожка, подлетел к Валуеву и выпалил:
– Поляк идёт! Конные – гусары!
– Ты что караул орёшь, как на майдане! – одёрнул Григорий его и обернулся к Елецкому: – Ну что, князь Фёдор?
Елецкий всё понял и согласно кивнул головой: «Давай!»
– Гони в городок, – приказал Валуев Тухачевскому. – И передай Корнейке, пускай поджигает его к чёртовой матери! Дуй вот с ним! – похлопал он рукой по холке коня боярского сына, прискакавшего с плотины. – И без паники у меня! – погрозил он им кулаком.
Яков вскинулся в седло, сорвал в галоп своего мерина и пошёл к плотине, слыша за собой топот копыт коня и горячее дыхание боярского сына. Они прошли мост и скрылись на другой стороне реки.
Вскоре из городка к небу потянулись клубы дыма. И стрельцы, поджигая за собой избы, отошли за плотину. Маленький городок не успел выгореть, как там, в просветах дыма, показался передовой разъезд гусар. Они погарцевали у русских на виду и исчезли. Вслед за тем к плотине подошёл большой отряд всадников.
Валуев и Елецкий при виде крупной силы неприятеля подняли всех воинов в сёдла и выступили навстречу ему. Конные стрельцы и гусары сошлись на плотине. Стрельцы оттеснили гусар, выбили их за плотину и пустились преследовать их.
– Назад, назад! – вдруг понеслось по рядам русских, увлечённых погоней. – Валуев приказал отходить!.. Назад – к острожку!..
– Григорий, ты что – сдурел?! – подскакал Елецкий к Валуеву. – Гусары бегут! Вперёд, только вперёд!
– Куда?! – вспылил Валуев. – Там же коронный гетман – засада! Побьют, как…!
Валуев знал, что это не простой противник, впереди может быть всякое, поэтому велел разобрать добротный мост через плотину, отрезая острожек от городка.
На следующий день Жолкевский подошёл уже с основным войском к выжженному городку и встал на высотах перед ним. К плотине он выслал пехоту, остальным велел занять позиции на пепелище городка. Полк казаков Заруцкого он расположил подле речки, ниже городка, у самого болота. Ивана Салтыкова и Ураз-Мухаммеда с их воинами он оставил при себе. Не отпускал он также от себя Урусова с его ногайцами. Войско изготовилось к бою, но Жолкевский не спешил отдавать приказ о переходе через плотину.
– Передай пану Струсю и Казановскому: в стычки не ввязываться, – приказал он вестовому. – Стоять, ждать темноты.
Он подозревал, что русские приготовили какую-нибудь хитрость. Они не могли воевать без этого. И он велел наблюдать за местностью около плотины и за ней.
Но разрушенная плотина выглядела обезлюдевшей.
«Это не в их правилах, – решил он. – Они обязательно попытались бы отстоять её».
Вдали, у леса, виднелся острожек. На той же стороне речки, ниже плотины, тянулся густой кустарник. Он закрывал берег и часть луга.
«Вот там я бы и укрыл пехоту. И она ударила бы во фланг наступающим», – подумал он, ставя себя на место Валуева.
– Наблюдать вон за тем кустарником! – распорядился он. – И стоять – на плотину ни шагу!..
Да, действительно, Валуев подготовил Жолкевскому сюрприз, засаду. Два десятка стрельцов сидели в промоинах подле плотины, не менее сотни затаилось в кустарнике.
Время тянулось медленно, до ночи было далеко. Солнце припекало, и стрельцы изнывали от жары и тоски.
Вот один из них подхватил самопал, вылез из промоины, стремительно, как заяц, проскочил к приятелю и плюхнулся рядом с ним.
Стрельцы засмеялись, повеселели, загораясь от его прыти. Вскоре побежали и другие…
– 3убы вышибу, стервецы! – прорычал Валуев и громко выругался, увидев, что стрельцы не выдержали томительной сидки и выдали себя.
Стрельцов в промоинах заметили с польской стороны. Эта засада меняла планы Жолкевского. Он решил очистить плотину от русских ещё до ночи и вызвал к себе Заруцкого.
– Пан Иван, пройди выше плотины и ударь в тыл засаде, – стал он объяснять ему. – Оттуда они не ожидают нападения…
– Добро, пан гетман! – сухо сказал Заруцкий и уехал к своему полку.
Там он отобрал нужных для такого дела казаков. Хоронясь за кустарником, он прошёл с ними к плотине, перебрался на её другую сторону по дну спущенного пруда. Там он собрал в кучу казаков и с криком: «За мной!» – бросился с саблей к промоине, где сидели стрельцы.
Неожиданная атака казаков ошеломила тех… И они побежали в кустарник. За ними устремились казаки. Стрельцы, которые сидели за кустарником, тоже побежали, когда увидели бегущих из промоин своих товарищей, а за ними донских казаков.
– Немедленно выводите за плотину пехоту! – приказал Жолкевский полковнику Вейеру.
За плотиной тем временем поднялась паника, и стрельцы толпой ринулись к острожку.
Валуев чуть не взвыл в бешенстве оттого, что натворила засада, и тут же вывел из острожка пехоту и конницу, чтобы спасти от гибели бегущих.
Трёхтысячное войско русских столкнулось с жолнерами и казаками, стало теснить их к плотине. И те медленно покатились назад.
– Куда, куда?.. Стоять! – заметался по полю Заруцкий.
У плотины всё смешалось. Стрельцы прижали к ней неприятеля и попытались сбросить его в речку. Но жолнеры и донские казаки упёрлись и стояли.
– Пан Николай, немедля наведите мост и перекиньте к ним на помощь гусар! – приказал Жолкевский полковнику Струсю; он опасался, что пехотинцы не выстоят долго.
И на плотину двинулись мастеровые: застучали топоры, замелькали брёвна и доски. Через десяток минут мост был готов, и по нему на ту сторону пошли тяжеловооружённые, закованные в панцири всадники. Они ощетинились копьями и атаковали пехотинцев Валуева. Стрельцы под их ударом сломались и побежали к острожку, а гусары легко настигали их и сшибали, сшибали копьями… На подходе к острожку гусары напоролись на залп полковых пищалей. Их густо осыпало картечью, и они откатились назад.
Валуев воспользовался этим, быстро завёл своих воинов за стены и укрепился.
В свою очередь, свободно почувствовал себя и Жолкевский. Это сражение, непредвиденное, чуть было не обернулось для него большими потерями. Вечером он ушёл назад в свой лагерь. Для охраны же занятой плотины он оставил большой отряд пехоты и конных. На другой день, вернувшись под Царёво Займище, он перешёл плотину, обогнул с войском острожек и раскинул позади него лагерь. Так он отрезал Валуеву путь к отступлению на Можайск. В тот же день к нему подошёл полк Зборовского. В ставку гетмана полковник явился с ротмистрами и у его палатки попросил его поручика доложить о себе.
– Проходите, панове! – пригласил Жолкевский тушинцев, когда они вошли к нему.
Быстро окинув их взглядом, он уловил перемену в их настроении, спросил:
– Что привело вас ко мне?
– Пан гетман, гусары раскаиваются, что оставили вашу милость в трудную минуту, – сообщил ему Зборовский. – Просят забыть размолвку и приглашают на коло!
– Хорошо, панове, я приеду! – заверил Жолкевский тушинцев.
Для встречи с ним гусары собрались на большой лесной поляне и его появление приветствовали громкими криками.
– Панове, – обратился Жолкевский к гусарам, – принимая вашу помощь, я хочу напомнить: его величество обещал платить вам за службу, начиная с ухода от Димитрия. Вперёд он никогда не платил и платить не имеет права. Это выходит за рамки общевойскового соглашения и будет несправедливо по отношению ко всему королевскому войску…
Он прошёлся глазами по рядам гусар.
– Хотелось бы думать, что мы и другое одинаково понимаем с вами… Республика находится в тяжёлом положении… Валахию и Молдавию постоянно грабят набегами турки и крымские татары. На севере в боевой готовности стоят войска шведов. При малейшем ослаблении нашего государства они тут же отторгнут Ливонию. Поэтому, панове, король возлагает в войне с Московией большие надежды на вас, опытных воинов, преданных своей родине! Её же он начал для укрепления могущества нашей с вами родины, Посполитой!..
К себе в ставку он вернулся в хорошем расположении духа.
На военном совете полковых начальников объединённого войска он прямо спросил их, что делать с острожком, что они думают об этом.
– Брать их надо немедленно! – громко заговорил Дуниковский. – Пока напуганы! Окопаются – не выбьем!
Резко повернув голову в его сторону, он посмотрел с вызовом на него, на гетмана, ожидая, как он отреагирует на это предложение.
– Да, русские хорошо дерутся в окопах, – согласился с ним Жолкевский. – В этом пан Дуниковский прав. Но при штурме мы понесём большие потери. Перебежчики говорят, Валуев пришёл с малым запасом. Дня за три всё съедят. Кроме того, мы отрежем их острожками от воды. Вот так, панове, считаю, будет вернее!..
За два дня они построили шесть маленьких острожков и обложили Валуева, как медведя в берлоге: перекрыли ему все пути к воде.
Всё это время Жолкевский интенсивно собирал сведения и о войске Шуйского.
В стан к нему в очередной раз пахолики привели из дозора пленных, по виду – мелких служилых. Те по неопытности забрели далеко от своего войска, да не в ту сторону, и угодили прямо в руки пахоликам.
Их допросили. И они сообщили, что Дмитрий Шуйский только что соединился с наёмным войском де ла Гарди.
После полудня же в стан гетмана прискакал ротмистр Бобовский с гусарами. Они уходили разъездом по Можайской дороге. Вместе с ними прискакали несколько шведов из войска де ла Гарди. Наёмники пробирались под Вязьму. Там, как они слышали, стояли полки короля. И они собирались перекинуться на его сторону, к своему королю Сигизмунду из шведского дома Вазов, и в пути наткнулись на гусар.
У палатки гетмана они спешились.
– Перебежчики, пан гетман! – доложил Бобовский, когда пахолики впустили его в палатку гетмана. – Из войска де ла Гарди. Желают служить его величеству!
– Пусти.
Гусары ввели в палатку наёмников. Тех допросили, и они подтвердили показания русских пленных.
И вот все эти сведения стекались к гетману.
В этот же день Жолкевский собрал всех полковников у себя в ставке, огласил последнюю новость и попросил их высказаться.
– Шуйский не пойдёт на открытое сражение, – заявил Зборовский. – Будет теснить нас острожками…
Его поддержали Струсь и пан Балабан: «Зачем им драться в поле? Они вынудят нас и так уйти!»
– Иван, ты что отмалчиваешься? – спросил Жолкевский своего зятя Даниловича, мужа старшей дочери Софьи.
– Вы хотите услышать мое мнение? Дмитрий Шуйский – не Скопин. На его стороне большой перевес сил, и он не будет осторожничать.
– Да, но попытается, проигрывая, укрепиться! – возразил ему Казановский.
– А вот этого нельзя допустить!..
– Для нас большая помеха – Валуев, – напомнил всем князь Парыцкий. – Уйдём на Шуйского – ударит из острожка!
Жолкевский выслушал всех, подчеркнул позиции полковников:
– Итак, панове, либо укрепляем лагерь и ждём подхода Шуйского. Для проверки боем вышлем передовые отряды. Либо идём навстречу ему и навязываем сражение, когда он этого не ждёт! Господа, о своём решении я сообщу позже. Ждать моего приказа! Полкам и станицам быть готовыми выступить в любую минуту.
Полковники разошлись.
Он же прилёг на походную койку, чтобы отдохнуть перед ночным походом. У него не было сомнения, выступать или нет. В этом его укрепил и совет военачальников. Впереди, до рассвета, предстоял бросок и с марша атака. Он предвидел, что будет тяжёлое, с большими потерями сражение. Нужно будет не только выстоять, но и заставить противника бежать с поля боя.
Он был далеко не молод: ему было уже шестьдесят три года. Однако выглядел он моложаво, был подтянутым, хотя как ни бодрился, а возраст всё равно давал себя знать. Отчасти спасала старая закалка. Да и сейчас, при удобном случае, он садился на коня, не пренебрегал фехтованием и пешей ходьбой. К этому он приучил себя ещё с юности, в немалой степени из-за слабого здоровья.
Он заворочался на походной койке, чувствуя усталость и не в состоянии заснуть. В памяти, будоража, всплывали картины прошлого…
Войско Дмитрия Шуйского выступило из-под Можайска и двинулось на Ржев, чтобы обойти с севера укрепившиеся в городках по Смоленской дороге польские гарнизоны и так выйти к Смоленску. Когда же князю Дмитрию донесли, что Валуева в Царёвом Займище осадил Жолкевский, то он распорядился идти на помощь Валуеву. Войско резко повернуло на юг и двинулось просёлочными дорогами на Царёво Займище. На третий день пути полки Дмитрия Шуйского, измотанные жарой и топкими лесными дорогами, выползли наконец-то из лесной чащи на широкую равнину. Тут, подле леса, стояла какая-то деревушка, совершенно пустая. Задолго до их подхода крестьяне бежали в глухой лес: с женщинами, детьми, скотом и житейским хламом.
Подле этой деревушки, называемой Клушино, как донесли ему, князь Дмитрий и разбил свой лагерь. В утомлённом дневным переходом войске никто не стал возиться с укреплениями. Наспех обнесли рогатками только воеводские шатры да кое-как обозы, и то со стороны, где встали лагерем наёмники.
Вечером к Шуйскому на ужин явился с офицерами де ла Гарди. Удивившись беспечности, с какой русские расположились на ночлег, он осуждающе покачал головой, что-то насмешливо проронил по-шведски, отчего его спутники заухмылялись.
Большой шатёр князя Дмитрия, куда они вошли, весь был выстлан персидскими коврами. Воздух же внутри шатра благоухал ароматом восточных пряностей. Посреди шатра стоял роскошный стол. Подле него выстроились рядком лавки. А в переднем углу, у стола, возвышалось кресло, обитое алым бархатом. В этом кресле сидел Шуйский на подушечке из норников, в небрежно накинутом шёлковом кафтане, украшенном гурмыцким жемчугом[19]. Дородный, с кольцами на руках, среди которых сразу бросался в глаза массивный перстень с редким синим льяником, он походил на средиземноморского сибарита. Немножко нос, однако, подкачал, белее была кожа. К тому же подле кресла, на шестке, болтался сиротливой тряпкой лик православного Николы.
На столе шеренгой выстроились серебряные блюда с пирогами со всякой начинкой, бог знает с чем ещё. Горками лежали огромные куски копчёностей. Здесь же были звенья осетрины, а в ковшиках пузырилась красная и чёрная икра.
Два стольника встречали и рассаживали гостей.
И вот только здесь наконец-то свиделся Гаврило Григорьевич Пушкин со своим братом Григорием, после того как только что наёмники соединились с Шуйским. За стол они уселись вместе.
– Ты что – чесотка напала? – толкнул его в бок Григорий, когда он нервно заскрёб бороду.
Гаврило Григорьевич односложно отговорился: на душе-де скверно.
– Князь Андрей, ты генерала-то угощай! – крикнул Шуйский Голицыну, который сидел на другом конце стола рядом с де ла Гарди. – Для того ведь и посажен!..
К столу подали по чарке водки.
– Якоб Пунтосович, рады ли воины государеву жалованью? – спросил князь Дмитрий генерала.
Он не доверял ему из-за его прошлой близости со Скопиным.
– Веселятся, Дмитрий Иванович! – ответил де ла Гарди. – Поклоны бьют великому московскому князю!
«Врёт, пёс!» – проскользнуло у князя Дмитрия, и он, чтобы скрыть эти свои мысли, с заискивающей улыбкой спросил его:
– Мужество их, стало быть, увидим в сражении, а?
– Искуснее шведских мушкетёров нет в пешем бою! – уверенно заявил де ла Гарди, хотя и уловил в его голосе скрытую неприязнь.
Князь Дмитрий понял, что генерал догадался о его отношении к нему, быстро встал и поднял кубок: «Господа, предлагаю тост за генерала и его офицеров!»
Он выпил вино, поклонился де ла Гарди и снова сел в своё кресло, аккуратно расправив складки шёлкового кафтана.
Де ла Гарди тут же поднесли кубок с вином. И он тоже поднял его за здоровье Шуйского, поклонился ему, но вяло и равнодушно.
Его мысли перескочили на Жолкевского. И у него зародилась шальная затея: написать тому дружескую записку по-русски: иду, мол, на вы! – и отправить с гонцом. Он усмехнулся и оставил эту затею.
Рядом с ним, подвыпив, завозились воеводы.
– Душа моя, Иван Андреевич, ты что горюнишься? – обнял одной рукой Яков Барятинский князя Хованского. – Веселись! С поляком не скоро столкнёмся. Гетману сейчас не до нас!
Князь Иван легонько отстранился от него, и рука Барятинского безвольно упала, как мягкая и толстая плеть.
– Ему хотя бы Валуева взять, – задумчиво обронил Данило Мезецкий, покручивая тонкими, но сильными пальцами кудрявую бородку и не замечая ничего вокруг.
Он, князь Данило, был старшим сыном князя Ивана Мезецкого. А тот-то дослужился даже до боярства при Грозном, был способным в дворцовых и посольских делах. Сам же князь Данило ходил не так давно в любимцах у Бориса Годунова. Он, средних лет, уже полнеющий, был высокий ростом и внешне броский.
– Мы Григория Леонтьевича не отдадим! – пьяно выкрикнул Барятинский и повёл широко руками, словно хотел защитить находящегося сейчас где-то далеко от них Валуева. – Гетмана прижмём – побежит к Смоленску! Ха-ха-ха!
– Якоб Пунтосович, а каков гетман как противник? – поспешно спросил Андрей Голицын генерала, чтобы отвлечь его от того, что происходило в шатре: ему было неловко за своих…
За столом все сразу замолчали и обернулись в сторону генерала.
Де ла Гарди пробежал взглядом по лицам воевод, невольно сравнил подтянутого и подвижного Жолкевского с ними, русскими воеводами: широкими в поясе, бородатыми и от этого выглядевшими дремучими.
– В сражениях ещё никому не удавалось нанести ему урон… Под Валмером в столкновении с польской армией удача отвернулась от шведов, и я попал в плен вместе с генералом Карлом Гилленгиёльмом. И там пробыл два года. Гетман как мог поддерживал меня всё это время. А на прощание, в знак расположения, он подарил мне рысью шубу. Я же собираюсь отдарить его собольей. Как говорят у вас: долг платежом красен!.. Вот я и полагаю, что завтра мы пленим его! Для этого я и приготовил соболью шубу!
В шатре все громко засмеялись.
– Дмитрий Иванович, ты счастливый человек! – с пафосом воскликнул де ла Гарди.
На лице у Шуйского мелькнула самодовольная улыбка.
«Попался, клюнул! На такое-то!» – удивился и мысленно усмехнулся де ла Гарди.
Чтобы не вызывать подозрений у Валуева, на шанцах под острожком жолнеры поделали чучела из веток и конопли. Не стали прекращать они и земляные осадные работы, возились с ними только для видимости. Уходящие с гетманом роты снялись с позиций и присоединились к нему.
Из лагеря полки выступили тихо, без барабанного боя, со свёрнутыми знаменами. Они прошли по Можайской дороге вёрст пятнадцать, свернули на север и двинулись по какой-то глухой лесной дороге. Жолкевский ехал в крытой повозке вслед за полком Януша Парыцкого. За ним шёл гусарский полк Струся. Далее двигался Зборовский с тушинцами, две сотни ногайских татар Урусова. С большой массой конных был Ураз-Мухаммед. Затем шёл отряд Ивана Салтыкова и донские казаки с Заруцким. Позади всех тащились пехотинцы Людвига Вейера с двумя фальконетами и всё больше и больше отставали, чем дальше уходило войско.
Когда наступила короткая июньская ночь, войско прошло более половины пути. Темнота замедлила, но не остановила его продвижение.
На рассвете головной отряд подошёл к опушке леса и остановился.
Жолкевский вылез из повозки, пересел на коня и выехал с полковниками на опушку.
Впереди, на противоположной стороне широкой равнины, лежала деревушка, а подле неё лагерем раскинулись русские полки. Ни вдали, ни вблизи деревушки нигде не было разъездов и не заметно было ни малейшего движения. Только у редких сторожевых костров дремали часовые.
Это было невероятно и настораживало. Казалось, там, где было русское войско, отдыхает какой-то великан: самоуверенный, вызывающий и даже не скрывает своей силы…
И у Жолкевского в груди на мгновение что-то дрогнуло, но только на мгновение. Он отдал команду, и роты стали выходить одна за другой из леса и расползаться по обе стороны дороги так, словно из чащи вытекал поток. Накапливаясь на опушке, он, будто какой-то раствор, стал густеть и кристаллизоваться в строгий порядок. Вскоре все роты выстроились, прикрытые с тыла густым пихтовым лесом. На правом крыле приготовился к бою полк Зборовского. За ним, в боковых и запасных колоннах, расположились полки Дуниковского и Казановского. На левый фланг выдвинулись гусары Николая Струся. За ними встал гетманский полк под началом князя Парыцкого. Он разбился также по двум колоннам. Здесь же, сбоку у кустарника, кучно столпились погребещенские казаки и донцы Заруцкого. И в резерве у него, как ни тасовал Жолкевский своё войско, осталась одна-единственная рота гусар и ногайцы Урусова и касимовцы Ураз-Мухаммеда. Да ещё была горстка русских под началом Ивана Салтыкова, те, которые ушли к Смоленску, к королю, из-под Иосифова монастыря, когда его ещё в мае осаждал Валуев.
По полкам пошли ксендзы, благословляя воинов. Вслед за ними вдоль полков двинулся и сам Жолкевский. Он придирчиво осматривал ряды воинов, тянул время и надеялся, что вот-вот подойдёт с пушками пехота. Медлительность с разворачиванием войска и задержка фальконетов, которые затерялись где-то в лесу, начинали беспокоить его. Он объехал полки и вернулся на левый фланг. Там стояли его роты, его гусары, которых он знал почти поимённо. Это были опытные воины, он верил в них, знал, что они не растеряются, выстоят, как бы ни складывалось дело на поле.
– Ты что не весел, Януш? – крикнул он ротмистру Немчинскому, который торчал в первом ряду гусар. – Сейчас такое пойдёт – только отмахивайся! Глянь на Маскевича!.. Не так ли, поручик? – спросил он молодого, броского, с осанистой выправкой гусара; уже не раз он невольно замечал его на поле боя.
– Пан гетман, он всегда такой, если за ночь накачается не на той кобыле! – задорно откликнулся тот и восторженно закрутил головой, переглядываясь со своими товарищами, польщённый вниманием коронного гетмана.
Гусары заметили улыбку на лице гетмана и дружно захохотали.
Жолкевский выждал, когда утихнет смех, приподнялся на стременах и бросил в ряды воинов:
– Панове, во имя Польши постоим и добудем победу!.. Но, мальчики мои, вы родине живыми нужны!.. Слава гусарам!
Над войском волной покатилось: «Слава, слава!» – провожая Жолкевского.
Он же отвернул в сторону коня, обогнул полки и поднялся на возвышение позади войска, где устроил ставку. Отсюда, с высоты, взору открывалась полностью вся равнина и стан русского войска. Сейчас он был похож на развороченный муравейник. В нём метались всадники и бегали пешие, укрепляли телегами и рогатками лагерь и деревушку. А ближе к их войску стояла ещё одна деревушка, обнесённая длинными плетнями.
– Немедленно убрать их! – приказал он полковнику Струсю. – Сожгите, очистите место для конницы. Если за ними укроется пехота, то наделает беды! Действуйте, действуйте!.. Время теряем! – с сожалением в голосе произнёс он…
В войске Шуйского появление неприятеля оказалось неожиданным для всех. Поднялась суматоха. Воеводы спешно собрали полки и повели их на позиции. Никто не понимал, что происходит. Почему войско гетмана, немногочисленное и компактное, стоит здесь, перед ними, собирается нападать. Но из-за чего-то не делает этого!.. Там, в войске гетмана, как будто что-то выжидали. И этим приводили всех в русском стане в ещё большее замешательство.
Сгоряча, в растерянности, князь Дмитрий поставил в центре всего войска конных и пеших в одном строю. Этим он не укрепил пехоту, но связал маневренность конницы. На левое крыло, против гусар Зборовского, выдвинулась конница Андрея Голицына. На открытом месте, перед деревушкой, она оказалась уязвимой с фланга. Чтобы защитить её, Шуйский распорядился поставить за ней пехоту. На правом же крыле, у де ла Гарди, наоборот, вперёд вышли мушкетёры и засели за плетнями. Как раз напротив полка Струся. А позади них встали конные.
Около семи часов утра над полками гетмана запели трубы и гулко ударили барабаны. Отзвуки этого сигнала к общему наступлению отразились от стены леса и пронеслись над рядами воинов.
И все напряжённо замерли перед битвой…
Первыми в дело вступили гусары Зборовского. Конница Голицына дала по ним залп и стала отходить, чтобы перезарядить пищали. Гусары не дали им сделать это, обрушились на них с копьями наперевес. Конники Голицына повернули вспять, налетели на стоявшие позади них свои же пешие сотни и потоптали их. Те смешались и устремились к своему стану…
Захваченный этим потоком бегущих, князь Дмитрий не успел моргнуть глазом, как оказался в деревушке. И только там он перевёл дух, почувствовав себя в безопасности.
– Гаврило Григорьевич, где Барятинский?! – крикнул он сокольничему, недоумевая, почему тот здесь, а не с наёмниками. – Ах, пёс…, растудыт! Его люди первыми побежали! Найди хоть из-под земли!
– С Барятинским беда – на поле остался! – прохрипел Пушкин, гарцуя на коне в окружении своих холопов.
– Сыскать! И узнай, что у Голицына! Стоит ли?.. Хотя нет, этим займётся Аргамаков!..
В деревушку мало-помалу стали стекаться воины, которые разбежались было по сторонам. Вскоре набралось тысяч пять пеших. Они засели за телегами и стали обороняться от Зборовского. А тот кружил с гусарами вокруг них. Он не решался пешить людей для приступа: боялся больших потерь.
Постепенно для Шуйского начали проясняться последствия первого удара тяжёлой польской конницы. Весь левый фланг его войска оказался смятым. И лишь в центре поля ещё стояла конница Голицына, которую подпирали с правой стороны шведы.
А в это время гусары получили хороший отпор от мушкетёров, когда столкнулись с наёмниками де ла Гарди: те встретили их дружным залпом. Тогда Струсь отвёл свой полк, затем снова бросил его на шведов. Гусары прорвались через проходы в плетнях под градом пуль с двух сторон и тут же столкнулись с конными англичанами и французами. Те ударили навстречу им и выбили их назад. Ещё не раз водил гусар в атаку полковник – и всё безуспешно… Бой за плетни продолжался долго. И каждый раз после наскока гусары откатывались назад с уроном для себя. Положение опасно затягивалось. И Струсь обратился за помощью к гетману.
– Что, он так и не убрал эти чёртовы плетни? – раздражённым встретил Жолкевский вестовых полковника. – Я же приказал ему!..
Он опасался, что русские опомнятся, соберут разбежавшиеся полки и всё пойдёт тогда по-другому. И как только пехотинцы с пушками выползли наконец-то из леса, он тут же послал их к Струсю.
Пушкари вышли на левый фланг, саженей за сто до плетней развернули фальконеты, ударили по плетням картечью. И сразу же туда устремились пехотинцы. Залп картечи накрыл наёмников. Они запаниковали, а когда перед ними появилась смело наступающая польская пехота, то они побежали из-за плетней.
Струсь, теперь уже уверенный в успехе, снова поднял в атаку гусар на конных французов и англичан. Те, под натиском тяжеловооружённых латников, стали отходить к своему лагерю. Не отпуская их, гусары ворвались в их лагерь вслед за ними. Спасаясь от них, наёмники проскочили через свой лагерь и рассыпались в стороны. Вместе со всеми из лагеря бежали де ла Гарди и Горн.
В погоне за ними гусары тоже проскочили через их лагерь. И этим сразу воспользовались три тысячи пеших наёмников, стоявших в стороне, не участвуя в деле. Они заняли опустевший лагерь и приготовились к обороне.
Гусары оправились от азарта погони, вернулись к лагерю наёмников и оказались перед свежими ротами, которые засели за козлами. Взбешённый Струсь кинул на них свой полк и был отброшен залпом из мушкетов.
Сражение шло уже четыре часа. Гусары переломали копья, устали и начали выдыхаться.
Резервов же у Жолкевского не осталось, заменить полки свежими было нечем. Ситуация становилась критической. Он столкнул с поля боя Шуйского, но не получил окончательной победы.
– Мирослав, скачи живо к Струсю! Пусть он пугнёт шведов! – приказал он поручику. – Ложно атакует! Мои роты пойдут справа! Но в бой не ввязываться! Передай ему: надо вынудить их отпасть от Шуйского!
Мирослав и с ним его приятель Любомир ускакали на левый фланг. А роты гетмана обошли деревушку с засевшей там пехотой Шуйского и подступили вплотную к лагерю наёмников. Слева, от леса, туда же придвинулся полк Струся. И они взяли наёмников в клещи. Прошло немного времени, и оттуда, из лагеря, к гусарам стали переходить мушкетёры.
От шведов Мирослав и Любомир вернулись к Жолкевскому с парламентёрами.
– Пан гетман, де ла Гарди и Горн бежали! – сообщил один из парламентёров, кирасир, закованный наглухо в латы. – Командование войском принял полковник Линке. Он предлагает переговоры. Хотел бы обсудить условия, которые удовлетворили бы и наших воинов…
Жолкевский велел Мирославу тут же лететь обратно в стан Линке и привезти условия сдачи наёмников. Мирослав и Любомир снова ускакали к шведам и вскоре вернулись назад. Линке просил у гетмана гарантии безопасности наёмникам и сохранения личного имущества в обмен на то, что они не будут служить ни царю Василию, ни самозванцу, не будут выступать и против короля. Жолкевский быстро оформил договор в письменном виде и отправил посыльных назад к шведам. Линке под присягой подписал договор. За ним его подписали капитаны наёмников…
Русские же, которые оказались в деревушке вместе с князем Дмитрием, укрепились со всех сторон телегами и козлами, стояли в обороне и успешно отбивали мелкие приступы Зборовского. Атаки на деревушку следовали одна за другой и уже длились два часа. Наконец гусары отошли, оставили её в покое.
В середине дня в деревушку прибежали из стана наёмников два шведа. И Гаврило Григорьевич тут же ввалился с ними в избу к Шуйскому, где тот в это время сидел и что-то обсуждал с Боборыкиным и дьяком Алексеем Аргамаковым.
– Дмитрий Иванович, от шведов – гонцы!
– Что ещё?! – паническим голосом вскрикнул князь Дмитрий, увидев растерянное выражение на лице сокольничего. Вид у него был подавленный. Он потерял представление о происходящем на поле боя, не знал, что делать, и готов был ухватиться за любую подсказанную мысль.
– Шведы договариваются с Жолкевским о сдаче!..
На упитанных, обвисших щеках князя Дмитрия выступил болезненный румянец.
– Измена! – взвизгнул он, не дослушав сокольничего. – Где Голицын?! Де ла Гарди где?!
Он густо наморщил лоб, усиленно потёр его рукавом кафтана, успокоился, тяжело вздохнул и попросил Пушкина:
– Гаврило Григорьевич, душечка, спасай дело! Скачи к шведам – не дай измене хода!
– Да как же я один-то! – вырвалось у сокольничего.
– Михайло Фёдорович! – подкатился князь Дмитрий к Боборыкину. – Сделай милость, сотвори потребное государево дело: сходи с Гаврилой Григорьевичем к шведам! Уговорите, напомните, царю-де Василию крест целовали: с литвой биться и в правде стоять!
– Добро, Дмитрий Иванович, добро, – смущённо пробормотал сокольничий; он впервые увидел на лице у князя Дмитрия униженное, просительное выражение. – Сию минуту поскачем!.. Давай, Михаил Фёдорович, торопись! Дело не терпит!
Пушкин и Боборыкин вышли из избы.
– Назарка, где ты, сучий сын? – закричал сокольничий.
– Здесь я, Гаврило Григорьевич! – мгновенно вырос перед ним стремянный.
– Пойдёшь со мной! И быстро, не отставай! Ваську и Федьку захвати!
Сокольничий и Боборыкин вскочили на коней и с горсткой холопов двинулись к стану шведов, с опаской поглядывая по сторонам на разрозненные группы всадников, которые рыскали по полю боя. Они подъехали к стану наёмников, свободно проехали за козлы и скрылись между шатрами.
В это время к Шуйскому прискакали Данило Мезецкий и Григорий Пушкин с тремя сотнями конных боярских детей. За ними подошли ещё две тысячи пеших воинов, которых они перехватили по лесам и болотам и уломали вернуться назад. За Мезецким в укреплённой деревушке появился де ла Гарди с крохотным отрядом шведов, а вслед за ним и Горн. Узнав, что произошло в их отсутствие, они не стали встречаться с Шуйским и сразу ускакали в свой лагерь. Лагерь наёмников был похож на гудящий улей, когда туда вернулся де ла Гарди. Вернулся он взвинченным от своего же малодушного бегства и был на грани срыва. Договор с гетманом взбесил его, и он накинулся с упрёками на воинов:
– Солдаты, заклинаю вашей честью – не срамите себя! Разорвите договор!.. Позор шведам! С кем заключили союз?! Я прошу, требую, приказываю!
– Генерал, ты бросил нас и убежал!
Де ла Гарди вздрогнул, как от пощёчины, побледнел и сорвался на угрозы:
– Я прикажу казнить зачинщиков – за измену! И первым тебя, Линке!
– Ты сам забыл присягу!..
Де ла Гарди и Горна окружили небольшой кучкой верные им солдаты, чтобы защитить от наливающейся гневом массы наёмников.
– Присоединяйся к нам, де ла Гарди! – послышались крики из толпы наёмников. – С Шуйским – пропадём!
– До нас ли ему?!
– Гляди, какой у него обоз-то!.. Отнять!..
Французы кинулись к обозу генералов. К грабежу присоединились и немцы, когда увидели, что добро из обоза уплывает в одни руки. Де ла Гарди двинул на них своих людей, чтобы помешать этому. Но их оттеснили, и солдаты быстро растащили обоз и казну.
Ошарашенный этим Гаврило Григорьевич хотел было ретироваться из стана. Сдержало его присутствие Боборыкина. И он, улучив момент, подъехал к де ла Гарди.
– Якоб Пунтосович, князь Дмитрий напоминает присягу царю Василию!..
Де ла Гарди обернулся к нему и посмотрел сквозь него, похоже, не узнавая его.
Из стана сотнями побежали наёмники. Не скрываясь, они пошли в сторону польских полков. При виде этого де ла Гарди на мгновение замер. Его бледное лицо перекосила гримаса боли. Последняя выдержка покинула его. И он разразился бранью на Шуйских, московских бояр и поляков…
Таким его Гаврило Григорьевич никогда не видел и стушевался…
Известие же об измене наёмников окончательно доконало князя Дмитрия. Он приказал вытащить во двор из избы сундуки, ругался, раздавал холопам тумаки, чтобы быстрее шевелились.
– Вываливай! – грубо толкнул он своего дворового приказчика. – Живо, паршивцы!
Холопы стали опрокидывать сундуки подле крыльца избы, таращились на князя, не понимая, что с ним случилось. Ещё вчера тот, за утерю хотя бы одной из этих вещиц, посадил бы на кол, а сейчас велит выбрасывать в пыль и грязь.
На землю с мелодичным звоном посыпались серебряные и золочёные кубки, братины, блюда и кольца. Стремглав бегая из избы во двор, холопы вытащили мешки с мехами. И сороковки соболей последовали за кубками.
В этот момент во двор влетел на аргамаке Голицын, а за ним сотня боярских детей.
– Дмитрий Иванович, уж не болен ли ты?! – удивлённо уставился он на разбросанное по земле добро, соскочил с коня и подбежал к Шуйскому. – Слышал, как заворовали шведы? Ах, собаки!
– Андрей Васильевич, это конец! Бежать, пока не перекрыли дорогу! Ох, на погибель послал Гаврилу Григорьевича, на погибель!
– Выкрутимся, не впервой! – стал успокаивать его Голицын.
Они переговорили, поняли, что войско теперь не спасти, и быстро приняли решение. Князь Дмитрий тут же приказал сотникам и головам разобрать заслон со стороны леса, поднять всех воинов и уходить из деревушки. Стрельцы начали растаскивать телеги и рогатки, делать проход к отступлению, как тут же раздался истошный вопль: «Воеводы бегут!» И в стане началась паника…
Многотысячная толпа пеших воинов бросила оборону и устремилась в узкий проход, сшибая всё на своём пути. Этот поток подхватил Шуйского с Голицыным и вынес из деревушки. Там он быстро расползся: одни побежали в лес, другие устремились по дороге на Можайск.
Князь Дмитрий вытянул плёткой аргамака и пустил его вскачь. Где-то позади протяжно запела труба, послышался низкий гул идущей в атаку конницы, захлопали редкие мушкетные выстрелы. Он не заметил, когда отстал от него со своими холопами Голицын, который свернул куда-то на лесную тропу. Какое-то время рядом с ним ещё держались чьи-то холопы и стрельцы.
Зборовский же, увидев бегство русских из деревушки, тут же повёл весь свой полк на их позиции. Гусары ворвались в опустевший стан, посыпались с коней и принялись грабить обоз Шуйского. Полковник, поняв уловку русских, заорал на гусар, стал ругаться: «В погоню…!» Он с трудом поднял их опять в сёдла и пошёл вдогон за уходящими конными боярскими детьми. Вслед за ними устремились роты Струся и Дуниковского. И так они гнались ещё вёрст десять за отступающим войском…
В лагере наёмников тоже заметили бегство Шуйского.
Гаврило Григорьевич моментально развернул коня, наддал ему по бокам каблуками и ринулся вперёд с неистовым желанием скорее вырваться на свободу. Кирасиры загородили было ему дорогу, но он сшиб на скаку одного из них и устремился к воротам из стана.
Он выскочил из стана и кинул жеребца к ближайшему кустарнику, который окружал поле боя. Резвый скакун вынес его к лесу раньше погони. На опушке он бросил коня, метнулся по кочкам в густые заросли и скрылся на болоте.
А лагерь наёмников продолжал бурлить. Де ла Гарди и Горн всё ещё пытались справиться с вышедшими из повиновения воинами, когда перед ними появился ротмистр Борковский с гусарами и решительно заявил:
– Гетман требует немедленно выполнить условия договора! В противном случае мы атакуем вас! И уже никто больше не поверит ни единому вашему слову! Обманули московитов, так же собираетесь обмануть и пана гетмана?!
Де ла Гарди смолчал. Он ничего не мог сделать: и сила, и удача были не на его стороне… «Долгоногий трус!» – вспомнил он почему-то язвительный ярлык, каким наградили этого ротмистра наёмники.
– Шуйский бежал! Вы остались одни! И пан гетман не советует вам браться за оружие!..
Де ла Гарди бросил ненавидящий взгляд на сидевшего перед ним на коне надменного польского ротмистра, спрятал глаза за вежливым поклоном.
– Договор Линке я не могу признать!.. И передайте пану Жолкевскому, я прошу его о личной встрече!
– Я донесу до пана гетмана вашу просьбу! – с высокомерной усмешкой произнёс Борковский, снисходительно взирая на потрёпанного шведского генерала…
Прошло немного времени. И к месту встречи, посредине поля битвы, на виду у обоих войск, с двух сторон съехались по три всадника.
Жолкевский и де ла Гарди остановили коней друг против друга. Гетман посмотрел на де ла Гарди, дружелюбно улыбнулся ему, как старому знакомому. Де ла Гарди держался с достоинством, хотя это давалось ему с трудом. Доброжелательная, с лукавинкой, улыбка Жолкевского обезоруживала и, казалось, унижала его.
– Как поживаете, генерал? Мы с вами давно не виделись: тому уж восемь лет.
– Да, пан гетман!
– Зачем вы пришли к Шуйскому, зная, что король собирается походом на Москву? Вы же понимали, что не участвовать в этом предприятии я не мог!
– Пан Станислав, не будем вспоминать прошлое!
– Хорошо, господин генерал! – согласился Жолкевский. – Вы принимаете условия договора?
Чуть раскосые глаза его смотрели на де ла Гарди открыто и в то же время сочувственно. В них сквозила огромная воля и сила ума, подкреплённые богатым жизненным опытом. Играть с ним в прятки было бессмысленно. Ему ли, де ла Гарди, не знать об этом. И он принял его условия. При этом он оговорил, что, мол, воины просят не мешать им проследовать до шведской границы с развёрнутыми знаменами, в полном вооружении. И они хотят также истребовать с царя Василия выслуженное, но не выплаченное им жалованье.
