На музыке. Наука о человеческой одержимости звуком бесплатное чтение
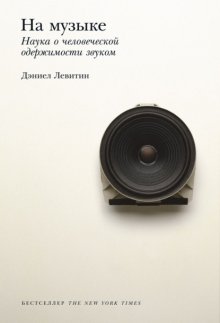
Переводчик Анна Попова
Научные редакторы Ольга Ивашкина, Ксения Торопова
Музыкальный консультант проекта Михаил Нарциссов
Редактор Александр Петров
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта А. Тарасова
Ассистент редакции М. Короченская
Арт-директор Ю. Буга
Корректоры О. Сметанникова, Е. Витько
Компьютерная верстка М. Поташкин
Иллюстрации на обложке Getty Images
Иллюстрации на суперобложке Shutterstock.com
© Daniel J. Levitin, 2006
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2022
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Институт музыкальных инициатив – независимая некоммерческая организация, развивающая музыкальную индустрию в России. Мы работаем и с профессионалами, и с молодыми музыкантами, которые стремятся ими стать. ИМИ сфокусирован на создании инфраструктуры, доступной широкому кругу участников индустрии.
СРЕДИ НАШИХ ПРОЕКТОВ:
● Ежедневные медиа об устройстве музыкальной жизни в России и мире
● Онлайн-сервисы для поиска работы и специалистов
● Образовательные события: вебинары, конференции и не только
● Исследования музыкальной среды
● Издательская программа
Введение
Я люблю музыку и люблю науку – зачем же мешать одно с другим?
Я влюблен в науку, и мне больно видеть, что многие пугаются этого предмета или считают, что раз уж вы выбрали науку, то не можете выбрать еще и сострадание, искусство или благоговение перед природой. Наука нужна не для того, чтобы лишить нас тайны, но чтобы взглянуть на тайну свежим взглядом и наполнить ее новой энергией.
РОБЕРТ САПОЛЬСКИ. ПОЧЕМУ У ЗЕБР НЕ БЫВАЕТ ИНФАРКТА[1]
Летом 1969 года, когда мне было одиннадцать, я купил в местном магазине электроники стереосистему. Она стоила 100 долларов – столько я заработал весной на прополке соседских садов, получая по 75 центов в час. Долгими вечерами в своей комнате я крутил пластинки: Cream, The Rolling Stones, Chicago, Simon and Garfunkel, Бизе, Чайковского, Джорджа Ширинга и саксофониста Бутса Рэндольфа. Я слушал музыку довольно тихо – если сравнивать с тем, как я развлекался в студенческие годы, когда колонки у меня однажды даже загорелись, – но, видимо, родителям она мешала. Моя мать – писательница. Она каждый день работала у себя в кабинете в соседней комнате, а вечером перед ужином целый час играла на пианино. Отец занимался бизнесом. Он трудился по 80 часов в неделю и 40 из них проводил в домашнем кабинете по вечерам и выходным. Как-то раз он обратился ко мне с настоящим деловым предложением: он купит мне наушники, если я пообещаю слушать пластинки только в них, когда он дома. Эти наушники навсегда изменили мое восприятие музыки.
Новые исполнители, которыми я интересовался, тогда только начинали записывать стереозвук. Поскольку колонки моей стодолларовой стереосистемы были не так уж хороши, я не различал всей глубины звука, пока не надел наушники: в них инструменты могли играть, как если бы они находились справа или слева от слушателя, перед ним или за ним, создавая реверберирующее пространство. Так обычные записи песен зазвучали для меня по-настоящему. Новые наушники раскрыли мне мир оттенков звука, палитру нюансов и деталей, выходящих далеко за рамки аккордов, мелодии, текстов песен и голоса того или иного вокалиста. Это и тягучая атмосфера Глубокого Юга в песне “Green River” («Зеленая река») группы Creedence Clearwater Revival, и простая пасторальная красота в песне The Beatles “Mother Nature’s Son” («Дитя матери-природы»), и гобои в Шестой симфонии Бетховена (исполнением которой дирижировал Герберт фон Караян), робко теряющиеся в пространстве большой церкви из камня и дерева… Звук словно обволакивал меня. Благодаря наушникам я стал воспринимать музыку как нечто более личное. Она вдруг заиграла прямо у меня в голове, а не где-то во внешнем мире. Благодаря такому восприятию я и стал звукорежиссером и продюсером.
Спустя много лет Пол Саймон[2] признался мне, что тоже всегда искал в звуке чего-то большего. «Собственные записи я слушаю ради общего звучания, а не ради аккордов или текстов – именно оно создает у меня первое впечатление от музыки».
После того случая, когда в комнате общежития у меня загорелись колонки, я бросил колледж и стал играть в рок-группе. У нас выходило неплохо, мы записывались в 24-канальной студии в Калифорнии с талантливым звукорежиссером Марком Нихэмом, который позднее приложил руку к хитам Криса Айзека, групп Cake и Fleetwood Mac. Марк проникся ко мне симпатией, вероятно потому, что одному мне было интересно подсаживаться к его пульту и слушать, что получилось, в то время как остальных в перерывах между записями больше интересовали наркотики. Марк разговаривал со мной как с продюсером, хотя я тогда еще не знал, кто такие продюсеры, и спрашивал моего мнения о том, как должна звучать группа. Он объяснил мне, насколько сильно на звук влияет микрофон и даже его расположение. Сначала у меня не получалось уловить разницу, но он показал, к чему именно нужно прислушиваться. «Обрати внимание: когда я ставлю микрофон ближе к гитарному усилителю, звук становится полнее, круглее и даже ровнее, а когда я ставлю его подальше, он улавливает звучание комнаты, и звук занимает большее пространство, но при этом теряется часть среднего диапазона».
Наша группа стала довольно известной в Сан-Франциско, и наши записи крутили на местных рок-радиостанциях. Когда коллектив распался – из-за постоянных попыток гитариста совершить самоубийство, а также из-за дурной привычки вокалиста употреблять веселящий газ и резать себя лезвиями, – я стал работать продюсером с другими группами. Я научился слышать то, чего раньше не слышал, – разницу между двумя микрофонами и даже между магнитными пленками разных фирм (у Ampex 456 был характерный глухой тяжелый звук в басах, у Scotch 250 – хрустящие высокие частоты, а у Agfa 467 – такой глянцевый средний диапазон). Поняв, к чему нужно прислушиваться, я мог отличать Ampex от Scotch или Agfa так же легко, как яблоки от груш или апельсинов. Я сотрудничал и с другими замечательными звукорежиссерами, например с Лесли-Энн Джонс (которая работала с Фрэнком Синатрой и Бобби Макферрином), Фредом Катеро (работал с Chicago и Дженис Джоплин) и Джеффри Норманом (работал с Джоном Фогерти[3] и The Grateful Dead). Несмотря на то что я был продюсером, то есть руководил записью, все они меня пугали. Некоторые инженеры разрешали мне следить за их работой с другими исполнителями, например с Heart, Journey, Карлосом Сантаной, Уитни Хьюстон и Аретой Франклин. Мне на всю жизнь могло бы хватить знаний, которые я получил, наблюдая, как они взаимодействуют с артистами и рассказывают о тонких нюансах в гитарной партии или вокальном исполнении. Они обсуждали каждый слог в строчке песни и выбирали один из десятка вариантов исполнения. Они слышали в музыке столько всего! Как им удалось научиться различать то, чего не слышат простые смертные?
Пока я работал с небольшими и еще неизвестными группами, я знакомился с менеджерами студий и звукорежиссерами, и они помогали мне совершенствоваться в своем деле. Как-то раз звукорежиссер не вышел на работу, и я сам смонтировал несколько записей для Карлоса Сантаны. В другой раз замечательный продюсер Сэнди Перлман ушел на обед во время работы с Blue Öyster Cult и попросил меня последить за записью вокала. Словом, одно цеплялось за другое, и так я провел за продюсированием звукозаписи в Калифорнии более десяти лет. В итоге мне посчастливилось иметь дело со многими известными музыкантами. Но, кроме этого, я работал с десятками необыкновенно талантливых артистов, однако не добившихся славы. Я стал задаваться вопросом, почему имена одних музыкантов у всех на слуху, тогда как остальные прозябают в безвестности. Еще я спрашивал себя, почему некоторым музыка как будто дается легко, а другим нет. Как рождается творчество? Почему одни песни трогают нас, а другие оставляют равнодушными? И какую роль во всем этом играет восприятие – сверхъестественная способность великих музыкантов и инженеров слышать те нюансы, которых большинство из нас не различает?
Все эти вопросы заставили меня вернуться к образованию. Во время работы продюсером я два раза в неделю ездил в Стэнфордский университет с Сэнди Перлманом на лекции Карла Прибрама. Оказалось, ответы на некоторые мои вопросы лежат в области нейропсихологии – вопросы о памяти, восприятии, творчестве и том инструменте, который делает все это возможным, – человеческом мозге. Но вместо того, чтобы найти на них ответы, я стал задавать еще больше вопросов, как часто бывает, когда занимаешься наукой. Каждый следующий вопрос по-новому раскрывал понимание сложности музыки, мира и человеческих переживаний. Как отмечает философ Пол Черчленд, человечество пытается понять мир на протяжении большей части известной нам истории. Лишь за последние пару сотен лет благодаря своему любопытству мы разгадали многие тайны природы: осознали структуру пространства и времени, поняли строение материи, обнаружили множество форм энергии, узнали о происхождении Вселенной и постигли природу самой жизни, открыв ДНК и составив полную карту человеческого генома в 2003 году. Но одна тайна до сих пор не разгадана – это тайна человеческого мозга и того, как он порождает мысли и эмоции, надежды и желания, как он чувствует любовь и воспринимает красоту, не говоря уже о таких вещах, как танец, изобразительное искусство, литература и музыка.
Что такое музыка? Откуда она берется? Почему одни последовательности звуков так сильно трогают нас, а другие – лай собак или визг автомобильных тормозов – лишь вызывают дискомфорт? Некоторые из нас посвятили поиску ответов на эти вопросы большую часть своей жизни. Другим же кажется, что разбирать музыку на составные части таким образом – все равно что изучать химическую структуру полотна Гойи, игнорируя само произведение искусства. Оксфордский историк Мартин Кемп указывает на сходство между художниками и учеными. Большинство художников описывают свои работы как эксперименты – отдельные шаги в ряду усилий, направленных на изучение одной проблемы или поиск собственной точки зрения. Мой хороший друг и коллега Уильям Форд Томпсон (специалист по музыкальному восприятию и композитор из Университета Торонто) добавляет, что в работе людей искусства и ученых есть похожие стадии: сначала «мозговой штурм», затем этапы тестирования и внесения уточнений, которые обычно включают заранее определенные процедуры, но при этом сопровождаются творческим решением задач. Студии художников и лаборатории ученых тоже похожи друг на друга, и многие проекты в них развиваются одновременно, находясь на разных стадиях завершенности. И тем и другим требуется специальный инструментарий, а результаты их работы, в отличие, например, от окончательного плана строительства подвесного моста или подведения итогов рабочего дня банковским кассиром, можно интерпретировать по-разному. Что объединяет художников и ученых, так это открытое восприятие и способность осмыслять и переосмыслять результаты своей деятельности. Работа и первых, и вторых в конечном счете заключается в поиске истины, но они понимают, что истина по своей природе изменчива, она зависит от контекста, от точки зрения и то, что сегодня кажется непреложной истиной, завтра будет опровергнуто новыми гипотезами или окажется забытым. Чтобы увидеть пример теорий, получивших широкое распространение, а затем опровергнутых (или, по крайней мере, подвергшихся существенной переоценке), достаточно взглянуть на Пиаже, Фрейда и Скиннера. Точно так же многие музыкальные группы преждевременно оказывались на пьедестале славы: Cheap Trick называли новыми The Beatles, а в «Энциклопедии рока» журнала Rolling Stone группе Adam and the Ants выделили столько же места, сколько и U2. Когда-то люди не могли себе представить, что весь мир не будет повторять имена Пола Стуки, Кристофера Кросса или Мэри Форд. Для художника или музыканта цель создания картины или музыкальной композиции состоит не в том, чтобы изложить буквальную истину, а в том, чтобы показать какую-то грань истины универсальной, которая в случае успеха долго будет пробуждать у людей чувства, несмотря на перемены в обществе и культуре. Ученый создает новую теорию для того, чтобы донести до людей «истину на данный момент», которая заменит прежнюю истину, и при этом он понимает, что рано или поздно его теорию заменит новая «истина», – ведь именно так и развивается наука.
Музыка отличается от других видов человеческой деятельности тем, что она звучит везде и существует очень давно. Ни в одной известной человеческой культуре, ни в древней, ни в современной, недостатка в музыке не было. Среди старейших артефактов, найденных на раскопках поселений человека разумного и его предков, есть костяные флейты и шкуры животных, натянутые на деревянную основу, – барабаны. Музыка звучит всякий раз, когда люди собираются вместе по какому-либо поводу, будь то свадьба, похороны, выпускной, военный парад, спортивные соревнования, городской праздник, молитва, романтический ужин или попытка матери уложить ребенка. Студенты часто занимаются под музыку. И в еще большей степени, чем в современных западных обществах, в неиндустриальных культурах музыка была и остается частью повседневной жизни. Лишь сравнительно недавно – около 500 лет назад – в нашей культуре возникло различие, разделившее общество на две части и сформировавшее отдельные классы исполнителей и слушателей музыки. Во всем мире на протяжении большей части человеческой истории сочинять и исполнять музыку было столь же естественно, как дышать и ходить, и в этом участвовали все. Концертные залы появились всего несколько столетий назад.
Джим Фергюсон, с которым я знаком со школы, сейчас профессор антропологии. Он один из самых веселых и умных людей, кого я знаю, но он настолько застенчив, что я даже не представляю, как ему удается читать лекции. Работая над докторской диссертацией в Гарварде, он проводил исследования в Лесото – маленькой стране, полностью окруженной территорией ЮАР. Там он общался с местными жителями и изучал их культуру, терпеливо завоевывая их доверие, и как-то раз его пригласили присоединиться к исполнению одной из местных песен. Естественно, когда люди народа суто попросили его спеть с ними, Джим тихо ответил: «Я не умею петь», – и это было правдой: в школе мы вместе играли, и, хотя он блестяще исполнял музыку на гобое, попадать в ноты голосом ему не удавалось. Жители деревни не поняли, почему он отказывается, и пришли в замешательство. Суто считают пение обычным повседневным занятием, в котором участвуют все: молодежь и старики, мужчины и женщины, – это не то, что предназначено лишь для немногих избранных.
В нашей же культуре, да и в самом языке, существует различие между мастерами-исполнителями – вроде Артура Рубинштейна, Эллы Фицджеральд, Пола Маккартни – и всеми остальными. Эти остальные платят деньги за то, чтобы послушать музыку, а мастера их развлекают. Джим знал, что он не очень хороший певец и танцор. В его понимании, если бы он стал петь и танцевать прилюдно, это означало бы, что он считает себя мастером. А вот жители африканской деревни уставились на Джима в изумлении: «Что значит “ты не умеешь петь”?! Ты ведь разговариваешь!» Позднее Джим рассказывал мне: «Для них таким же странным показалось бы, скажи я, что не умею ходить или танцевать, несмотря на то что у меня есть две ноги». Пение и танцы были естественным занятием, органично включенным в жизнь каждого человека и вовлекающим всех без исключения. Глагол ho bina в языке суто, как и во многих других языках мира, означает сразу и «петь», и «танцевать». Разницы нет потому, что при пении люди двигаются.
Пару поколений назад, до появления телевидения, многие семьи собирались вместе и музицировали для развлечения. В наши дни большое внимание уделяется технике и мастерству, а также тому, «достаточно ли хорош» музыкант для того, чтобы играть для других. Музицирование стало в нашей культуре занятием для закрытого круга людей, в то время как остальные превратились в слушателей. Музыкальная индустрия – одна из крупнейших в США, в ней заняты сотни тысяч человек. Одни только продажи альбомов приносят 30 млрд долларов в год, и эта цифра не включает доходы от продажи билетов на концерты и гонорары тысяч групп, выступающих по пятницам в барах по всей Северной Америке. Я уже не говорю о 30 млрд песен, которые пользователи интернета скачали бесплатно в 2005 году. Американцы тратят больше денег на музыку, чем на секс и лекарства, отпускаемые по рецепту. Учитывая это ненасытное потребление, я бы сказал, что большинство американцев можно считать экспертами-слушателями. У нас есть когнитивная способность слышать неверные ноты, находить музыку себе по душе, запоминать сотни мелодий и притопывать ногой в такт, а ведь для этого нужно распознавать метр, с чем не справляется большинство компьютеров. Почему мы вообще слушаем музыку и почему готовы тратить на это столько денег? Два билета на концерт запросто могут стоить как недельный запас продуктов на семью из четырех человек, а один компакт-диск – как офисная рубашка, восемь буханок хлеба или сотовая связь на месяц. Понимание того, почему мы любим музыку и что нас в ней привлекает, может раскрыть нам сущность человеческой природы.
Вопросы о базовых и присущих всем людям способностях подразумевают и вопросы об эволюции. Животные развивали определенную физическую форму, реагируя на среду обитания, а те характеристики, которые давали преимущество для размножения, передавались следующему поколению на генетическом уровне.
Тонкость теории Дарвина заключается в том, что живые организмы, будь то растения, вирусы, насекомые или животные, эволюционировали вместе со своим окружением. Иначе говоря, они менялись в ответ на изменения мира, а тот, в свою очередь, меняется, реагируя на эволюцию организмов. Если у какого-то вида развивается защитный механизм, который не подпускает к нему определенного хищника, то этот хищник вынужден либо создать средство для преодоления защиты, либо найти другой источник пищи. Естественный отбор – это гонка вооружений в области морфологии живых существ, изменения, которые позволяют не отстать от соперника.
Относительно новая область науки – эволюционная психология – расширяет понятие эволюции, включив в нее, помимо физической, еще и ментальную сферу. Мой наставник в Стэнфордском университете, когнитивный психолог Роджер Шепард, отмечает, что не только наше тело, но и наш разум является продуктом миллионов лет эволюции. Наши модели мышления, наша предрасположенность решать задачи определенным образом, наше сенсорное восприятие, например способность видеть цвет (и различать цвета), – все это результат эволюции. Шепард развивает мысль еще дальше: человеческий разум эволюционировал вместе с физическим миром, подстраиваясь под постоянно меняющиеся условия. Трое учеников Шепарда – Леда Космидес и Джон Туби из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, а также Джеффри Миллер из Университета Нью-Мексико – стали ведущими исследователями в этой области. Они полагают, что можно многое узнать о человеческом поведении, изучая эволюцию разума. Какую функцию выполняла музыка в процессе развития человечества? Конечно, музыка, которую играли 50 000 или 100 000 лет назад, сильно отличается от произведений Бетховена, Эминема или Van Halen. По мере развития человеческого мозга изменялась и музыка – та, которую он был способен исполнять, и та, которую он хотел слышать. Может, в нашем мозгу сформировались определенные области или связи, предназначенные исключительно для ее создания и прослушивания?
Вопреки старому упрощенному представлению о том, что за музыку и прочее искусство отвечает правое полушарие мозга, тогда как языком и математикой занимается левое, недавние открытия, мои и моих коллег, показывают, что музыка задействует весь мозг. В ходе исследований людей с повреждениями мозга мы наблюдали пациентов, которые утратили способность читать газеты, но по-прежнему могут читать ноты, а также тех, кто играет на фортепиано, но при этом не в силах застегнуть на себе кардиган. Прослушивание, исполнение и сочинение музыки задействуют все идентифицированные наукой области мозга, а также почти все нейрональные подсистемы. Может ли этот факт служить подтверждением мнения о том, что прослушивание музыки всесторонне развивает наш мозг, а прослушивание Моцарта по 20 минут в день делает нас умнее?
Свойство музыки пробуждать у нас эмоции используют маркетологи, кинематографисты, военачальники и матери. Рекламщики с ее помощью делают те или иные кроссовки, газировку, пиво или машину более привлекательными, чем у конкурентов. Режиссеры – сообщают зрителю, какие эмоции он должен испытывать при просмотре сцены, которая иначе могла бы показаться двусмысленной, или усиливают его чувства в особенно драматические моменты. Представьте себе типичный эпизод погони в боевике или сцену, где одинокая женщина поднимается по лестнице в старинном темном особняке: музыка используется для манипулирования нашими эмоциями, а мы, как правило, поддаемся этому и даже порой наслаждаемся тем, что она заставляет нас испытывать разные чувства. Матери во все времена успокаивали детей тихим пением, помогая заснуть или отвлекая от того, из-за чего они плачут.
Часто люди, любящие музыку, утверждают, что ничего о ней не знают. Я обнаружил, что многие из моих коллег, изучающих сложные серьезные темы вроде нейрохимии или психофармакологии, ощущают себя недостаточно подготовленными для исследований в области нейробиологии музыки. И кто может их в этом винить? Музыкальная теория содержит массу сложных терминов и правил, столь же неясных, как самые запутанные разделы математики. Для немузыканта чернильные кружочки на бумаге, которые мы называем нотами, значат не больше, чем условные знаки математической теории множеств. Разговоры о тональностях, каденциях, модуляциях и транспонировании кому-то кажутся совершенно непостижимыми.
И все же любой из моих коллег, которого пугает музыкальный жаргон, легко может рассказать мне, что он сам любит слушать. Мой друг Норман Уайт – мировой авторитет в исследованиях гиппокампа у крыс, а также их способности запоминать места, где они уже были. Он большой поклонник джаза и со знанием дела рассказывает о своих любимых исполнителях. Еще он способен мгновенно отличить игру Дюка Эллингтона от игры Каунта Бейси, а раннее творчество Луи Армстронга от позднего. У Нормана нет никаких познаний в теории музыки – он может сказать, что ему нравится та или иная песня, но не знает, какие в ней аккорды. Однако в том, что ему по душе, он прекрасно разбирается. И, конечно, в этом нет ничего необычного. Многие из нас обладают практическими знаниями о том, что нам нравится, и могут рассказать о своих предпочтениях, не обладая при этом экспертными техническими знаниями. Например, мне нравится шоколадное пирожное в одном ресторане, куда я часто хожу, и не нравится шоколадное пирожное в соседнем кафе. Но проанализировать состав и способ приготовления этого пирожного, то есть разложить свои вкусовые ощущения на составляющие и описать, в каком из них чувствуется какая мукá, какой кулинарный жир или сорт шоколада, мог бы только шеф-повар.
Очень жаль, что профессиональные жаргонизмы, которыми то и дело бросаются исполнители, теоретики музыки и ученые-когнитивисты, отпугивают стольких людей. Ведь специализированная лексика есть в любой области (попытайтесь, например, понять каждое слово в общем анализе крови). Но в области музыки специалисты и ученые могли бы сделать свою работу более доступной. Именно этого я и пытался добиться в своей книге. Неестественный разрыв, возникший между исполнением и прослушиванием музыки, к тому же разделяет тех, кто с удовольствием слушает музыку (и кому нравится о ней говорить), и тех, кто исследует, как она устроена.
Студенты часто признаются мне, что любят жизнь и ее загадки, но боятся, что избыток знаний лишит их простых радостей жизни. Студенты Роберта Сапольски, вероятно, признавались ему в том же, да я и сам тревожился о подобных вещах в 1979 году, когда переехал в Бостон учиться в музыкальном колледже Беркли. Что, если я применю в изучении музыки научный подход и лишу ее тайн? Что, если я обрету столько знаний о ней, что она перестанет меня радовать?
Однако я по-прежнему получаю от музыки столько же удовольствия, как тогда, когда отец купил мне те наушники с объемным звуком. И чем больше я узнавал о музыке и науке, тем увлекательнее было ими заниматься и тем больше я ценил людей, которые в них действительно разбираются. За многие годы и музыка, и наука стали для меня увлекательным приключением, каждый раз вызывающим новые ощущения. Они не перестают изумлять и радовать меня. Оказывается, наука и музыка не так уж плохо сочетаются.
Эта книга посвящена объяснению музыки с точки зрения когнитивной нейронауки – области на пересечении психологии и неврологии. Я расскажу о некоторых новейших исследованиях, проведенных мной и другими учеными, о музыке, о ее значении и о том удовольствии, которое она приносит. Все это дает новое понимание глубоких вопросов. Если все мы слышим музыку по-разному, то как объяснить тот факт, что многие произведения трогают сердца стольких слушателей, например «Мессия» Генделя или “Vincent/Starry Starry Night” («Винсент, или Звездная-звездная ночь») Дона Маклина? А если мы, наоборот, слышим музыку одинаково, то как объяснить огромные различия во вкусах: почему для одного Моцарт – то же, что для другого Мадонна?
В последние годы мы многое узнали о нашем разуме благодаря невероятным открытиям нейробиологии и новым подходам в психологии, новейшим технологиям визуализации мозга, веществам, воздействующим на нейротрансмиттеры вроде дофамина и серотонина, а также старому доброму научному поиску. Менее известны выдающиеся достижения в моделировании сетей нейронов, которых мы добились благодаря революционному развитию компьютерных технологий. Мы еще никогда не подходили так близко к пониманию вычислительных систем нашего мозга. Теперь мы знаем, что способность к языку заложена в нашем мозге на нейрональном уровне. Даже само сознание уже не столь безнадежно окутано туманом неизвестности, а скорее представляется чем-то, что возникает из физических систем, за которыми стало возможно наблюдать. Но никто до сих пор не сводил эти исследования вместе, чтобы понять природу самой прекрасной человеческой одержимости. Изучение того, как музыка воздействует на мозг, поможет понять глубочайшие тайны человеческой природы. Вот почему я написал эту книгу. Она адресована широкому кругу читателей, а не только моим коллегам, так что я постарался упростить темы ровно настолько, чтобы не упрощать их чрезмерно. Все исследования, описанные здесь, проверены рецензентами и опубликованы в авторитетных журналах. Полную информацию об этих работах можно найти в примечаниях в конце книги.
Если мы лучше поймем, что такое музыка и откуда она берется, мы придем к более полному пониманию своих мотивов, страхов, желаний, воспоминаний и даже коммуникации в самом широком смысле. Может быть, прослушивание музыки подобно приему пищи, когда мы голодны, и таким образом удовлетворяет некую потребность? Или, скорее, она дает нам то же, что красивый закат или массаж спины, – стимулирует центр удовольствия в мозге? Почему с возрастом люди по большей части не меняют своих музыкальных пристрастий и перестают экспериментировать с новой музыкой?
Эта книга – история о том, как мозг и музыка эволюционировали вместе, о том, что музыка может рассказать нам о мозге, а мозг – о музыке, и о том, что с их помощью мы узнаём о самих себе.
1
Что такое музыка?
От высоты звука к тембру
Что такое музыка? В сознании многих это творения великих мастеров: Бетховена, Дебюсси, Моцарта и т. д. Для других музыка – это Баста Раймс, Доктор Дре и Моби. В понимании одного из моих преподавателей по классу саксофона в музыкальном колледже Беркли – и легионов поклонников традиционного джаза – все, созданное до 1940-го или после 1960-го, не является музыкой вообще. В шестидесятые, годы моего детства, у меня были друзья, которые приходили ко мне домой послушать The Monkees, потому что родители запрещали им все, кроме классической музыки. Встречались и такие, кому разрешалось слушать и петь только религиозные гимны. Родители и тех и других страшились «опасных» ритмов рок-н-ролла. В 1965 году, когда Боб Дилан на Ньюпортском фолк-фестивале осмелился заиграть на электрогитаре, люди стали уходить, а многие из оставшихся освистали его. Католическая церковь запрещала полифоническую музыку (то есть такую, где несколько музыкальных партий звучат одновременно), опасаясь, что из-за нее люди усомнятся в единстве Господа. Еще церковь запретила увеличенную кварту – музыкальный интервал, например, между нотами си и фа-диез, также известный как тритон (в «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна Тони поет имя Мария с этим интервалом). Увеличенная кварта казалась настолько диссонансной, что была признана творением Люцифера, и церковь назвала ее Diabolus in musica. Высота исполняемых звуков могла привести средневековую церковь в смятение. А Дилана освистали из-за тембра электрогитары. Африканские ритмы, таившиеся в рок-музыке, пугали белых родителей из пригородов – вероятно, они боялись, как бы те не ввергли их невинных детей в состояние транса, влияющее на сознание. Итак, что же такое ритм, высота звука и тембр? Это лишь способы описания технических аспектов песни или у них есть более глубокая нейробиологическая основа? Все ли они необходимы?
Музыка авангардных композиторов, таких как Франсис Домон, Робер Нормандо или Пьер Шеффер, расширяет границы того, что большинство из нас считает музыкой. Выходя за рамки мелодии и гармонии и даже освобождаясь от музыкальных инструментов, эти композиторы используют звуки окружающих нас объектов вроде отбойных молотков, поездов и водопадов. Авангардисты редактируют записи, экспериментируют с высотой нот и в конечном итоге создают звуковые коллажи с той же эмоциональной траекторией – переходами от напряжения к разрешению, что и у традиционной музыки. Такие композиторы подобны художникам, вышедшим за пределы репрезентативного и реалистического искусства: кубистам, дадаистам и многим другим, от Пикассо до Кандинского и Мондриана.
Какие важные принципы объединяют музыку Баха, Depeche Mode и Джона Кейджа? Что на самом базовом уровне отличает песню “What’s It Gonna Be?!” («Что же получится?!») Басты Раймса или Патетическую сонату Бетховена, скажем, от звуков, которые можно услышать, стоя посреди Таймс-сквер или где-нибудь в тропическом лесу? Как выразился композитор Эдгар Варез, «музыка – это организованный звук».
В своей книге я попробую взглянуть с позиции нейропсихологии на то, как музыка влияет на наш мозг, разум, мысли и дух. Но сначала полезно будет изучить, из чего она сделана. Каковы ее составные части? И как организовать их так, чтобы получилась музыка? Основными элементами любого звука являются громкость, высота, мелодический контур, длительность, ритм, темп, тембр, пространственное расположение и реверберация. Наш мозг упорядочивает эти базовые атрибуты восприятия в концепции более высокого уровня (подобно тому как художник располагает линии, чтобы получить определенные формы) – к ним относятся метр, гармония и мелодия. Когда мы слушаем музыку, на самом деле мы воспринимаем множество таких атрибутов, или «измерений».
Прежде чем перейти к процессам, происходящим в мозге, я хотел бы дать определение музыкальным терминам, вкратце рассмотреть основные понятия в теории музыки и проиллюстрировать их примерами (музыканты могут бегло пролистать или вообще пропустить главу). И для начала вот вам краткий конспект с основными терминами.
● Высота звука – это чисто психологический конструкт, связанный как с фактической частотой колебания, так и с относительным положением ноты на нотном стане. Понятие о высоте дает ответ на вопрос: «Что за нота сейчас звучит?» (например: «Это до-диез»). О частоте звука и нотном стане я скажу чуть ниже. Если трубач сыграет на своем инструменте один-единственный звук, то получится определенная нота, или с научной точки зрения определенный тон. Эти два термина – тон и нота – обозначают одну и ту же абстрактную сущность, и мы с вами в основном будем называть тоном и нотой то, что слышим, и только нотой – то, что пишем на нотном стане. В детских песенках “Mary Had a Little Lamb” («У Мэри был маленький ягненок») и “Are You Sleeping?” («Спишь ли ты?») первые семь нот отличаются только высотой, а ритм там одинаковый. Это показывает, что мы определяем мелодию или песню как раз по высоте ее нот – одной из основных составляющих музыкального звука.
● Ритм определяет длительность нот и то, как они соединяются в такты. Например, в песенке “Alphabet Song” («Английский алфавит») и точно так же в песне “Twinkle, Twinkle Little Star” («Сияй, сияй, звездочка») первые шесть нот мелодии одинаковы по длительности, на них приходятся буквы A, B, C, D, E и F, а нота для буквы G тянется в два раза дольше. Затем мы возвращаемся к прежней длительности, пропеваем ноты для букв H, I, J и K, а следующие четыре буквы поются нотами вдвое меньшей длительности, то есть в два раза быстрее: L, M, N, O, – а потом мы снова как бы останавливаемся на букве P (из-за чего многие поколения школьников первые несколько месяцев думают, что в английском алфавите есть буква «элэмэноу»). В песне “Barbara Ann” («Барбара Энн») группы The Beach Boys первые семь нот поются на одной и той же высоте, меняется только ритм. Кстати, следующие семь нот мелодии тоже поются на одной высоте, а к партии Дина Торренса (из дуэта Jan & Dean) присоединяются другие голоса, гармонично исполняющие другие ноты. У The Beatles тоже есть несколько песен, где высота тона остается постоянной, но на нескольких нотах меняется ритм: это первые четыре ноты песни “Come Together” («Соберемся»), шесть нот песни “Hard Day’s Night” («Вечер трудного дня») после фразы «It’s been a…» и первые шесть нот песни “Something” («Что-то»).
● Темп определяет общую скорость произведения. Когда вы притопываете, танцуете или шагаете под музыку, темп – это то, насколько быстро или медленно вы выполняете движения.
● Мелодический контур – это общий ход мелодии вверх и вниз, последовательность повышений и понижений тона (без учета того, насколько именно он повышается или понижается).
● Тембр определяет различие между инструментами, например между трубой и фортепиано, когда на них исполняют одну и ту же ноту. Это своего рода тональный окрас, который отчасти создают обертоны от колебаний инструмента (подробнее о них я расскажу ниже). По тембру могут отличаться и звуки одного и того же инструмента в разных частях его диапазона: скажем, теплый бархатный звук трубы на низких нотах и тонкий пронзительный – на самой высокой.
● Громкость – чисто психологический конструкт, который описывает (причем нелинейно и не до конца понятным образом), как много энергии производит инструмент во время игры, то есть сколько воздуха он колеблет, – специалист по акустике назвал бы это амплитудой тона.
● Реверберация характеризует наше восприятие того, насколько далеко от нас находится источник звука и какова величина комнаты или зала. Непрофессионалы чаще называют это явление эхом или отражением звука. По реверберации отличаются, например, исполнение музыки в большом концертном зале и пение в дýше. Значение реверберации в передаче эмоций и создании приятного впечатления от музыки, как правило, недооценивают.
Психофизики – ученые, которые исследуют способы взаимодействия мозга с физическим миром, – показали, что все эти свойства звука разделяемы. Любое из них в музыке меняется независимо от других, а значит, восприятие каждого можно изучить отдельно. Я способен изменить в песне высоту тона, не меняя при этом ритма, или исполнить мелодию на другом инструменте – тогда тембр будет другим, а длительность и высота нот останутся прежними. Музыка отличается от случайного или неупорядоченного набора звуков тем, как сочетаются эти фундаментальные свойства и какие отношения формируются между ними. Когда они объединяются и образуют значимые связи друг с другом, рождаются понятия более высокого порядка, такие как метр, тональность и гармония.
● Понятие о метре формируется в нашем мозгу, когда он извлекает из музыки информацию о ритме и громкости звуков, а также о том, какой ритмический рисунок они образуют во времени. Метр вальса объединяет звуки по три, а метр марша – по два или по четыре.
● Тональность описывает иерархию тонов по их значению для каждого музыкального произведения. Эта иерархия существует только в нашем сознании как одна из функций восприятия наряду с понятием о музыкальных стилях и идиомах, а также с ментальными схемами, которые мы развиваем в себе для восприятия музыки.
● Мелодия – это главная тема музыкального произведения, та его часть, которой мы подпеваем, та последовательность тонов, которая наиболее четко воспринимается сознанием. Понятие мелодии различно в разных жанрах. В рок-музыке обычно есть мелодия куплета и мелодия припева, и куплеты отделяются друг от друга сменой стихов, а иногда и инструментовки. В классической музыке мелодия служит композитору отправной точкой для создания вариаций, и на протяжении всего произведения одна и та же мелодия может использоваться в разных формах.
● Гармония определяет отношения разных тонов по высоте, а также контексты, которые эти тона задают, и в конечном итоге рождает у слушателя ожидания относительно того, куда произведение пойдет дальше, чем оно разрешится, – умелый композитор либо оправдывает, либо обманывает эти ожидания в художественных и выразительных целях. Гармония может определять отношение параллельной мелодии к основной (например, когда вокалисты поют на два голоса), а также последовательность аккордов – сочетаний нот, образующих контекст и фон для мелодии.
Все эти понятия мы еще рассмотрим подробнее.
Идея объединения простых элементов для создания искусства и понимание важности отношений между ними существуют и в изобразительном искусстве, и в танце. К основным элементам зрительного восприятия относятся цвет (который сам по себе можно разложить на три измерения: оттенок, насыщенность и светлота), яркость, расположение в пространстве, текстура и форма. Но картина – это нечто большее, чем набор расположенных в разных местах линий или красное пятно с одной стороны и синее – с другой. То, что превращает набор линий и цветов в искусство, – это взаимосвязь между ними, это то, как один цвет или форма перекликается с другим цветом или формой в другой части холста. Мазки краски и линии превращаются в искусство, когда форму и траекторию движения нашего взгляда по холсту задает сочетание элементов восприятия более низкого уровня. Когда они сочетаются гармонично, то порождают перспективу, передний и задний планы, а в конечном счете эмоции и другие атрибуты эстетического восприятия. Точно так же танец – это не просто бушующее море случайных движений тела; их связь друг с другом как раз и есть то, что создает целостность, согласованность и единство, которые мозг обрабатывает на более высоком уровне. И, как и в изобразительном искусстве, в музыке важно не только то, какие ноты звучат, но и то, какие не звучат. Майлз Дэвис привел прекрасное сравнение своей импровизационной техники с работой Пикассо: самым важным аспектом их искусства, по мнению обоих творцов, служат не сами объекты, а пространство между ними. Майлз считал важнейшей частью своих сольных партий пустое пространство между нотами, заполняющий его «воздух». Отличительная черта гения Дэвиса состоит в том, чтобы точно знать, когда именно сыграть следующую ноту, и дать слушателю время насладиться предвкушением. Это особенно заметно в его альбоме Kind of Blue («Что-то вроде грусти»).
Такие слова, как диатоника, каденция или даже тональность и высота звука, создают для немузыкантов лишние барьеры в восприятии. Музыканты и критики словно прячутся за завесой претенциозных технических терминов. Сколько раз вам доводилось читать отзыв о концерте в газете и ловить себя на том, что вы не имеете ни малейшего представления о том, что там написано? «Ее устойчивую апподжиатуру испортила неспособность завершить руладу». Или: «Поверить не могу, что они перешли в до-диез минор! Какая нелепость!» Что нам действительно хочется знать, так это то, была ли музыка исполнена достаточно трогательно и удалось ли солистке вжиться в роль, когда она исполняла партию. Возможно, вам захочется, чтобы рецензент сравнил сегодняшнее исполнение концерта со вчерашним или с тем, как то же произведение играл другой ансамбль. Обычно нас интересует сама музыка, а не технические приемы, которые в ней использовались. Нам бы вряд ли понравилось, если бы ресторанный критик стал рассуждать о том, при какой температуре шеф-повар наливает лимонный сок в голландский соус, или если бы кинокритик говорил об апертуре объектива, использованного оператором. В музыке такое тоже неуместно.
Кроме того, люди, исследующие музыку, даже музыковеды и ученые, расходятся во мнениях относительно того, что подразумевается под некоторыми из этих терминов. Например, словом «тембр» мы обозначаем общее звучание, или тональный окрас, инструмента – неопределенный признак, благодаря которому мы отличаем трубу от кларнета, когда они играют одну и ту же ноту, или свой голос от голоса Брэда Питта, произносящего те же слова. Однако научное сообщество, так и не сумев прийти к согласию в этом вопросе, в итоге приняло необычное решение – сдаться и определить, чем тембр не является. (Официальное определение, данное Американским акустическим обществом, состоит в том, что тембр – характеристика звука, не связанная с его громкостью и высотой. Вот вам и научная точность!)
Что такое высота звука и откуда она берется? Попытки ответить на этот вопрос породили сотни научных статей и экспериментов. Почти каждый из нас, даже не имея музыкального образования, способен определить, когда вокалистка фальшивит. Может, мы и не скажем, завышает она или занижает и на сколько, но с пяти лет у большинства людей развивается умение точно распознавать звуки, которые не попадают в ноту, и различать интонации обвинения и вопроса (в английском языке для вопроса характерно повышение тона, а для обвинения – ровный тон или нисходящая интонация). Это происходит благодаря воздействию на нас музыки и физики звука. То, что мы называем высотой, связано с частотой, или скоростью, колебаний струны, воздушного столба или другого физического источника звука. Если струна колеблется так, что совершает движения туда и обратно 60 раз за одну секунду, то частота ее колебаний равна 60 циклам в секунду – их обычно называют герцами, сокращенно Гц, в честь Генриха Герца, немецкого физика, которому первым удалось осуществить передачу радиоволн. Говорят, он был теоретиком до мозга костей, и, когда его спросили, какое практическое применение могут иметь радиоволны, он якобы пожал плечами и ответил: «Никакого». Если бы вы попытались сымитировать звук пожарной сирены, ваш голос то и дело менял бы высоту звука, или частоту колебаний (благодаря изменению напряжения голосовых связок), от высоких звуков к низким и обратно.
Клавиши в левой части фортепианной клавиатуры задействуют молоточки, ударяющие по более длинным и толстым струнам, которые колеблются относительно медленно. Клавиши в правой части связаны с молоточками, которые бьют по более коротким и тонким струнам – они колеблются с большей частотой. Вибрирующая струна смещает молекулы воздуха, и те начинают колебаться с той же частотой, что и струна. Колеблющиеся молекулы воздуха достигают барабанной перепонки и заставляют ее колебаться с той же частотой. Вся информация, которую получает наш мозг о высоте звука, заключается в частоте колебаний барабанной перепонки. Наше внутреннее ухо и мозг анализируют ее движение и определяют, какие колебания во внешнем мире стали причиной этого. Я упомянул лишь колебания воздуха, но на самом деле колеблются и другие молекулы – мы можем услышать музыку под водой и в иных жидкостях, если их молекулы колеблются. А в вакууме, где нет вещества, нет и звука. (В следующий раз, когда вы будете смотреть Star Trek («Звездный путь»), обратите внимание на рев двигателей в открытом космосе, – это отличный повод написать создателям игры «Трекки Тривиа», основанной на каверзных вопросах о сериале.)
Мы условились называть звуки, которые возникают при нажатии клавиш в левой части клавиатуры, низкими, а звуки в правой части клавиатуры – высокими. То есть низкие звуки – это колебания с меньшей частотой, как, например, лай большой собаки. А звуки, которые мы считаем высокими, – это колебания с большей частотой, как, скажем, тявканье маленькой собачки. Однако сами термины «высокий» и «низкий» культурно относительны: греки описывали высоту звуков наоборот, потому что изготавливали инструменты, в которых звучащие элементы располагались вертикально. Более короткие струны и органные трубы были ниже, поэтому ноты, которые на них исполняются, называли низкими (они и физически находятся ниже), а более длинные струны и трубы тянулись ввысь к Зевсу и Аполлону, потому их ноты называли высокими. «Низкие» и «высокие» звуки, так же как «левая» и «правая» рука, по сути, произвольные термины, которые нужно просто запомнить. Кое-кто утверждает, что «высокие» и «низкие» звуки – это лишь интуитивно данные ярлыки, и отмечают, что звуки, которые мы называем высокими, издают птицы высоко на дереве или в небе, а звуки, которые считаем низкими, – крупные млекопитающие вроде медведей, а еще их можно услышать во время землетрясения. Однако этот аргумент недостаточно убедителен, так как низкие звуки иногда раздаются и сверху (вспомните раскаты грома), а высокие – снизу (вспомните сверчков, белок, шуршание листьев под ногами).
В качестве первого определения высоты звука возьмем то, что главным образом отличает звук при нажатии на одну клавишу фортепиано от звука при нажатии на другую.
Внутри инструмента молоточек бьет по одной или нескольким струнам. Удар по струне смещает ее, немного растягивая, и благодаря упругости она стремится вернуться в исходное положение. Однако при этом она смещается в противоположном направлении дальше исходного положения, а затем возвращается, и так снова и снова – иначе говоря, она колеблется из стороны в сторону. С каждым колебанием она отклоняется на все меньшее расстояние и в конце концов перестает двигаться. Вот почему звук, который мы слышим, когда нажимаем на клавишу фортепиано, становится все тише, пока не затихнет вовсе. Расстояние, которое струна преодолевает при каждом колебании, наш мозг преобразует в громкость, а скорость, или частоту, колебаний – в высоту звука. Чем большее расстояние преодолевает струна, тем громче кажется нам звук. Когда она почти не движется, звук едва различим. На первый взгляд это кажется нелогичным, но пройденное струной расстояние и скорость колебаний не зависят друг от друга. Струна может колебаться очень быстро, а расстояние проходить и большое, и маленькое. Амплитуда ее движения связана с тем, как сильно мы ударяем по струне, – и это соответствует интуитивному пониманию, что более сильный удар производит более громкий звук. Частота колебаний струны зависит в основном от ее размера и натяжения, а не от того, с какой силой по ней ударить.
Похоже, придется сказать, что высота звука – то же, что и частота колебаний молекул воздуха. Это почти правда. Как мы увидим позднее, восприятие физического мира через призму разума редко бывает настолько простым. Однако у большинства музыкальных звуков высота и частота тесно связаны.
Термин «высота звука» относится к имеющейся у организма мысленной репрезентации фундаментального свойства – частоты. То есть высота звука – это чисто психологический феномен, связанный с частотой колебаний молекул воздуха. Говоря «психологический», я имею в виду, что он сформирован исключительно у нас в голове, а не во внешнем мире. Это конечный продукт цепочки когнитивных событий, которые породили полностью субъективное внутреннее представление. Звуковые волны – колебание молекул воздуха с разной частотой – сами по себе высоты не имеют. Их движение можно измерить, но для сопоставления колебаний с тем внутренним качеством, которое мы считаем высотой звука, потребуется мозг человека (или животного).
Подобным образом мы воспринимаем и цвет, и первым это понял Исаак Ньютон. (Ньютон известен тем, что открыл закон всемирного тяготения и одновременно с Лейбницем разработал дифференциальное и интегральное исчисление. Как и Эйнштейн, Ньютон не очень-то хорошо учился, и преподаватели часто жаловались на его невнимательность.) Он первым указал на то, что цвет формируется в мозге, написав: «Световые волны сами по себе не имеют цвета».
Со времен тех открытий мы узнали, что световые волны характеризуются различными частотами колебаний, и когда они попадают на сетчатку глаза наблюдателя, то запускают цепь нейрохимических реакций, конечным продуктом которых является внутреннее изображение, созданное мозгом, – мы называем его цветом. Суть здесь в следующем: то, что мы воспринимаем как цвет, не состоит из этого цвета. Яблоко может казаться красным, но сами его атомы вовсе не красные. А тепловые волны не состоят из крошечных горячих частиц, как отмечает философ Дэниел Деннет.
У пудинга есть определенный вкус только тогда, когда я кладу его в рот и он соприкасается с моим языком. Пока он стоит в холодильнике, у него нет ни вкуса, ни аромата – лишь потенциал. И стены моей кухни перестают быть белыми, когда я ухожу. Конечно, на них по-прежнему есть краска, но сам цвет возникает только тогда, когда отраженные световые лучи попадают в мои глаза.
Звуковые волны воздействуют на барабанную перепонку и ушную раковину (хрящевую часть уха), запуская цепочку механических и нейрохимических реакций, конечным продуктом которых является внутренний образ – его мы называем высотой звука. Если в лесу упадет дерево, но никто не услышит, то будет ли звук? (Впервые этот вопрос задал ирландский философ Джордж Беркли.) Простой ответ: нет, потому что звук – внутренний образ, созданный мозгом в ответ на колебания молекул. Точно так же не может быть и высоты звука, если его не услышит ни человек, ни животное. Соответствующий измерительный прибор способен зарегистрировать частоту колебаний, созданную падением дерева, но это еще не высота звука, по крайней мере до тех пор, пока его кто-нибудь не услышит.
Ни одно животное не способно воспринимать высоту звука на всех существующих частотах, а цвета, которые мы видим, являются лишь небольшой частью электромагнитного спектра. Теоретически звук можно услышать при колебаниях от 0 до 100 000 циклов в секунду и даже более, но каждое животное воспринимает лишь ограниченный диапазон звуков. Люди, не страдающие потерей слуха, обычно способны слышать колебания от 20 до 20 000 Гц. Звуки в нижней части диапазона частот ближе к слабому гулу – нечто подобное мы слышим, когда за окном проезжает грузовик (его двигатель производит звук на частоте около 20 Гц) или навороченный автомобиль с кастомной звуковой системой и мощными сабвуферами, работающими на большой громкости. Некоторые частоты – ниже 20 Гц – не слышны человеческому уху, оно физиологически их не воспринимает. Биты в песнях Фифти-Сента “In da Club” («В клубе») и “Express Yourself” («Выражай себя») группы N.W.A. расположены в нижней части доступного нам диапазона. В конце песни “A Day in Life” («День из жизни») в альбоме Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band («Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера») The Beatles есть несколько секунд звука на частоте 15 кГц, который не слышит большинство людей старше 40 лет! (Если The Beatles считали, что не стоит доверять людям за сорок, возможно, это был такой своеобразный отсев, но говорят, что Леннон просто хотел взбодрить соседских собак.)
Человеческое ухо воспринимает звуки частотой от 20 до 20 000 Гц, но не все они музыкальны, и мы не способны однозначно присвоить многим из них ту или иную высоту. Аналогичным образом цветам в инфракрасной и ультрафиолетовой частях спектра мы не можем дать четкого определения – в отличие от цветов, расположенных ближе к его середине. Рисунок выше иллюстрирует диапазоны музыкальных инструментов. Частота среднестатистического мужского голоса при разговоре – около 110 Гц, а женского – около 220 Гц. Гул люминесцентных ламп или неисправной проводки имеет частоту 60 Гц (это в Северной Америке, а в странах с другим стандартом напряжения, например в европейских, – около 50 Гц). Высокий звук голоса, которым певица разбивает бокал, может достигать частоты в 1000 Гц. Бокал трескается, потому что у него, как и у всех физических объектов, есть естественная частота колебаний. Соответствующий звук можно услышать, если слегка стукнуть пальцем по стенке бокала, а если он из хрусталя, то поводить по кромке мокрым пальцем. Когда голос певицы попадает в эту частоту, молекулы вещества, из которого сделан бокал, начинают колебаться, связи между ними становятся слабее – и бокал разбивается.
У стандартного фортепиано 88 клавиш. В редких случаях у него есть несколько дополнительных клавиш внизу, а у электронных пианино, органов и синтезаторов бывает по 20 или 24 клавиши, но это особые случаи. Самая низкая нота на стандартном фортепиано имеет частоту 27,5 Гц. Интересно, что примерно та же частота смены кадров представляет важный порог в зрительном восприятии. Если менять фотографии с такой скоростью, возникнет иллюзия движения. Кинофильм – это последовательность неподвижных изображений, которые показываются со скоростью 24 кадра в секунду, что превышает скорость восприятия зрительной системы человека. В 35-миллиметровом пленочном проекторе каждое изображение показывается на экране примерно в течение 1/48 секунды, а затем идет черный кадр той же длительности, поскольку между изображениями объектив закрывается. Мы воспринимаем происходящее на экране как плавное непрерывное движение, когда на самом деле нам ничего подобного не показывают. (В старых фильмах можно заметить мерцание, потому что изображения там менялись со скоростью 16–18 кадров в секунду – это ниже нашего порога восприятия, и потому мы замечаем разрывы.) Когда молекулы колеблются примерно с той же скоростью, мы слышим плавный непрерывный звук. Если в детстве вы вставляли игральные карты в спицы велосипедного колеса, то вот вам иллюстрация этого принципа: если колесо вращается медленно, вы слышите отдельные щелчки карты по каждой спице. А если разогнать его до определенной скорости, то щелчки сольются в один звук – непрерывное жужжание, которому можно подпевать, потому что у него есть определенная музыкальная высота.
Если сыграть на фортепиано самую низкую ноту, воздух будет колебаться с частотой 27,5 Гц, и большинство людей не услышит в звуке определенной музыкальной высоты – она проявляется ближе к середине клавиатуры. Многие не могут точно определить высоту самых низких и самых высоких нот на фортепианной клавиатуре. Композиторы это знают и либо используют такие ноты, либо избегают их в зависимости от того, чего пытаются достичь с точки зрения композиции и эмоциональной окраски произведения. Звуки с частотой выше самой высокой ноты на клавиатуре фортепиано, примерно от 6000 Гц, кажутся тонким свистом. Звуки выше 20 000 Гц многие люди вообще не слышат, а к 60 годам большинство уже не воспринимает колебания, частота которых превышает 15 000 Гц, из-за того что волосковые клетки во внутреннем ухе с возрастом становятся жестче. Так что, когда мы говорим о музыкальном диапазоне или о той части фортепианной клавиатуры, где мы лучше всего различаем высоту звука, мы имеем в виду примерно 3/4 всех нот, которые можно сыграть на фортепиано, – они имеют частоту примерно от 55 до 2000 Гц.
Высота звука – одно из основных средств для выражения музыкальной эмоции. Передать настроение, волнение, спокойствие, создать романтичное или тревожное чувство можно по-разному, но именно высота звука является решающим фактором. Всего одна высокая нота способна выразить беспокойство, а одна низкая – печаль. Из нескольких нот создаются еще более мощные музыкальные высказывания со множеством нюансов.
Мелодия определяется сочетанием и соотношением нот во времени. Большинство людей без труда распознают знакомую мелодию, даже если сыграть ее в более высокой или более низкой тональности. На самом деле у многих мелодий нет единственно верной начальной высоты – они свободно плавают в пространстве, и начать их можно с любого места. Песенка “Happy Birthday” («C днем рождения») – один из таких примеров. Мелодию можно рассматривать как абстрактный прототип, получающийся при определенном сочетании тональности, темпа, инструментовки и т. д. Когнитивный психолог сказал бы, что мелодия – это слуховой объект, который сохраняет свою идентичность, несмотря на изменения, подобно тому как сохраняет свою идентичность стул, когда его переставили в другую часть комнаты, перевернули или покрасили в красный цвет. Поэтому, если вы услышите знакомую песню на большей громкости, чем раньше, вы все равно узнаете ее и определите как ту же самую песню. То же относится и к изменению абсолютного значения высоты звука, если относительные интервалы между нотами в мелодии остаются прежними.
Понятие относительного значения высоты звука легко проиллюстрировать на примере того, как мы говорим. Когда вы спрашиваете кого-то, естественный тон вашего голоса повышается в конце предложения, сигнализируя о том, что это вопрос. Однако вы не пытаетесь соблюсти какую-то определенную высоту звука. Достаточно того, что тон в конце предложения выше, чем в начале. По крайней мере, так устроена вопросительная интонация в английском языке (в других языках интонационные конструкции могут быть иными, их нужно учить). В лингвистике это явление относят к просодическим средствам. Подобные общепринятые конструкции существуют и в музыке, написанной в западной традиции. Некоторые последовательности высот вызывают ощущение спокойствия, другие – возбуждения. Медленное, преимущественно ступенчатое нисходящее движение мелодии в композиции «Утро» из Сюиты № 1 Эдварда Грига к пьесе «Пер Гюнт» передает умиротворенность, а в «Танце Анитры» из той же сюиты хроматическое восходящее движение (со случайными и игриво нисходящими интервалами при общем повышении тона) создает ощущение большего действия. Восприятие этих ощущений мозгом основано на обучении, подобно тому как нам приходится запоминать, что повышение интонации означает вопрос. Мы все обладаем врожденной способностью усваивать языковые и эстетические особенности той культуры, в которой родились, а опыт взаимодействия с музыкой этой культуры формирует наши нейрональные связи таким образом, что в итоге мы запоминаем набор правил, общих для данной музыкальной традиции.
У разных инструментов разный диапазон доступной высоты звука. У фортепиано самый широкий диапазон по сравнению с другими инструментами, как мы уже видели на рисунке. Каждый из оставшихся инструментов охватывает определенное подмножество доступных нот, и это определяет выбор инструментов для передачи эмоций. Флейта-пикколо, с высоким пронзительным звуком, близким к голосу птицы, обычно вызывает легкое, радостное настроение, независимо от того, какие ноты на ней играют. Композиторы часто используют пикколо для создания веселой или воодушевляющей музыки, например, Джон Суза задействовал этот инструмент в своих маршах. Точно так же в сказке «Петя и Волк» Прокофьев с помощью флейты окрашивает персонаж птички, а валторной обозначает появление волка. Индивидуальный характер персонажей выражается в тембре различных инструментов, и у каждого из них свой лейтмотив – мелодическая фраза или фигура, сопровождающая появление идеи, персонажа или ситуации. (Особенно это касается вагнеровской музыкальной драмы.) Если композитор предпочитает грустные мелодии, он добавит партию для пикколо в свое произведение разве что ради иронии. Низкие, глубокие звуки тубы или контрабаса часто используются для передачи ощущения торжественности, весомости, силы притяжения.
Сколько всего значений у высоты звука? По сути, она представляет собой колебания молекул, а значит, технически значений может быть бесконечное множество. Назовите любую пару частот, и я высчитаю среднее значение между ними – звук с таким значением высоты теоретически может существовать. Однако не любое изменение частоты заметно изменит высоту звука, подобно тому как попавшая в рюкзак песчинка не сделает его заметно тяжелее. И не любые изменения частоты работают в музыке. Люди неодинаково восприимчивы к небольшим ее перепадам. Обучение развивает слух, но, вообще говоря, в большинстве культур интервалы существенно меньше полутона не используются в качестве основы для музыки, и лишь немногие слушатели способны точно уловить изменения высоты менее чем в 1/10 полутона.
Способность различать высоту звуков основана на физиологии и варьирует у разных животных. Как вообще получилось, что мы, люди, различаем ее? В базилярной мембране внутреннего уха есть волосковые клетки, чувствительные к колебаниям, и они реагируют на определенный диапазон частот. Они протянуты по всей мембране. Низкочастотные звуки возбуждают волосковые клетки на одном конце базилярной мембраны, звуки из среднего диапазона частот – в середине, а высокочастотные звуки – на другом ее конце. Можно представить, что на мембране есть карта различных высот, очень напоминающая клавиатуру фортепиано. Так как тоны распределены по всей поверхности мембраны, эта карта называется тонотипической.
Когда звук попадает в ухо, он проходит через базилярную мембрану, где в зависимости от его частоты активируются определенные волосковые клетки. Мембрана работает подобно фонарю с детектором движения, какие иногда устанавливают в садах. Определенная ее часть активируется и передает электрический сигнал в слуховую зону коры головного мозга. У той тоже есть тонотопическая карта – тоны располагаются на поверхности коры от низких к высоким, то есть разные области мозга реагируют на разные высоты. Высота звука настолько важна, что мозг представляет ее непосредственно. В отличие от большинства остальных характеристик звука, его высоту мы можем определить напрямую: введя в мозг человека электроды, мы могли бы понять, какой тон он слышит, наблюдая только за активностью мозга. Несмотря на то что музыка основана на соотношении тонов, а не на абсолютном значении высоты, парадоксальным образом именно на эти абсолютные значения мозг реагирует на всех стадиях обработки звуковой информации.
Непосредственное восприятие высоты звука настолько важно, что стоит это повторить. Если я вживлю электроды в зрительную кору вашего мозга (расположенную в его затылочной части и отвечающую за зрение), а потом покажу вам красный помидор, то ни одна группа нейронов не заставит соответствующие электроды покраснеть. А если я расположу электроды в вашей слуховой коре и сыграю чистую ноту с частотой 440 Гц, то у вас активируются нейроны, которые разряжаются именно с этой частотой, и электрод получит и передаст электрический сигнал с частотой 440 Гц. Можно сказать, в ухо влетело, из мозга вылетело!
Музыкальная гамма – лишь подмножество теоретически бесконечной последовательности значений высоты звука, и каждая культура обращается с ней или на основе исторической традиции, или несколько произвольно. Избранные тоны провозглашаются частью музыкальной системы. Названия нот можно увидеть на клавишах на рисунке. Сами эти названия – «ля», «си»[4], «до» (или «A», «B», «C») и т. д. – произвольные обозначения, которые мы ассоциируем с определенными частотами. В западной музыке, то есть музыке европейской традиции, существуют только «принятые» ноты. Большинство инструментов предназначены для воспроизведения исключительно этих звуков, а не других. (Инструменты вроде тромбона и виолончели – исключение, на них можно сыграть звуки, расположенные между нотами. Тромбонисты, виолончелисты, скрипачи и т. д. немало времени тратят на то, чтобы научиться различать на слух и точно воспроизводить те частоты, которые попадают в «принятые» ноты.) Промежуточные звуки считаются ошибочными («не попал в ноту»), если не используются для выразительности (когда краткий «фальшивый звук» воспроизводится намеренно для создания эмоционального напряжения) или при переходе от одной «принятой» ноты к другой.
Настройка инструмента предполагает точное совпадение исполняемой ноты со стандартом (камертоном, тюнером) или определенное отношение между двумя и более исполняемыми нотами. Музыканты в оркестре настраиваются перед выступлением, синхронизируя свои инструменты (которые естественным образом расстраиваются, потому что дерево, металл, струны и другие материалы расширяются или сжимаются при изменении температуры и влажности) со стандартной частотой, а иногда друг с другом. Опытные музыканты нередко изменяют частоту тонов во время игры для большей выразительности (конечно, так не делают с инструментами, у которых высота фиксированная, например с клавишными и ксилофонами). Умело сыгранная нота, звучащая чуть выше или ниже своей номинальной высоты, позволяет передать определенные эмоции. Опытные музыканты, которые вместе играют в ансамбле, тоже меняют высоту тона своих инструментов, чтобы те звучали гармоничнее с остальными, если один или несколько их коллег отойдут от стандартной настройки во время исполнения.
В западной музыке ноты обозначаются латинскими буквами от A до G либо названиями до – ре – ми – фа – соль – ля – си. Эту систему обыграли Роджерс и Хаммерстайн в песне «До-ре-ми» из мюзикла The Sound of Music («Звуки музыки»): «До – воробушка гнездо, ре – деревья во дворе…» Ноты расположены по возрастанию частоты звука: у ре частота больше, чем у до (то есть нота ре выше, чем до), у ми частота больше, чем у до и ре. После си снова идет нота до, но уже следующей октавы и т. д. Ноты соседних октав с одним и тем же названием отличаются друг от друга по частоте в два раза. У одной из нот с названием ля частота 110 Гц. Нота с частотой в два раза меньше – 55 Гц – тоже называется ля, и нота с частотой в два раза больше – 220 Гц – тоже ля. Если дальше удваивать значение, мы получим ноты ля с частотой 440 Гц, 880 Гц, 1760 Гц и т. д.
