Беседы с К. Станиславским, записанные Корой Антаровой. «Театр есть искусство отражать жизнь…» бесплатное чтение
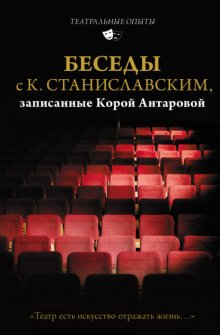
© ООО «Издательство АСТ»
Памяти учителя
Легко артисту выписать из своих записей подлинные слова учителя и отдать их всем, кто горит любовью к искусству и ценит каждый опыт великого человека, прошедшего путь искусства сцены. Но очень трудно дерзнуть вызвать в каждом читающем живой образ гения, с которым ты общался как с учителем, которого ты видел в течение многих дней работающим с тобой и с целой группой артистов, как равный с равными, никогда не давая чувствовать расстояния между собой и учеником, но создавая атмосферу легкости общения, обаяния и простоты.
Но все же я решаюсь хотя бы несколькими чертами наметить здесь образ Константина Сергеевича Станиславского, каким он явился в занятиях с нами, артистами московского Большего театра, в 1918–1922 годах.
Он начал заниматься с нами в своей квартире в Каретном ряду, и первое время его занятия были неофициальны, безвозмездны, не имели никаких точных часов. Но Константин Сергеевич отдавал нам все свое свободное время, часто отрывая для этого часы от собственного отдыха. Нередко наши занятия, начинаясь в 12 часов дня, кончались в 2 часа ночи. Надо вспомнить, какое тяжелое было тогда время, как всем было холодно и голодно, какая царила разруха, жестокое наследие первой мировой войны, чтобы оценить самоотвержение обеих сторон – и учителя, и учеников. Многие из артистов, несмотря на то, что они были артистами Большого театра, были совершенно разуты и бегали в студию к Константину Сергеевичу в случайно полученных ими валенках.
Константин Сергеевич обычно забывал, что ему надо есть и пить, как забывали об этом во время его занятий и мы, его ученики, увлекаемые пламенем его красноречия и любви к искусству.
Если приходило на занятия много людей и не хватало места на стульях и диванах его огромной комнаты, то приносили ковер, и все усаживались на нем на полу.
Каждая минута, пролетавшая в общении с Константином Сергеевичем, была праздником, и весь день казался радостнее и светлее, потому что вечером предстояли занятия с ним. Верными помощниками его, которые также в первое время работали в студии безвозмездно и не изменили его делу до конца, были сестра его Зинаида Сергеевна Соколова и брат Владимир Сергеевич Алексеев, полные внимания и ласки к нам не менее самого Константина Сергеевича.
Константин Сергеевич никогда не готовился к тем беседам, которые записаны мною. Он не придерживался лекционного метода; все, что он говорил, претворялось тут же в практические примеры, и слова его лились, как простая, живая беседа с равными ему товарищами, почему я и назвала их беседами. У него не было точно выработанного плана, что вот именно сегодня он во что бы то ни стало проведет с нами такую-то беседу. Он всегда шел от самой живой жизни, он учил ценить данное, летящее сейчас мгновение и чуткостью гения понимал, в каком настроении его аудитория, что волнует артистов сейчас, что их больше всего увлечет. Это не значит, что у Константина Сергеевича вообще не было плана, это лишь было доказательством того, как тонко он умел ориентироваться сам и как он ориентировал, по обстоятельствам момента, органические качества того неизменного плана, в который он уложил свои знания для передачи нам. Его беседы всегда были необычайно тонко связаны с живыми упражнениями. Как сейчас помню, мы стояли у рояля и пробовали, прилагая свои усилия к полной сосредоточенности, к созданию в себе творческого круга публичного одиночества, петь дуэт Татьяны и Ольги из «Евгения Онегина».
Константин Сергеевич всячески наводил нас на поиски новых, живых интонаций и красок в наших голосах, всячески старался нас ободрить в наших исканиях, но мы все съезжали на привычные нам оперные штампы. Наконец, он подошел к нам и, став рядом с нами, начал ту беседу, которая у меня отмечена под № 16. Увидев, что мы никак не можем отойти от оперных штампов, он дал нам на время забыть о нашем неудачном дуэте. Он начал говорить о сосредоточенности, провел с нами несколько упражнений на действия, соединенные с ритмом дыхания, на выделение в задачах тех или иных свойств каждого предмета в своем внимании. Путем сравнения разных предметов, указывая на рассеянность, на выпавшие из внимания того или иного артиста качества наблюдаемого им предмета, он подвел нас к бдительности внимания. Рассказал нам все то, что мною записано в 16-й беседе, и вернулся вновь к дуэту.
После его беседы мы сразу поняли все, что ему хотелось слышать в интонациях наших голосов, и на всю жизнь с представлением об Ольге у меня связана ассоциация луны – громадного краевого шара, и всегда встает могучая фигура учителя, вдохновенная, ласковая, полная бодрости и энергии.
Константин Сергеевич никогда не отступал перед препятствиями, возникавшими перед его учениками, перед их непониманием, он всегда ободрял и умел добиться результатов, хотя ему приходилось повторять нам много раз одно и то же. Вот почему в беседах встречаются частые повторения, но я сознательно не вычеркиваю их, так как по ним каждый может судить о том, как труден путь, «ревела, как много надо работать». Ведь мы почти все были уже артистами Большого театра, но как упорно надо было Константину Сергеевичу воспитывать наше внимание и все творческие элементы, вводящие в истинное искусство! Как неутомимо было его внимание к тому, что он считал необходимым духовно-творческим багажом для каждого артиста, желающего развить свои творческие силы, а не подражать кому-то!
Во многих беседах, не имевших прямого отношения к этике, он постоянно старался заронить в нас зерно какой-либо мысли о рядом идущем товарище и пробудить к нему любовь. Константин Сергеевич обладал огромным юмором, но вместе с тем был так благороден и прост в своих мыслях и в обращении с нами, что никому и в голову не могло прийти сообщить ему какой-нибудь анекдот, сплетню и т. п.
Глубоко серьезная и захватывающая атмосфера, жажда учиться и знать что-то в своем искусстве царила среди нас и шла вся от нашего полного любви и внимания к нам учителя. Нет возможности передать все, что так щедро давал нам Константин Сергеевич на своих занятиях. Он не довольствовался тем, что знал нас как студийцев, он находил еще время приходить в Большой театр смотреть нас в спектаклях. Надо было бы написать отдельную книгу о «Вертере» – первой постановке нашей студии, которую мы показали в Художественном театре. Нет слов, чтобы обрисовать ту энергию, которая была влита Константином Сергеевичем, его сестрой Зинаидой Сергеевной, его братом Владимиром Сергеевичем и всеми студийцами в эту работу. Голодные, холодные, часто по два дня не обедавшие, мы не знали устали. Мы были тогда так нищи в студии, что не могли даже пригласить фотографа заснять всю нашу постановку «Вертера». И она ушла, как первый дар Константина Сергеевича опере, даже нигде не зафиксированная. Декорации Константин Сергеевич собрал в Художественном театре «с бору по сосенке», костюмы я выпросила в Большом театре из старого, уже не употреблявшегося гардероба, выбрала их вместе с Зинаидой Сергеевной, а Константин Сергеевич их одобрил.
Как образец «горения» я могу привести Владимира Сергеевича, который жил тогда за городом, таскал на спине мешок со всякими необходимыми ему вещами для студии и питался почти одним пшеном. Иногда он говорил: «Я думаю, если мне кто-нибудь скажет сейчас слово “пшено”, – стрелять буду». Смех, веселые песенки, когда мы уже перебрались в Леонтьевский переулок и помещение было хотя и тесное, но больше, чем в Каретном ряду, звучали постоянно во всех углах. Никогда не было среди нас уныния, и выхода Константина Сергеевича к нам на занятия мы всегда ждали с нетерпением.
Однажды, говоря о ценности летящей минуты в творчестве, которую надо ценить как момент искания все новых и новых задач, а с ними и новых интонаций голоса и новых физических действий, Константин Сергеевич заговорил об Отелло.
Он так представил нам две возможности для Отелло войти ночью в спальню Дездемоны, так был грозен в одном варианте и так кроток, наивен и трогателен в другом, что мы все оцепенели и остались безмолвно сидеть, хотя Отелло уже исчез и перед нами вновь стоял наш учитель.
Что можно сказать теперь, когда его нет с нами?
Для него искусство было не только отражением жизни на сцене, но и путем к воспитанию, единению людей. Пусть же оно будет для всех нас, учившихся у него, заветом чести и правдивости, заветом уважения к каждому, кто стремится к знаниям и совершенству в нашем театральном творчестве.
У меня нет ни сил, ни красноречия передать в словах то вдохновение, каким зажигал Константин Сергеевич своих учеников, – его увлечению противостоять никто не мог. Но ему подчинялись не как авторитету и деспоту, а как радости, вдруг раскрывавшей в вас новое понимание какой-то фразы, какого-то слова, которые озаряли всю рода, и вы исполняли ее завтра уже иначе.
Если собранные мной беседы Константина Сергеевича кому-нибудь помогут хотя бы сколько-нибудь продвинуться вперед в искусстве, моя задача будет выполнена.
К. Антарова
Беседа первая
Жизнь сводит людей в искусстве не по случайным обстоятельствам, но потому, что в одном сердце горит желание поделиться своим опытом, а другие хотят двигаться вперед и не могут оставаться в своем прежнем состоянии, потому что их внутренние силы крепнут, развиваются и ищут себе новых путей, чтобы пролиться в действие творчеством. Это именно и сближает нас сейчас: я хочу поделиться своим опытом и попробовать применить его к опере, а в вас горит желание двигаться вперед. Если среди артистов вашего Театра вы можете найти еще людей, желающих общаться на почве взаимного совершенствования – взаимного потому, что в театральном труде одинаково движутся вперед оба: и тот, кто отдает свой труд, и тот, кто его берет, – то мы можем начать студийную работу.
Мое глубокое убеждение, что стать артистом нашего времени, артистом, к которому предъявляются очень высокие требования, помимо студии нельзя.
Необходимо отбросить предрассудок, что можно научить «играть» те или иные чувства. Научить играть вообще никого нельзя. И на великих примерах гениальных артистов мы видим всегда, как летят кувырком все условные устои современной им сцены: они выделяются среди всех в спектакле особой ритмической гармонией всей роли, освобожденностью физических и психических действий; они пробиваются через стены всех условностей сцены, разбивают расстояние между зрительным залом и собой и попадают прямо в сердца людей, увлекая их за собою в жизнь этой своей творческой минуты только потому, что они постигли природу изображаемых ими страстей и вывели из них действием своей гениальной интуиции ценность слова, которое и бросили зрителю в правдивом и правильном физическом действии.
Вот эту работу: постичь своим наблюдением природу каждого чувства, развить для этой работы свое внимание и сознательно научиться вводить себя творческий круг – я и нахожу совершенно необходимой для того, чтобы стать истинным актером своего времени.
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь. «Театр, – как выразился Нерон, – море сил человеческих». И мысль эта, несмотря на тысячелетия, разделяющие нас, верна до сих пор.
Конечно, театр создается силами человеческими и отражает силы человеческие через себя. Всякий талант – это не чудо, свалившееся с неба, а плод развития человеком сил в себе и внимания к тем силам, которые бурлят в море человеческих жизней вокруг.
Мгновения сценической жизни, т. е. те неповторимые мгновения артиста, когда истина страстей должна быть влита им в предлагаемые обстоятельства, – это вовсе не мгновения случайных его озарений, – это плоды долгого труда над собой и изучения природы страстей, – чтобы могло наступить истинное вдохновение и чтобы никакие случайные препятствия в себе или вокруг не разбили его внимания и сосредоточенности на своем деле.
Студийная работа должна повести развитие в артисте его собственных сил так, чтобы его воображение, введенное в русло самодисциплины, могло увлекать за собой все его силы именно по тому пути, который намечен в роли. Но как дойти до той черты творчества, где стирается грань: «я изображаю такого-то» – и начинается грань: «если я такой-то, то какова же природа моих чувств и какие физические движения для меня будут сейчас правильными»? Для этого нужны годы студийной работы на задачах и упражнениях. Этого рассказать нельзя. Можно сказать, что гений Пушкина, определившего искусство как силу передавать истину страстей в предлагаемых обстоятельствах, не превзойден до нашего времени.
Можно сказать, что в наших студийных работах, если они состоятся, мы пойдем именно по этому пути и будем изучать природу чувств и страстей человеческих и правильное физическое действие, соответствующее им.
Та жизнь простого дня, которой живет все человечество, и должна составлять предмет наших первоначальных исканий в психологических задачах. Люди, а значит и сцена как отражение жизни, живут простыми днями, а не теми подвигами, которые совершаются героями. Но значит ли это, что в простом дне обычный человек не способен на героическое напряжение? Вот всю эту лестницу от самого обычного, простого движения по комнате до самых высочайших напряжений самоотвержения, когда человек отдает жизнь за родину, за друга, за великое дело, мы должны научиться понимать, претворять в образы и отражать в правдивых и правильных физических действиях.
Но как мы во все эти моменты нашей жизни должны все это подметить и отразить? Без чего мы не прозвучим зрителям как понятное и нужное искусство? Если мы не поймем, что основа всей жизни человека – ритм, данный каждому его природой, дыханием, является основой всего искусства, мы не сумеем отыскать единого ритма для всего спектакля и в соподчинении ему всех действующих в спектакле создать одно гармоническое целое.
Ритм, который каждый должен выявить для себя в жизни, идет от дыхания каждого человека, следовательно, от всего его организма, от первой его потребности, без которой нельзя жить. Потому-то в искусстве и нельзя никому подражать, что каждый человек в своем творчестве – индивидуальная неповторимость, индивидуальная ритмическая единица.
Значит ли это, что не надо ничему учиться, а просто, определив и установив свой ритм, лить свое вдохновение? Школа так называемого «вдохновения» искала прежде всего возбуждения всех своих инстинктов и потому часто подавала вместо работы высших, очищенных в себе сил истинного, интуитивного вдохновения только экзажерацию и ложный пафос, ложный наигрыш, идущий от инстинктов, из которого и сложились штампы: «так играется такое-то чувство».
Все это может быть выяснено только в продолжительной, увлекательной студийной работе теми, кто не себя любит в искусстве, а видит в нем только свой путь, совершенную необходимость всей своей жизни.
Может быть и еще вопрос: если искусство – индивидуально неповторимый путь каждого человека, можно ли вообще создавать студию, где учатся многие? Быть может, нужна каждому человеку отдельная студия? В работе студийной мы и увидим, что, хотя каждый человек носит все свое творчество в себе, хотя один не может развить свой творческий огонь так, как развивает его другой, есть много общих для всех творящих людей ступеней и задач, где каждый будет искать одно и то же: природу носимых в себе сил. А как, через какие приспособления он их найдет и вскроет, разовьет и очистит, чтобы стать артистом, единящим в красоте себя и зрителя, – здесь снова общий труд студийца и преподавателя, их общий путь к совершенству. Оба должны найти свой ритм творчества, а учитель должен еще включить в свой творческий круг и ритмы всех своих учеников.
Беседа втopая
Не думайте, что я буду излагать вам какую-то скучную мою систему искусства, вызубрив которую наизусть, можно стать артистом. Меньше всего я склонен утруждать вашу память. Я просто хочу поделиться с вами моими мыслями об искусстве. Не о том искусстве, которое может казаться пленяющим издали, о котором можно только мечтать и которым можно без труда покорять, но о том, которое составляет всю жизнь человека, весь его труд.
Но что это собственно значит: «жить в искусстве»? Не тогда ли мы будем жить истинно в нем, когда уже перестанем рассматривать себя как единицу того или иного рода искусства и поймем все искусство в целом как пантеон, завершающий собой весь мир нашего творчества и единящий в себе все жизни людей? Но это философия, и отвлекаться в нее мы не будем, а рассмотрим природу жизни в искусстве, которая должна быть понятна каждому, несмотря на всю свою сложность.
«Проще, легче, выше, веселее». Вот первые слова, которые должны были бы висеть над каждым театром – храмом искусства, если бы театры были таковыми. Только любовь к искусству, все высокое и прекрасное, что живет в каждом человеке, – только это всякий входящий в театр должен был бы вносить в него и выливать из себя как ведро чистой воды, тысяча которых смоет сегодня грязь всего здания, если вчера его загрязнили страсти и интриги людей.
Одной из первоначальных задач тех, кто создает студию или театр, должно быть внимание к атмосфере в них. Надо следить, чтобы страх ни в какой форме, ни в каком виде не прокрался в студию и не царил бы в сердцах ее сотрудников или учащихся, чтобы там всех единила и увлекала красота. Если нет идеи единения в красоте, – нет истинного театра, и такой театр не нужен. Если нет элементарного понимания себя и всего комплекса своих сил, как радостных слуг отечества, то и такой театр тоже не нужен, – он не будет одной из творческих единиц среди всех творящих сил страны. Отсюда мы можем понять, какое это важное дело – подбирание театральных кадров, всегда самое слабое и трудное место театрального дела. Все, во что вмешивается выбор по протекции, а не по талантам и характерам, попадание в студию по знакомствам и рекомендациям, – все это не только снижает достоинство театра, спектакля или репетиции, но водворяет в них скуку, и самое творчество будет слагаться в этих случаях из суррогатов, а не из истинной любви, горящей в тех, кто пришел учиться.
Правила театра, где репетиции ведутся сразу с несколькими составами, но одни из присутствующих действуют, с ними работают, а остальные сидят, не принимая участия в разбираемых задачах, не единясь внутренно в творческом труде, а наполняя атмосферу завистью и критикой, невозможны в студии, где все равны в творческом труде. В студии все знают, что сегодня или завтра, но их очередь придет, и понимают, что, следя за работой товарищей, надо жить в разбираемой задаче всем своим творческим вниманием. Постановка дела, где нет уважения к человеку – подчиненному актеру, где нет вежливости, создает атмосферу вырождения. Хаос грубости, позволяющей себе возвышать голос, не приведет к той атмосфере радости и легкости, где только и может расти высокая культура духа и мысли. Только в атмосфере простой и легкой слово может вылиться, как полноценное отражение тех страстей, благородство и высшую ценность которых должен отобразить театр.
Те часы, которые человек проводит в театре на репетициях, должны постепенно создавать из него полноценного человека – творца в искусстве, того бойца за красоту и любовь, который сможет перелить в сердца своих слушателей весь смысл слова и звука. Если после репетиции артисты ушли не выросшими в своих лучших чувствах и мыслях, если их озарение имело крошечный масштаб: «пока репетировал, все меня увлекало, и на сердце было ясно», а ушел и снова попал в каботинство и вульгарность: «я актер, я персона», – значит, мало было истинной любви и огня у тех, кто вел репетицию.
Самая «ответственность» за спектакль в том виде, как она понимается режиссерами и разными маэстро, выливающаяся во внешнюю слаженность спектакля, – наихудшее из заблуждений. Возьмем простой, жизненный пример: сплошь и рядом драматический режиссер приходит в оперу ставить спектакль; но что по большей части он ставит? Он прежде всего ставит «себя». Он кое-как, лучше или хуже, познакомился с музыкой, кое-как сговорился с художником и начал свои репетиции с живыми силами театра, выбрав себе то, что ему по вкусу с внешней стороны, или с трудом приняв то, что ему подсунули, не познакомившись хорошенько с людьми и их особенностями. Живые драгоценности – сердца людей – для него не существуют, гармония каждого в отдельности, индивидуальная творческая неповторимость каждого проходят мимо его зрения; он не видит их, потому что не знает гармонии в себе и никогда о ней не думал, приступая к творческому труду. Кое-как он «насвистал» свои желания актерам; кое-как они подобрали крохи чужой души, чужой воли и забили прочно все пути к своей интуиции, к своему творчеству. Отражение личности режиссера более или менее убогое или богатое сообразно его и их таланту, – вот и весь «творческий» труд актеров. Далее режиссер выносит свой труд на оркестр, и здесь новая драма, новая борьба личностей, если дирижер – человек, столь же вульгарно понимающий свои обязанности в театре и не ищет, как ввести драматическое действие в ритм и гармонию музыки.
Невозможно передать всего хаоса, всех постоянных неполадок и поправок, вносимых ежечасно в спектакль не по органической необходимости, а только потому, что тому-то и тем-то не понравился тот или иной актер, тот или иной трюк в спектакле. Но дело вовсе не в актерах и не в трюках, а в начале всех начал творчества – в том, чтобы научить артиста искать в себе понимание ценности слова, научить его развивать свое внимание и интроспективно привлекать его к органическим свойствам роли, к природе человеческих чувств, а не судить извне об эффектах тех или иных действий, полагая, что можно научиться играть то или иное чувство. Живое сердце живого человека-артиста надо ввести в цепь внутренних и внешних, всегда параллельно идущих в жизни действий; надо помочь ему путем целого ряда приспособлений освобождать свое тело и свой внутренний мир от всяких зажимов, чтобы он мог отражать жизнь пьесы, которую играет; надо привести его к такой силе внимания, чтобы условное и внешнее не мешало ему постигать органическую природу страстей человеческих.
Вот задачи студии, вот путь, в котором каждый может и должен развить лежащее в нем зерно и превратить его в силу, действующую как красота. Но каждый сможет достичь этого развития, если любит искусство. В искусстве можно только увлекать и любить, в нем нет приказаний.
Беседа третья
Хочу поговорить с вами сегодня и вместе с вами и сам еще и еще раз передумать, что такое студия. Очевидно, это театральное училище, если можно так выразиться, отвечает современности, потому что студий развелось неимоверное количество, самых разных сортов, родов и планов. Но чем больше живешь, чем шире освобождаешь свое сознание от наносных условностей, тем яснее видишь и свои, и чужие ошибки творчества.
Студия – это тот начальный этап, где должны быть собраны люди, совершенно сознательно отдавшие себе отчет в том, что вся жизнь человека – его собственное творчество, и что этого творчества он хочет для себя только в театре, что именно в театре заключена вся его жизнь. Человек-артист должен понять, что нет извне действующих и влияющих на творчество причин, что есть только один импульс творчества – это каждым в себе носимые творческие силы. Создание студий внесло свет в тот хаос невежественности прежних театров, где люди соединялись как бы для творческого дела, а на самом деле для личного прославления себя, для легкой славы, легкой, распущенной жизни и применения своего так называемого «вдохновения».
Студия должна жить полной организованностью действий; полное уважение к окружающим и друг к другу должны царить в ней; развитие цельного внимания должно составить первоначальную основу духовного багажа тех, кто хочет учиться в студии. Студия должна учить артиста сосредоточиваться и находить для этого радостные вспомогательные приспособления, чтобы легко, весело, увлекаясь, развивать силы в себе, а не видеть в этом несносной, хотя и неизбежной задачи. Несчастие современного актерского человечества – это привычка искать побуждающих причин к творчеству вовне. Артисту кажется, что причину и толчок к его творчеству составляют внешние факты. Причины его удачи на сцене – внешние факты, вплоть до клаки и протекции. Причины его неудач в творчестве – враги и недоброжелатели, не давшие ему возможности выявить себя и выдвинуться в ореоле своих талантов. Первое, чему должна научить студия артиста, – это что все, все его творческие силы в нем самом. Интроспективный взгляд на дела и вещи, искание в себе сил, причин и следствий своего творчества должны стать началом всех начал обучения. Ведь что такое творчество? Каждый учащийся должен понять, что вообще нет жизни, не заключающей в себе никакого творчества. Личные инстинкты, личные страсти, в которых протекает жизнь артиста, если эти личные страсти побеждают его любовь к театру, – все это порождает болезненную восприимчивость нервов, истерическую гамму внешней экзажерации, которую артисту хочется объяснить своеобразием своего таланта и назвать своим «вдохновением». Но все то, что идет из внешних причин, может вызывать к жизни только деятельность инстинктов и не пробудит подсознания, в котором живет истинный темперамент, интуиция. Человек, двигающийся на сцене под давлением своих инстинктов, не составив себе точного плана действий, равен по своим побудительным причинам животным – собаке на охоте, подбирающейся к птице, или кошке, подкрадывающейся к мыши.
Разница скажется только тогда, когда страсти, т. е. инстинкты, будут очищены мыслью, т. е. сознанием человека, облагорожены бдительным вниманием его, когда в каждой страсти будет найдено временное, преходящее, условное, ничтожное и безобразное, и не на них будет остановлено и не к ним привлечено внимание, а к тому органическому, неотделимому от интуиции, что везде, всегда и всюду, во всех страстях живет и будет обще каждому человеческому сердцу и сознанию. И только оно и составит органическое зерно каждой страсти. Нет путей одних и тех же в творчестве для всех. Нельзя навязать Ивану и Марье одни и те же внешние приемы, внешние приспособления мизансцены, но можно всем Иванам и Марьям раскрыть ценность их огня вдохновения, их духовную силу и указать, где, в чем ее искать и как ее в себе развить.
Перебрасывать начинающих студийцев от занятия к занятию, утомляя их, давать им множество дисциплин сразу, засорять их головы новыми, едва увидевшими свет науками, достижения которых еще не апробированы достаточным опытом, очень вредно для них. Не стремитесь же начинать свое воспитание и образование как студийцев-актеров, сразу разбрасываясь во все стороны, не стремитесь определить по внешним признакам своего амплуа, но дайте себе время отойти от привычной вам установки жить и действовать вовне. Поймите всю творческую жизнь как слияние своей внутренней и внешней жизни воедино и начните упражнения легко и весело. Студия – это место, где человеку надо научиться наблюдать свой характер, свои внутренние силы, где ему надо выработать привычку мыслить, что я не просто иду по жизни, но что я так люблю искусство, что хочу творчеством, через и из себя, всем людям наполнить день радостью и счастьем моего искусства. В студию не должен был бы идти тот, кто не умеет смеяться, кто вечно жалуется, кто всегда уныл и привык плакать и огорчаться. Студия – это как бы преддверие храма искусства. Здесь должна бы сиять каждому из нас надпись огненными буквами: «Учись, любя искусство и радуясь ему, побеждать все препятствия». Если набирать в студию малокультурных и малоспособных людей только потому, что они стройны и высоки ростом, имеют хорошие голоса и ловки, то студия выпустит еще десятки неудачников, которыми сейчас и так завален рынок актеров. И вместо радостных тружеников, которые преданы искусству, потому что они любят его, наша студия выпустит людей интригующих, не имеющих желания войти своим творчеством в общественную жизнь своей страны как ее слуги, желающих стать только господами, которым их родина должна служить своими драгоценными россыпями и копями.
Нет оправдания и тем людям, кто ставит выше всего реноме своей студии, а не те входящие в нее живые сердца, для которых всякая студия существует. Тот, кто учит в студии, должен помнить, что он не только заведующий и учитель, он – друг, помощник, он тот радостный путь, на котором его любовь к искусству сливается с любовью к нему в пришедших учиться у него людях. И только на этой почве, а не на личном выборе, учитель должен вести их к единению с собой, друг с другом и со всеми другими преподавателями. Только тогда студия составит тот начальный круг, где царит доброжелательство друг к другу и где со временем сможет выработаться гармоничный, т. е. отвечающий своей современности спектакль.
Беседа четвертая
Если бы можно было себе представить идеальное человечество, требования которого к искусству были бы так высоки, что оно отвечало бы всем запросам мысли, сердца, духа действующего на земле человека, – само искусство было бы книгой жизни. Но эта пора развития еще далека. Наше «сейчас» ищет в искусстве направляющий ключ к жизни, как наше «вчера» искало в нем только развлекающих зрелищ.
Что должен театр давать нам в современной жизни? Прежде всего не голое отображение ее самой, но все, что в ней существует, отображать во внутреннем героическом напряжении; в простой форме как бы будничного дня, а на самом деле в четких, светящихся образах, где все страсти облагорожены и живы. Самое ужасное для театра – это такая театральная пьеса, где выпирает тенденция, навязывание идей и притом не живым людям, а манекенам, измышленным за своим столом без любви, горячей любви к тем сердцам человеческим, которые автор хотел изобразить в своей пьесе.
Если ценность всей жизни человека на сцене определяется его творчеством, т. е. гармоничным слиянием его мысли, сердца и физического движения с каждым словом, то ценность пьесы прямо пропорциональна любви автора к сердцу изображенных им лиц.
У великого автора трудно разобрать, кого из персонажей своей пьесы он любит больше. Все – живой трепет его сердца, все, великие и гнусные, – все сложились не в воображении только когда мысль творила, а сердце наблюдало молча, как некто в сером, стоящий в стороне; у него и мысль и сердце сжигали себя, и в себе самом ощущал он все величие и ужас человеческих путей. И только тогда из-под пера его выливалось и высокое, и низкое, но всегда живое, и это живое всякий истинный театр – не театр-себялюбец, а театр, работающий для своей современности, – может перелить во внешние действия героев пьесы.
Чем же нам, студийцам, руководствоваться, выбирая пьесу? Если ваше сердце студийца полно понимания ценности своей земной творческой жизни, то оно полно и первой любовью человека – любовью к родине. И, выбирая пьесу, вы будете искать в тех людях, которых изобразил вам автор, полноты человеческого образа, а не однобокости. Вы будете стараться, чтобы пьеса не была несносным подражанием тем или иным классическим образцам, а отображала жизнь; тогда и вы сможете отразить ее через себя на сцене как кусок жизни. Пусть имя автора никому не известно, но изображенные им в пьесе люди не сколки с каких-то штампов, а живые люди; в них вы можете отыскать всю гамму чувств и сил человеческих, начиная со слабости и кончая героизмом. Лишь бы это не были трафаретные идеалы, перед авторитетом которых надо преклоняться, потому что они поколениями так-то и так-то «игрались»!
Ищите всегда себя, как такой-то образ в пьесе. Если вы тот или та, какие ваши органические чувства?
Скажем, вы отыскали пьесу, отражающую тот или иной кусок жизни. Над чем должно работать театру, когда выбрана новая пьеса? Не на эффектах ее или тенденции надо останавливаться; ни тем, ни другим вы не привлечете зрителей и не перебросите им ни мужества, ни героической мысли, ни чести, ни даже красоты. В лучшем случае вы получите удачную агитационную пьесу; но это не задача серьезного театра, это только момент того или иного включения театра в утилитарную потребность текущего часа.
Только то, что может остаться в пьесе, как зерно вечно чистых человеческих чувств и мыслей, только то, что не зависит от внешнего оформления и будет понятно каждому, во все века, на всех языках, то, что может единить турка и русского, перса и француза, в чем не может ускользнуть красота ни при каких внешних условностях, как, например, чистая, сияющая любовь Татьяны, – только это должен отыскать театр в пьесе. И тогда не страшно, что театр заблудится. Он не может заблудиться, потому что пошел в путь исканий не «себя», «своих» реноме и установок, но захотел быть как бы волшебным фонарем, отражающим жизнь, – звучащим и радостным. Он дал себе задачу облегчать восприятие красоты тем людям, которые могут легче осознать ее в себе и себя в ней через театр; тем, кто, живя в своем простом дне, способен осознать себя творческой единицей жизни с помощью идей, брошенных со сцены.
Начало работы над пьесой – самый важный момент. Здесь начинает определяться вся ценность пьесы для жизни тех людей, которые когда-то придут в театр смотреть спектакль, здесь закладывается тот камень, на котором должна выстроиться волшебная сказка любви одаренных театральных людей к людям, хотя и тоже одаренным, но звучащим иной гаммой творчества.
Из чего можно создать эту волшебную, чарующую сказку жизненной правды на сцене? Если нет первого условия для этого, – нет между начинающими пьесу, между ее будущими актерами и режиссерами любви, бодрости, энергии, взаимного уважения и единения в них, если нет единения в идее передать все самое высокое, прекрасное и чистое, для того чтобы стать проводниками энергии и красоты всем, кто войдет в театр как зритель, – вы не поднимете пьесу выше шаблона «хороший спектакль». Раз вы выбрали путь творчества, вы только тогда достигнете результатов, когда станете все одной семьей. Путь тех, кто идет трудом театра, не похож на пути остальных людей. Те, кто идут не в красоте сцены, могут иметь какую-то двойную жизнь. Для них может быть личная жизнь в семье, не разделяющей жизни их дела, может быть тысяча дел, где семья может принимать ту или иную степень участия. Но артист – это тот, для кого театр – его сердце. Его текущий день – дело театра. Служение родине – его сцена. Любовь и постоянный творческий огонь – его роли. Здесь его родина, здесь его упоение, здесь его источник вечной бодрости.
Нельзя думать, что театр – это какая-то секта посвященных, что он оторван и отъединен от жизни. Все дороги человеческого творчества ведут к выявлению жизни, как «все дороги в Рим ведут». И Рим каждого человека один и тот же: каждый все свое творчество носит в себе, все выливает в жизнь из себя. Нельзя создавать внешних сект из театров. Те театры, в которых умирает внутреннее сознание зерна, живущего одинаково в каждом человеке, бросаются во внешнее фиглярство, во внешнюю манерность: то ищут сцены без занавеса, то ищут массового уподобления в действии, то перекраивают вверх ногами декорации, то ищут фальшивой ритмики действий, – и все попадают впросак, так как двигающей их пружины – общей и понятной всем – нет.
Ритмика – дело великое. Но чтобы на ней создать весь спектакль, надо самому понять, где и в чем смысл ритма.
Театры, в зависимости от руководителей, могут и должны идти разными путями. Но внутренними, а не внешними. Внешние приспособления будут следствием, результатом внутреннего пути и выльются так или иначе, в зависимости от того, как будет понята актерами и руководителями основа творчества.
Если руководители думают, что однажды и навсегда поняли свой путь театра, если они не движутся вперед в ритме текущей жизни и не меняются в своих внешних приспособлениях, держась за единое, хотя и тоже вечно движущееся, но в то же время неизменное ядро жизни, т. е. любовь к человеку, – они не могут создать театра – слугу своего отечества, театра значения векового, театра эпохи, участвующего в созидании всей жизни своей современности.
Мне часто приходится слышать, что меня упрекают в чрезмерной требовательности к артисту, в требовании почти подвижничества от человека, который отдал себя театру, искусству.
Первое, в чем заблуждаются те, кто упрекает меня в желании видеть в артисте подвижника, – это недостаточный анализ, что следует подразумевать под словом: «артист».
Артист, как всякий художник, имеет талант. Он уже отмечен повышенной эмоцией, уже принес творящее зерно, хотя в его приходе, в той же голой, беспомощной и нищей форме, в которой приходят все на землю, никто еще не угадывает его внутреннего богатства.
Человек, имеющий талант, уже обречен подвигу творчества. В нем горит тот огонь, который будет его толкать всю жизнь, до последнего вздоха, к творческой эмоции. В жизни каждого человека, одержимого талантом, важна именно эта творческая сила, держащая человека в своих объятиях и говорящая ему: «Ты мой».
Здесь нет различий: артисты драмы, певцы, художники, скульпторы, поэты, писатели, музыканты. Условных разграничений здесь не существует.
Разграничения приходят по мере развития сознания человека, его воли, высоты его нравственных устоев, его вкусов, широты понимания своей эпохи, общей культуры и цивилизации народов.
Различия между артистами создаются так, как развивается в человеке его органическая, неповторимая индивидуальность.
На ней и вокруг нее и наслаиваются бытовые и общественные круги жизни, условные, привходящие жизненные обстоятельства, т. е. то, что мы в роли называем «предлагаемыми обстоятельствами».
Несомненно, каждый, кто принес с собой на землю талант, живет под его влиянием. Вся деятельность идет по путям, которые создает талант в человеке, и истинный талант пробивается к творчеству решительно во всех «предложенных» жизнью обстоятельствах.
Никогда не верьте, если кто-либо говорит, что тяжелая жизнь задавила в нем талант. Талант – это огонь, и задавить его невозможно не потому, что не хватило огнетушителей, а потому, что талант – это сердце человека, его суть, его сила жить.
Следовательно, задавить можно только всего человека, но не его талант. И тут, как всюду, во всех отраслях творчества; для одних талант будет ярмом, и человек будет его рабом. Для других он будет подвигом, и человек будет его слугой. Для третьих он будет радостью, счастьем, единственно возможной формой жизни на земле, и человек в блеске, в мудрости своего таланта будет преданным слугой своего народа.
Каждому артисту надо разобраться и точно понять, в полной ясности: подвига для артиста-творца в искусстве быть не может. Все творчество – это ряд утверждающих жизнь положений.
Как только в творчество входит элемент отрицания, волевого приказа, так творческая жизнь остановилась. Нельзя достигать вершин творчества, думая о себе: «Я отказываюсь от жизни, от ее утех, от ее красоты и радостей, потому что подвиг мой – жертва всем искусству».
Как раз наоборот. Никакой жертвенности быть в искусстве не может. В нем все увлекает, все интересно, все захватывает. Вся жизнь влечет к себе. В ней кипит художник. Его сердце раскрыто для перипетий, коллизий, восторгов жизни; и существовать в подвиге вроде монашеского ордена отказа от жизни художник не может.
Художника подвиг – раскрывание тайн творческой жизни, указание не одаренному человеку толпы того величия, что артист подсмотрел в природе вещей. Артист – это сила, отражающая все сокровенное природы людям, лишенным дара самостоятельно видеть эти духовные сокровища.
Теперь вам ясно, что если у артиста и есть подвиг, то это его внутренняя жизнь. Подвиг артиста живет в красоте и чистоте сердца, в огне его мысли. Но это отнюдь не приказ воли, не отрицание и отвержение жизни и счастья. Это раскрывание людям блестящих глубин, великих истин.
Вот как много я наговорил вам о высокой миссии артиста-творца. Хочется мне еще раз вернуться к вопросу о том, как вы готовитесь к этой высокой миссии, т. е. к творчеству.
Представьте себе, что каждый из вас состарился сразу на 25 лет, и жизнь ввела вас примерно в такие же условия, как мои в данную минуту. Вы занимаетесь с какой-то группой артистов по моей «системе».
Как вы будете добиваться такого сознания в артисте, чтобы он понял, что его творческое состояние – не шапка-невидимка, которую можно всегда держать наготове в кармане и вынимать в тот момент, когда надо очутиться на подмостках и «быть» готовым к творчеству.
Не раз я вам говорил, что все, что подбирает артист красочного в жизни, все, чему учится, чего достигает в своем расширяющемся сознании, – все только путь к более гибкому раскрепощению своего творческого «я» от тисков бытового, эгоистического «я».
А это маленькое, эгоистическое «я», т. е. страстные, злобные, раздражительные побуждения, тщеславие и его спутник – жажда первенства, – разве оно молчит? Оно тоже держит человека крепко.
Эта борьба в самом себе совершенно так же, как борьба полезного и вредного во внимании и воображении, лежит в основе достижений артиста. Если для работы над ролью нужен целый ряд видений, то для работы над собой – в борьбе высокого и низкого в самом себе – артист должен найти гораздо более сложные киноленты. Артисту-творцу должна быть ясной не одна цель: войти в полное самообладание, в то спокойствие, которое предшествует творчеству. Он сразу, одновременно должен видеть перед собой и вторую цель: разбудить в себе вкус к жизни в искании прекрасного, вкус к длительному труду над своими ролями и образами без раздражения, в доброжелательстве к людям, во внутреннем переживании всей текущей жизни как величайшей красоты.
Ценность роли и всего того, что артист вынес на сцену, всегда зависит от внутренней жизни самого артиста, от создавшейся в нем привычки жить в хаосе или в гармонии.
Постоянная хаотическая торопливость, набрасывание то на одну роль, то на другую; сутолока в ежедневных занятиях, неумение достигнуть в них дисциплины переносятся, как дурная привычка, вовнутрь и становятся атмосферой самого артиста в его творчестве.
Все это относится к воспитанию, вернее к самовоспитанию артиста, и каждому талантливому необходимо понять, что работа, над ролью будет прямым отражением работы над собой. Идут ли занятия в фойе, на сцене или в репетиционной комнате, важна не та ступень, на которой находятся сейчас сами занятия, т. е. считка ли это, разбор роли, первые сценические репетиции, а важно, что в душе у артиста. Какими мыслями он жил, когда шел на репетицию, какие образы сопровождали его в театр.
Если ему шептал талант: «Ты мой», – артист сможет встать в ту красоту, в то прекрасное, что пленит со временем зрителя. Если же одни инстинкты его эгоизма кричали ему: «Ты наш», – в нем самом не могут открыться пути к творчеству. Искусство берет всего человека, все его внимание. Нельзя отдавать ему клочки жизни, а надо отдавать всю жизнь.
Можно подумать, что как раз здесь я и предъявляю ту требовательность, в которой некоторые меня упрекают, говоря, что я хочу сделать из артиста подвижника. Но я уже объяснил вам, что я подразумеваю под талантливым артистом-творцом. Добавляю к моему определению еще один, не менее важный, чем все остальные, элемент творчества: вкус. Вкус артиста определяет всю его жизнь. Достаточно увидеть человека, его походку, манеру одеваться, говорить, есть, читать, чтобы составить себе понятие о вкусе человека, о том, что он больше всего любит.
Есть артисты, больше всего на свете любящие окружающую их безукоризненную, педантичную, мелочную аккуратность. Вся жизнь идет по размеренным клеточкам, и не дай бог сдвинуть в их квартире что-нибудь с установленного места. Человек может быть и добр и даже способен на довольно большой масштаб дел и в театре, и дома. Но его убогий излом всюду встает перед ним. Если табуретка поставлена на сцене на сантиметр дальше или ближе, если занавес на окне не пришелся точно по указанной линии, – артист или режиссер этого порядка способен совершенно выключиться из искусства и окунуться в раздражительность быта.
Вкус определяет не только внешнюю жизнь, но и весь внутренний быт человека, те его порывы, в которых превалирует или мелкое, условное, или же органическая потребность в высоких эмоциях.
Чтобы артист мог дойти до такого состояния, когда за рамкой зритель увидит творца в экстазе – через сознательное попадающего в подсознательное творчество, – для этого артист должен обладать вкусом к прекрасному, вкусом, создающим его жизнь не только из обычных, необходимых в простом дне сил, но и из героических напряжений, без которых ему жизнь не мила, а сцена, как арена творчества, недоступна.
Вкус переносит человека через все препятствия быта, через все мещанские привычки, кажущиеся главными в потребностях обывателя. И только потому, что вкус мчит человека-артиста в прекрасное, он и может достичь того энтузиазма, тех повышенных порывов, где ему удается почувствовать себя в состоянии: «Я – роль», и смело сказать зрителю: «Я есмь».
Это все те глубины человеческой психики, на которых зиждется преемственность живого искусства. Бывали печальные периоды, когда живое искусство уходило, и его подменяла сухая, мертвая форма. Но оно снова оживало, как только появлялись художники, вкус которых к жизни в искусстве доводил их любовь до полной самоотверженной преданности ему, до великой отдачи святыни сердца на служение искусству.
В моей системе, по которой я веду занятия с вами, я стремлюсь увлечь вас в путь исследования в вас самих ваших творческих сил. Я хочу разбить ваши штампы и дать вам новые начала творчества, спасающие артиста от омертвения. Часто артист думает, что палитра его красок – блестящий, сверкающий плащ. А на деле это просто старый халат, где видно множество пятен с разлезшимися во все стороны красками из затасканных штампов.
Желаю вам всем поскорее отделаться от всяких наигрышей и быть всегда живыми в ваших ролях. Быть всегда одетыми в плащи из переливающихся правдивых чувств и мыслей. Этим вы не только заставите зрителей быть внимательным ко всему, что делается на сцене, но и во всех ваших песнях будет мысле-слово-звук, и я скажу вам, вместе со зрителями: «Верю».
Беседа пятая
Каждому человеку, который хочет стать артистом, надо ответить себе на три вопроса:
1. Что подразумевает он под словом «искусство»? Если в нем он видит только себя, в каком-то привилегированном положении относительно рядом идущих людей, если в этой мысли об искусстве он не ищет выявить того, что его беспокоит внутри, как едва осознаваемые, бродящие в потемках души, но тревожащие его силы творчества, а просто желает добиться блистания своей личности; если мелочные буржуазные предрассудки вызывают в нем желание победить волей препятствия для того только, чтобы раскрыть себе внешний путь к жизни, как фигуре заметной и видной, – такой подход к искусству – гибель и самого человека, и искусства.
Студия, набирая кадры, должна четко разбираться, кого она может воспитать и над кем все ее усилия духовного воспитания не приведут к желанному концу, т. е. к рождению нового сознания в артисте, где творческий труд его будет путем труда для общего блага.
2. Зачем входит человек, выбравший какое бы то ни было искусство – драму, оперу, балет, камерную эстраду, художество красок или карандаша, – в артистическую отрасль человечества?
Если он не осознал, сколько страдания, борьбы и разочарований встанет перед ним, если он видит только радужный мост, переносящий его вдохновением по ту сторону земли и жизни, где живут мечты, – студия должна его разочаровать.
С первых же моментов учащийся должен понять, что великий труд, труд на земле, для земли, а не над нею, будет его руководящей нитью, его пламенем, его путеводным огнем.
Студия должна отыскать каждому его внешние приспособления и развить внимание к силам, в нем самом живущим. Ее первейшая задача – неотрывно следить за работой студийца. Бесконтрольная работа учащегося, применяемая им самим к своим художественным задачам, – всегда заблуждение, всегда сеть предрассудков, из которых потом выбиться гораздо труднее, чем в них войти. Студиец с первых шагов должен знать, что только труд – до конца не только внешней «карьеры», но труд до смерти – будет путем, который он себе выбирает; труд должен быть источником той энергии, которой в ряде увлекательнейших задач студия должна наполнить мозг, сердце и нервы ученика.
3. Есть ли в сердце человека, идущего в театр, такое количество неугасимой любви к искусству, которое могло бы победить все препятствия, непременно встающие перед ним? Студия на живом примере воздействия своих руководителей должна показать, как поток неугасимой любви к искусству в сердце человека должен быть пролит в дело дня. И это творческое дело может, должно гореть костром. Только тогда, когда маслом, разжигающим костер, будет любовь человека, – только тогда можно надеяться победить все встающие на пути творчества препятствия и достичь цели: освобожденного от условностей, чистого искусства, которое создано чистыми творческими силами, развитыми в себе. Только тогда и можно найти гибкость актерской воли, свободное сочетание глубокого понимания основы – зерна роли – и сквозного ее действия, когда любовь к искусству победила личное тщеславие, самолюбие и гордость. Когда в сознании и сердце живет понимание гармонии сценической жизни, только тогда – в отрешенном от «я» действии – можно подать истину страстей в предлагаемых обстоятельствах.
Студия должна подвести путем упражнений по моей системе к отрешению от «себя», к переключению всего, цельного внимания к предлагаемым автором или композитором условиям, чтобы отразить в них истину страстей. Но да сохранят все великие силы жизни каждую студию от того, чтобы в ней водворились скука и педантизм. Все тогда погибло; тогда лучше разогнать студию, преподавателей и студийцев, уничтожить весь механизм. Это только порча юных сил, навеки исковерканные сознания. В искусстве можно только увлекать. Оно, я повторяю постоянно, – костер неугасимой любви. Преподаватели, которые жалуются на усталость, не преподаватели, они – машины, работающие для денег. Кто набрал десять часов занятий в день и не сумел жечь своей любви в них, а только волю и тело, – тот простой техник, но мастером, учителем юных кадров он никогда не будет. Любовь потому и священна, что никогда не умаляется ее огонь, сколько бы сердец она ни зажгла. Если учитель лил свое творчество – любовь, он не заметил часов труда, и все его ученики их не заметили. Если учитель отбывал необходимость жизненного быта, его ученики скучали, уставали и прозябали вместе с ним. И искусство в них, вечное, каждому присущее и в каждом живущее как любовь, не проникло сквозь пыльные окна условностей дня, а осталось тлеть в сердце.
Каждый час, каждая минута единения учителя и учеников должна быть только летящим сознанием, вечным движением; в ритме окружающей жизни.
Чувство-мысль-слово как духовный образ мысли должно быть всегда проявлением правдивости, законом умения передать факты так, как человек их видел. Правдивость и любовь – два пути, вводящие в ритм всей жизни искусства.
Студия должна вызвать к жизни правдивость в человеке и его любовь, заботливо растить и культивировать их. И, чтобы ввести в путь наблюдения над собой, студия должна ввести правильное дыхание, правильное положение тела, сосредоточенность и бдительное распознавание.
На этом основана вся моя система. На этом должна начинать студия воспитание кадров. И первые уроки дыхания должны быть основой для развития того интроспективного внимания, на котором надо строить весь труд в искусстве.
Часто, очень часто я говорю вам о воспитанности актера. Почему я так часто останавливаюсь на этом? Потому что считаю воспитанность актера одним из элементов творчества. Из чего же она слагается и что нам надо под нею подразумевать? В каких плоскостях она соприкасается с творчеством как его элемент?
Под воспитанностью актера я понимаю не только конгломерат внешних манер, шлифовку ловкости и красоты движений, которые могут быть выработаны тренингом и муштрой, но двойную, параллельно развивающуюся силу человека, результат внутренней и внешней культуры, который создает из него самобытное существо.
Почему же я считаю таким важным моментом в творчестве артиста воспитанность, что даже называю ее одним из элементов творчества?
Потому что ни один человек, не дошедший до высокой точки самообладания, не может выразить в образе всех его черт. Если самообладание и внутренняя дисциплина не приведут артиста к полному спокойствию перед творчеством, к гармонии, в которой артист должен забыть о себе как о личности, и уступить место человеку роли, – он все изображаемые им типы будет красить красками своей самобытности. Начать творчески беспокоиться жизнью роли он не сможет. В каждую роль он будет переносить свое личное: раздражение, упрямство, обидчивость, страх, неуступчивость или нерешительность, вспыльчивость и т. д.
Гармония, о которой должен думать актер, т. е. его творящее «я», приходит результатом полной работы организма, работы и мысли, и чувства. Актер-творец должен быть в силах постигать все самое великое в своей эпохе; должен понимать ценность культуры в жизни своего народа и сознавать себя его единицей. Он должен понимать вершины культуры, куда стремится мозг страны, в лице его великих современников. Если артист не обладает огромной выдержкой, если его внутренняя организованность не создаст творческой дисциплины, уменья отходить от личного, где же взять сил, чтобы отобразить высоту общественной жизни?
Когда я готовил роль Штокмана, в пьесе и роли меня увлекали любовь Штокмана и стремление его к правде. От интуиции, инстинктивно, я пришел к внутреннему образу со всеми его особенностями, детскостью, близорукостью, говорившей о внутренней слепоте Штокмана к человеческим порокам, к его товарищеским отношениям с детьми и женой, к веселости и подвижности. Я почувствовал обаяние Штокмана, которое заставляло всех соприкасавшихся с ним делаться чище и лучше, вскрывать хорошие стороны своей души в его присутствии.
От интуиции я пришел и к внешнему образу: он естественно вытекал из внутреннего. Душа и тело Штокмана и Станиславского органически слились друг с другом. Стоило мне подумать о мыслях или заботах доктора Штокмана, и сама собой являлась его близорукость, я видел наклон его тела вперед, торопливую походку. Сами собой вытягивались вперед второй и третий пальцы как бы для того, чтобы впихивать в самую душу собеседника мои чувства, слова, мысли…
Основа всей жизни и творчества артиста – невозможность разделить свое житейское «я» от актерского «я». Если актеру не всегда легко выявить зрителю и разыскать нужную внешнюю форму для своих героев, то ему всегда легко понять, проникнуть в глубину раскола, драмы изображаемого образа, если он достиг творческого, устойчивого самообладания. Чем выше самообладание артиста, тем ярче сможет он отобразить порывы к красоте или тягу к падениям, взлеты к героическим напряжениям или дно пороков и страстей.
Сила актера, его способность подниматься к героике чувств и мыслей вытекают непосредственным результатом его воспитанности. Воспитанность, как самообладание, как творящее начало в жизни актера, стоит на той же высоте, что и элемент творчества – любовь к искусству.
Сколько бы ни подымался артист в творчестве, преградой будет стоять не только его культура как человека образованного или невежды, но и его способность входить в героическое напряжение.
В него входят только те, кто может найти полное устойчивое самообладание. Это самообладание, как элемент творческий, приходит к тем артистам, у которых личные страсти вроде зависти, ревности, соперничества, жажды первенства уже упали. На их месте выросло увлечение искусством, самоотверженная радость, что есть возможность пронести с подмостков театра великие порывы человеческой души и показать их, а не себя зрителям.
Тогда-то и зажигается в актере тот огонь, который сливает его и зрительный зал в единое целое. Тогда артист становится не избранником для кого-то, но признанным сыном своего народа, в котором каждый из зрителей узнал лучшие части самого себя, страдал или плакал, радовался или смеялся, всем сердцем участвуя в жизни человека роли.
Каков же путь работы артиста над самим собой, чтобы достичь этой мощи: слить сцену и зрительный зал в единое целое?
В самом артисте его культура чувства и мысли должна быть слита воедино. Это единое самосознание и вводит в начальные ступени творчества.
Как можно приобрести это единое сознание, приходящее результатом любви к искусству и самообладания? Можно ли достичь его потому, что я сказал артисту: «Думайте так»?
Нельзя поднять сознание артиста на другой уровень чужой волей.
Только гармонично развивающийся артист может самостоятельно, через собственный опыт, достичь следующей, высшей ступени расширенного сознания.
В чем же тогда роль каждого, и моя в том числе – учителя, – если опыт одного в этой области ничему не учит другого? Мы наблюдаем во всех отраслях науки, техники, медицины, как опыт одних становится преемственной, наследственной ценностью следующих поколений. Только в искусстве да, пожалуй, в самой жизни люди не желают принимать опыта близких людей, любовно предупреждающих о заблуждениях и иллюзиях.
Я стремлюсь ввести вас в более высокое понимание творчества и на сцене, и в жизни. Что же мне надо для этого сделать? Я должен не только указать вам, артистам, природу творческого чувства и его элементы. Я должен выбросить на поверхность всю ту руду, которую я за свою жизнь раздобыл, и показать вам, как я сам достигаю в каждой роли не результатов, а ищу самый путь, т. е. как я копаю мою руду.
Целым рядом занятий и упражнений на сосредоточенность, внимание и создание в них круга публичного одиночества я привел вас к пониманию двух основных линий в творчестве: работа над собой и работа над ролью.
Раньше, чем начать сосредоточиваться на определенной роли, раньше, чем создать круг внимания, раньше, чем начать включать в него те или иные новые «предлагаемые обстоятельства» данной мне роли, я сам должен освободиться от всех пластов и слоев той жизненной, бытовой энергии, которая налипла на мне за сегодняшний день, вплоть до часа, когда я начинаю свое творчество. Я жил до этой минуты просто как член того или иного общества, того или иного города, улицы, семьи и т. д.
«Если» я не разорву цепей всех своих предлагаемых обстоятельств дня, «если» не освобожусь от моих условностей так, чтобы во мне проснулось сознание: «Кроме того, что я единица всех этих моих обстоятельств дня, я еще единица всей вселенной», – то я не буду готов целиком к восприятию роли, к выявлению в ней органических, общечеловеческих чувств.
Чтобы вылить в публику энергию, сосредоточенную в роли, надо сбросить с себя всю ту энергию, что рождалась только моими обстоятельствами жизни. Когда же я сброшу с себя всего легче и проще мои условные обстоятельства? Как войду всего скорее в новые предлагаемые условия?
В искусстве «знать» – значит уметь. То знание «вообще», которое наполняет мозг наблюдениями и оставляет холодным сердце, никуда не годится для артиста-творца, артиста, переживающего все то, что чувствует герой его роли.
Беседа шестая
Студия – не место для случайного прохождения ролей. Сюда нельзя прийти с желанием в такое-то время или для такой-то необходимости, продиктованной случайными обстоятельствами, пройти ту или иную роль, потому что в эту минуту движущаяся жизнь загнала в тупик и стали нужны режиссерские указания, и отсюда вылилась тяга к посещению студии.
Студиец – это тот, кто в своем искусстве видит дело своей жизни, тот, для кого студия – семья. Когда студиец приходит на занятия, он не может думать о своих личных делах, неудачах и испытаниях дня; он, уже подходя к студии, должен переключиться на мысли о своей работе и стремиться прочь от всякой другой жизни. Входя в студию, он должен заключить себя в круг красоты, высоких, чистых мыслей о своей работе и радоваться, что есть место, где он может объединиться с такими же стремящимися к красоте людьми, как он сам.
Студиец – это то развитое сознание человека, где идея любви к искусству, становясь руководящим началом, ставит всех общающихся с ним не в сухое – от мозга и напряжения, от философических исканий – единение, а где простое знание красоты в себе дает знание ее в каждом и вводит во взаимное уважение и доброжелательство. Придя в студию, не пустыми разговорами со своими товарищами надо заполнять время, но помнить, как драгоценны пролетающие и невозвратные часы той поры молодости, когда энергия кажется несокрушимой и сил непочатый край.
Внимание к каждой летящей минуте! Внимание к каждой встрече! Самое тщательное внимание к унылости в себе! Если уныние овладело сегодня духом человека, то не только сегодня, но завтра и послезавтра, творческие занятия не удались. Всем своим поведением в течение рабочих часов в студии студиец должен сам развивать лучшие качества своего характера, и на первом месте – легкость, веселость и бодрость.
Трагическая мина, героическая внешность, желание выработать в себе внешний «стиль» своего амплуа – все это устарелая театральная дребедень, которую давно надо выбросить из числа артистических взглядов.
Внутри себя надо жить всей полнотой чувств и мыслей и все время строить новое, звучащее нотами современности сознание. На глубину и чистоту своих мыслей надо направить все свои усилия, на творчество сердца в каждую летящую минуту надо привлекать внимание. И тогда тот «круг публичного одиночества», в котором должен творить артист, будет всегда создаваться легко, радостно и просто.
Привычка быть внимательным ко всем моментам жизни на сцене и вне сцены привьет студийцу сознательную наблюдательность над всем внешним и внутренним. Он поймет, постепенно и правильно руководимый учителями студии, что для начала творчества нужны:
1) внимание, внешнее и внутреннее;
2) доброжелательство;
3) полный мир и спокойствие в себе самом;
4) бесстрашие.
Если студия с первых же шагов не сдержит вздорного характера, обидчивости, истеричности, зависти и недоброжелательства студийцев, – она не выпустит не только больших артистов, она даже не создаст артистов просто хороших, умеющих привлечь рассеянное внимание публики.
Чем крепче круг публичного одиночества артиста, чем выше его внимание и мысль несутся, отыскивая прекрасное в себе и в окружающих, тем больше обаяние артиста, тем дальше понесутся его вибрации творчества и тем сильнее его воздействие на зрительный зал. Студия должна открывать одну за другой тайны творчества ученику, и первая из них: чем талантливее он сам, чем в нем самом больше творческих сил, чем шире гамма его внутренних духовных пониманий, тем больше прекрасного он находит в других. А если он видит много прекрасного вокруг, если его внимание улавливает в каждом человеке какую-то ценность, – богаче становится его творческий круг, ярче искры его энергии, больше и шире его возможности отражать всю жизнь на сцене.
Самый тяжелый камень преткновения для творчества артиста – это склонность так направлять свое внимание, чтобы всегда видеть в соседях плохое, выпирающие недостатки, а не скрытое в них прекрасное. Это вообще свойство мало способных и мало развитых художественно натур – всюду видеть, плохое, всюду видеть преследование и интриги, а на самом деле не иметь в себе достаточно развитых сил прекрасного, чтобы повсюду различать и вбирать его в себя. Потому и образы их однобоки и неправдивы, так как людей без прекрасного нет, – его надо только ощутить и понять.
Переключение своего внутреннего внимания, сначала трудное, постепенно становится привычным. Привычное – не сразу, а постепенно – становится легким и, наконец, легкое – прекрасным. Тогда только прекрасное в себе начинает вызывать ответные вибрации прекрасного в каждом человеке, и путь для сцены, как отражения жизни, в артисте готов.
Без такой глубочайшей, добровольной подготовки самого себя нельзя стать актером – отражателем ценностей человеческих сердец. Надо самому уметь раскрыть свое сердце всем встречам жизни, каждой из них научиться отдавать свое творческое внимание, и тогда и к образам героев пьесы готов в артисте путь, готовы силы изобразительности в голосе, в походке, в манерах, потому что внутри себя готово правильное ощущение, готова не только мысль, но и сердце к восприятию всего человека, которого надо отобразить собой. Мысль-чувство-слово, как на привычный валик, накатывается на внимание к тому, кого надо изобразить сейчас. Вся любовь передвигается на героя пьесы, и он становится неотделим от самого себя.
Студия на первых же порах должна бороться со страхом и волнением своих учеников. Надо в каждом отдельном случае и на общих занятиях посвящать немало часов борьбе с этим. Надо разъяснять, что все эти волнения, чисто актерские, исходят из самолюбия, тщеславия и гордости, из боязни оказаться хуже других. Необходимо артисту указать, что надо освободить свои внутренние силы, чтобы они стали гибки и имели возможность принять в себя те задачи, которые продиктованы ролью в данный момент. Жажда первенства, как и упомянутые личные чувства, должна быть изжита как кастовый предрассудок. В студии все равны. Все – одинаково творческие единицы. И диапазон таланта, дающий одному возможность играть первые роли, другому вторые, – внешние условности. Завтра чьи-то внешние данные могут поколебаться, он может захворать и потерять глаз, голос или захромать, и из любовников стать второразрядным актером по ролям. Но изменился ведь только характер и диапазон его ролей.
А изменялся ли его дух и талант? Если он принял свой удар бодро, как препятствие, которое его любовь к искусству победила, его талант может еще шире и глубже развиться, потому что его любовь к искусству победила чисто случайный момент – его внешнее несчастье, и он может в какое-то завтра получить роль замечательную в другом амплуа и привлечь внимание публики еще больше, потому что он поднялся в своем несчастье до героического напряжения. Героическая эпоха нашей жизни требует и актера другого. В каждом артисте, слуге своего государства, любящем сыне своей родины, должна быть та сила отрешения от личного, которая учит подниматься к героическому напряжению духа. Тот, кто сумел пережить личное несчастье и не изменил искусству, а остался в нем, приняв новую форму творчества не как проклятие рока, а как препятствие, которое необходимо победить своей любовью к искусству, тот сумеет пройти в глубину своих творческих сил и отыскать неизменное, органическое, всем общее в каждой из своих ролей. Образ роли такого артиста будет жив всегда, потому что и сердце его, страдая, поняло в себе самом и условное, и вечную любовь к искусству, поняло не сухую – от ума – идею творчества, но сочетало мысль и сердце в гармоничное целое.
Студия должна раскрыть и еще одну тайну творчества: что можно начать творить только в полном самообладании и спокойствии. Путем упражнений она должна подвести к такому самообладанию, когда артист гибко, легко и просто входит в круг публичного одиночества. Студия должна научить привлекать все внимание к группе тех или иных мышц и нервов, должна научить сосредоточиваться на той или иной мысли так, чтобы ничто вокруг не отвлекало внимания от взятого направления. Но если учителя студии не найдут легкого и радостного пути к преподаванию моей системы, если из нее получится скучнейший деспотизм, и веселый смех не будет раздаваться среди упражнений, – студия не станет храмом искусства, она просто будет обычным театральным убежищем для жаждущих себя показать и быть награжденными и оплаченными по высшей ставке.
Учитель, вносящий страх и трепет в студию вместо обаяния и радости, не должен в ней учить. Он вреден. Также и дирижер, не умеющий привлечь внимания – любви – в певцах и делающий указания в грубой и резкой форме, не должен быть в студии. Он только бессильный творческий человек, и потому ищет вовне выход своим основным чувствам: раздражению, личному предпочтению тех или иных; он не увлекается образами композитора и не разыскивает их, а ищет голые ноты в тех или иных людях.
Пренебрежение к артистам: кое-как поздоровался, одному кивнул, другого не заметил, но к нужным ему и видным почтительно подошел, – все это театральное каботинство должно быть изжито в студии и не может иметь места среди вас.
Крепко должна войти в сознание человека важнейшая из истин творчества: полное самообладание и спокойствие. Так надо войти в жизнь образа, чтобы не было Анны Карениной как исполняемой роли, а чтобы была такая-то женщина-актриса, живущая мыслями и понятиями Анны Карениной.
Сообщая вам свои мысли, я надеюсь, что в каждом из вас есть та любовь, которая научит вас пройти большую жизнь в искусстве. Не стремитесь в первые ряды, к отличиям и наградам, стремитесь в мир красоты.
Если однажды вы его в себе найдете, прожив хотя бы несколько часов в гармонии мысли и сердца на студийных занятиях, вы уже сумеете внести в жизнь сцены неоспоримые творческие ценности. И если они не попадут на сцену сегодня в вашем лице, то они не пропадут совсем, – они останутся в вашем подсознании и сегодня будут безмолвны, а завтра, в другой роли, вы их выбросите в жизнь и вызовете в окружающих вас ответный ток красоты.
Беседа седьмaя
Сегодня поговорим о самом артисте, сознательно начавшем развивать свои артистические силы в студии.
С чего должен он начать свои уроки? Какой подход должен быть к тому внешнему, что он будет получать и принимать как знания, формирующие его в определенную артистическую единицу?
В нем должно жить полное доверие к своим учителям. В нем должно жить не только радостное сознание, что он начал свой путь творчества, но полное сознание, что каждая минута его жизни – это развивающийся в нем огонь творчества. Если он не может понять целесообразность того или иного упражнения сразу, с первых же шагов, это не значит, что в его силах нет достаточного таланта, чтобы проникнуть в смысл этого упражнения. Это только значит, что его развитие в эту минуту недостаточно; но энергия, именно энергия радости, любви к искусству, а не уныние, сразу приводящее к отчаянию и слезам, и не злое упорство воли, приведет его к смыслу и пониманию пользы этого трудного упражнения через некоторое время.
Категорически невозможно делать машинально, механически какие-либо упражнения из моей системы. Категорически нельзя болтать слова попусту. Надо создать в себе привычку к ценности слова, надо наблюдать в себе те органические, а не условные свойства, какие вы хотите выявить в речи сочетанием смысла слов. Нельзя бросать слова, не осознав разницы их окраски. Ценность и гибкость слова живет в вашей интонации, условной и временной, которую вы приложили к голому понятию, рисуемому словом, потому что такова задача вашей роли сейчас.
Предназначение себя к карьере артиста – это, прежде всего, раскрытие своего сердца для самого широкого восприятия жизни. Артист, отдавший свой талант только воспроизведению фактов, которые он наблюдал, как бы он ни был талантлив, не может вносить в сердца людей той силы обаяния, которая заставляет зрителей плакать и долго помнить, что они видели и как они видели и слышали.
Только тот, кто очистил себя от влюбленности в свой талант, кто выработал в себе самообладание и доброжелательство к человеку в жизни, только тот может подметить в человеческих страстях как органические, общечеловеческие, так и случайные черты и сможет разделить их на мелкие, характерные для данной занимающей его сейчас личности-роли, и на черты неизменные, всегда присущие природе чувства. Но только любя человека роли, он может слить его с собой и проникнуть в то, что лежит под мелким и случайным и на чем надо строить всю сквозную линию роли. Характер роли нельзя разгадать, пока в своем сердце есть или недовольство ролью, или недовольство своим положением в театре, или мелкая зависть к положению другого актера, или наконец семейный разлад.
Все, что уводит силы внимания в сторону от роли и работы в театре или в студии, все, что мешает нам в окружении самого дела, – все это тупик для артиста. Весь талант при этих условиях в артисте не действует; интуиция, откуда льется истинный творческий темперамент, молчит, а действуют только инстинкты, откуда идет внешний наигрыш, та противная экзажерация, где только личная влюбленность в себя, а вовсе не роль, стоит на первом месте.
В этом состоянии достичь понимания сверхзадачи своей роли, всей пьесы, единства ее действия, соподчинения всех действующих в пьесе единству сквозного действия пьесы, нельзя. Здесь можно быть только выделяющимся пятном в хорошей, крепко спаянной внутренним единством труппе и яркой личностью, «держащей спектакль на своих плечах», как обычно выражаются обыватели, если человек действительно талантлив, – в плохой труппе.
Мерилом для применения в искусстве моей системы вовсе не является подбор одних исключительных талантов. Многие говорят о моей системе, что она – только для талантов; другие – что она давит таланты! И годна только для средних актеров, которым деваться некуда. Я же должен сказать, что так называемая моя система вовсе не моя, измышленная мною система, – она взята из жизни, из наблюдений над творящими силами людей и создана для живых людей, для тех людей, которые могут понять, что жить в искусстве – вовсе не значит искать высокого внешнего положения в нем, а значит отдать ему все свое самое высокое – любовь и благородство. Не может быть пути удачного в искусстве без любви к людям, без радости и общительности. Сидеть в своей скорлупе и думать: «какую драгоценную жемчужину я ношу в себе» – участь почти всех неудачников, участь тех, кто огорчается и обижается от каждого замечания режиссера, кому кажется, что его не поняли, не оценили, что его преследуют, тогда как на самом деле все происходит только от того, что он, мня себя великим, наполненным ценностью, весь вовне, в мелком самолюбии. И то, что он в себе считает огромной ценностью, на самом деле – фонтан мечтаний, обратившийся в фонтан разочарований и горечи.
Многое, над чем привык человек задумываться как над встающим препятствием в роли, – многое он недоглядел в себе и только в себе. Надо не усилиями вовне, увеличивая силу голоса, размах движений, быстроту речи, искать выхода, а в молчании прислушиваться к голосу своего подсознания. Продумать молча, в уединении, не удающиеся места сегодня, завтра, послезавтра, – и окраска слова, его ценность, его великое значение как понятия органического, его сила в случайно предлагаемых ролью обстоятельствах, как и ваша интонация, – все это вырисуется, станет простым, своим и легким. И те режиссерские указания, которых вы не принимали вчера, станут ясны, просты и понятны.
Беседа восьмая
Распространенное мнение, что театр – это клоака интриг и угнетения, складывается именно потому, что в нем, в театре, много людей, не только не талантливых, но даже неспособных, мало любящих искусство, но зато много любящих себя. Как они проникают туда, где, казалось бы, могут быть и действовать только любящие и творящие?
Условности жизни вроде протекции, родства, знакомства и приятельства и т. д. помогают проникнуть в студии и театры многим, не имеющим творческих данных. И эти-то люди разводят то болото, в котором потом неизбежно живет весь коллектив театра. Чем должны быть вы, студийцы, артисты вашего момента современности? Вы должны быть прежде всего живыми людьми и нести в своих сердцах те новые качества, которые должны помочь всем вам, современным людям, выработать в себе новое сознание. Какое же новое сознание должны вы развивать в себе? То сознание, в котором жизнь для общего блага не составляла бы только предмет мечтаний и несбыточных фантазий, но каждый из вас вносил бы бескорыстие в свои театральные дела и встречи. Сознание, при котором мир, а не интрига, честь, а не лицемерие, входили бы вместе с вами в студию.
Период восторженности, когда увлечение ведет к особенно сильной влюбленности в театр, в студию, в дело творчества, быстро угаснет, если в нем не будет силы радости от сознания, что у вас есть возможность передать все лучшие, сознательно вырабатываемые вами качества. Вы можете мечтать о красоте духа, которую вы передадите сегодня всем встретившимся вам товарищам. Вы прекрасно одеты, молоды, красивы, вы решили утром в своей умственной задаче, что непременно обогатите мир от своих красот. Вы радостно улыбаетесь, выходя из дому, весело представляете себе, как будете сейчас пленять сердца и взоры своей внешностью и талантом на репетиции в главной роли. И вдруг вы прочли, что репетируете сегодня главную роль не вы, а X, а второстепенную – вы. Все ваши благородные идеи мгновенно слетели; вы чернее ночи, едва кисло улыбаетесь, едва цедите слова роли, вовсе не столь уж и плохой, но не первой. Почему эта метаморфоза случилась с вами? Почему все ваши благие намерения мгновенно стали тем полом, которым «вымощен ад»? Просто потому, что в вашей задаче: «нести сегодня красоту» – была одна мысль, один ум, а сердце молчало; любви ни к театру, ни к искусству и труду вы в них не несли. Вы несли только влюбленность в свою особу. Потому и роль второстепенную вы стали воспринимать не как огонь, вливаемый вами в слово-мысль-образ, а как недостойное вас дело. Тех, кто внес вас сегодня в расписание не так, как вам хотелось, вы презираете и только о них и о ранах, нанесенных вашему самолюбию, думаете, машинально цедя слова роли.
Снова мы возвращаемся к первоначальной воспитательной задаче студии. Отчего все высшие учебные заведения нашей страны имеют кадры учащихся, не развращенных одной только показной стороной? Потому что там каждый учащийся готовится быть тружеником и не выдвигается толпой только потому, что он «понравился», а потому, что он может ей показать результаты своего труда объективными фактами, т. е. составить проект усовершенствованного водопровода, разыскать новое, редко попадающееся вещество, улучшить производство окраски и т. д. Студиец же, как труженик протекающего во времени искусства, неотделим от своего труда своим телом и сердцем, как его податель. Он только тогда и творит, когда субъективно действует. И влияние – чаще всего от сочетания многих счастливых внешних качеств и ума – доставляет ему победу над толпой. Привычка показывать себя толпе помогает ему действовать легко, без участия сердца. Но в искусстве достигает истинной артистичности только тот, кто сердцем врос в искусство, тот, кто не ищет выказать себя именинником в нем, а хочет пронести зрителю через себя идею-мысль-слово, или звук. Такие люди не стремятся к первенству ролей, а стремятся к отделению в роли себя, как личности, от того себя, кто станет вбирать в себя качества роли, объективно понятые, оцененные, очищенные благородством, чтобы вырасти в ту личность-роль, которую изобразил автор.
