Внутренний Фронтир бесплатное чтение
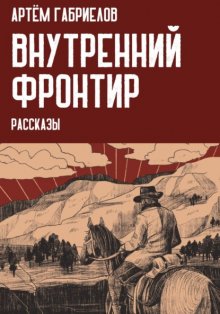
Возможно, последняя из нас
Когда-то давно она, возможно, сомневалась. Возможно, когда-то ей и приходило в голову, что отец всё выдумал – что вольных детей природы, сильных и свободных икче вичаза никогда не существовало в действительности. Временами она даже осмеливалась сказать что-нибудь вроде «Почему бы твоим вольным людям не забрать нас из лагеря?» или «Откуда ты о них знаешь, это было тысячу лет назад!».
Тогда ей подробно и обстоятельно объясняли, что она не права.
Отец садился в побитое временем кресло, широко расставлял ноги, выпячивал грудь и опускал на колени свои тяжёлые, большие ладони.
Живи отец на несколько столетий раньше, он стал бы превосходным шаманом: говорил бы своему племени о смене времён года, объяснял бы болезни животных, трактовал бы неурожаи, вызывал дожди. Но племени у него не было – только дочь.
«Великий народ, вольные дети земли, веками черпали вакан у самой Матери-Природы».
Она смотрит на широкий и приплюснутый отцовский нос, представляя, как сквозь него струится сила, мощь, вакан – с каждым вдохом. Ясно видит, как над ним разгорается нездешнее солнце. Слышит вой ветра с древним замысловатым именем. Она уже не видит ни изгрызенного термитами кресла, ни прохудившихся сапог, ни вшивой рубахи, ни нашлёпки с порядковым номером. Ещё несколько красивых фраз на мёртвом языке – и вот уже реальность подменяют декорации.
Отцовские рассказы завораживают Анпэйту, рисуют ей картины радости и счастья, но кончаются печально, ведь подлинный вакан остался в прошлом с икче вичаза, вольными людьми. Ни Анпэйту, ни её отцу достичь вакан не суждено. Вакан утрачен навсегда.
Рассказывая свои истории, отец курил старинную трубку – с длинным чубуком и тяжёлой каменной чашей на конце. Он гордился трубкой и говорил о ней всякому, кто соглашался слушать: о том, что каменная чаша – это плоть великих предков (почему камень – плоть, он не мог толком объяснить) и что гром с небес тут же поразит солгавшего хоть словом во время курения трубки.
Анпэйту, в общем, нравились отцовские рассказы, но порой их трудно было слушать. Чем дольше отец говорил, тем сильнее распалялся, и часто в его словах сквозило: «Ты дочь икче вичаза, возможно, последняя из нас! На тебя смотрят великие предки! Не вздумай оскорбить их память! Будь достойна!»
Пэйт очень хотела быть достойной, только как? Там, где вышки с солдатами, распорядок, еда в строгих порциях и бесконечная работа, она знала лишь, как быть хорошим арестантом. Да и это у неё получалось не всегда. И кто по-настоящему достоин? Отец и сам не походил на икче вичаза ничем, кроме внешности и трубки.
И всё же она часто сомневалась в существовании икче вичаза, несмотря на отцовские рассказы. Куда проще было верить в бетонные блоки, отделявшие лагерь от внешнего мира, в распорядок, в солдат и в то, что только труд может исправить человека.
***
Ничего бы не случилось, если бы в тот день Пэйт не опоздала в прачечную. Замешкавшись, она попала туда уже под вечер, когда все разошлись. С трудом протолкнув в дверь громадную корзину, доверху набитую бельём, она услышала что-то странное – будто где-то поблизости работал насос.
Пэйт осторожно ставит корзину возле стиральной машины и бесшумно подкрадывается к двери – скрипучие половицы она знает наперечёт. Из соседней комнаты еле добивает неровный свет – из-за нестабильного электричества лампочка то разгорается, то гаснет. Кому это вздумалось остаться в прачечной в такое время, да ещё и жечь казённое электричество? Затаив дыхание, Пэйт заглядывает за угол.
И зажимает себе рот, чтобы не вскрикнуть.
Там, в тишине, вытянувшись по струнке, как на плацу, стоит Чэт Соккет, начальник лагерной охраны.
А перед ним
на коленях
стоит
её
отец.
Фигура отца скрыта нагромождением грязного белья и коробок с порошками. Видно только, как его голова мерно ходит вверх-вниз, будто у заводной игрушки. Вверх-вниз, вверх-вниз.
Анпэйту всего одиннадцать, но она знает достаточно, чтобы заподозрить самое очевидное и самое – как ей тогда казалось – страшное.
Она слышит дробный стук – так стучат её зубы. Она знает, что нужно уйти, прямо сейчас, немедленно, просто развернуться и пойти в обратную сторону, но ноги вдруг зажили собственной жизнью: делают шаг вперёд, другой. Ещё полшажочка, и можно будет перенести тяжесть тела на дверной косяк, придвинуться поближе… И, наконец, увидеть…
Отец вылизывает ему ботинки.
У Пэйт кружится голова, ей хочется вскрикнуть. В лагере она видела побои, клевету, издевательства, поножовщину из-за тёплого свитера или банки варенья – всё это казалось пусть и ужасным, но понятным, объяснимым. А что происходит здесь? Отец, этот гордый сын икче вичаза… Нет, он всё объяснит ей – объяснит вечером, когда раскурит племенную трубку. Он объяснит ей! Объяснит!
– Знаешь, как я это называю, детка? – спрашивает мистер Соккет.
На Анпэйту накатывает такой страх, какой ещё секунду назад она не смогла бы и представить.
– Это моё личное Вундед Ни. Хах! Вундед Ни, сечёшь?
Ответить или уйти? Убежать, а там будь, что будет? Бой сердца мешает думать. Пэйт стоит на месте, просто стоит на месте. По ноге у неё течёт что-то тёплое.
– Не, не секу, Чэт.
Это невидимый собеседник отозвался из глубины комнаты. Пэйт выдыхает.
– Ты тупая деревенщина, Роджерс, я тебе когда-нибудь это говорил?
– Говорил. Буквально вчера, злюка ты эдакая! Так что за Ни?
– А пускай этот Трусливый Скунс тебе сам расскажет. Скунс, отвечай-ка, что такое Вундед Ни?
Трусливый Скунс – её отец – послушно отвечает:
– Ручей Вундед Ни…
Слёзы выступают на глазах у Пэйт. Она не знала, что отец может говорить и таким голосом тоже. Как будто его телом завладел злой дух. Злой, трусливый, презренный дух.
– Ручей Вундед-Ни – место последнего военного столкновения грязных дикарей-индейцев с благородными белыми людьми.
Чёткий заученный ответ. Отец даёт его не в первый раз.
– Понял теперь, Роджерс, или разжевать?
– Теперь-то понял!
Они смеются искренне, радостно.
– Скунс, большой вождь, а ну не отвлекаться! Смотри мне, будь послушным, не то скажу Роджерсу, он ведь может твою трубку и уронить. Побрякушка-то хлипенькая.
Как Пэйт выбралась из прачечной, как вернулась в барак – не запомнила. Следующим её воспоминанием были слова отца, сказанные уже позже, вечером. Сидя в кресле на крыше барака, он вдумчиво и со вкусом курил свою драгоценную трубку и вдруг невнятно пробормотал, прикрыв глаза:
– Предки понимают… Да… Предки меня наверняка понимают…
***
Шло время. Пэйт старалась примириться с увиденным, и те из отцовских рассказов, что касались потусторонних сил, пришлись как нельзя кстати: она сказала себе, что тогда в прачечной увидела иллюзию – одну из тех, что злые духи наводят на легковерных людей.
Лишь изредка, увидев отца со спины, она невольно представляла, как его голова ходит вверх-вниз, вверх-вниз, и тогда принималась украдкой бормотать заговоры и складывать пальцы в охранный знак.
Призрак того происшествия мог бы вечно бродить по задворкам памяти Анпэйту, но вскоре ему представился случай вырваться на волю.
***
Через пару месяцев, ярким осенним днём, когда с деревьев облетали последние листья, в лагерь принесли «почту». Никакого сообщения с внешним миром у арестантов не было, но лазейки удавалось найти. Обычно приходилось довольствоваться устными рассказами да слухами, но в тот день сквозь прутья лагерной ограды просочилось настоящее бумажное письмо.
Под разными предлогами уходя от работы, заключённые укрывались в тени самого дальнего амбара. Там они разминали окоченевшие пальцы и раскуривали по случаю драгоценные самокрутки – готовились слушать. Молодые стояли на углах, высматривая охрану.
Чернокожий Мартин Эванс (з/к №2/3427) рассеянно крутил между пальцами пухлую подушечку – лист бумаги, сложенный до размеров ногтя. Это было письмо от его брата, который тогда воевал за один из независимых городов. Эванс не спешил читать письмо, якобы дожидаясь, пока соберётся больше народу, а на самом деле смакуя свою важность. Все ему охотно подыгрывали: развлечений в лагере мало, а непрочитанное письмо в каком-то смысле даже интереснее прочитанного – в нём больше возможностей.
Когда участок за амбаром стал уже напоминать сельский сход, Эванс, наконец, развернул письмо и принялся читать, бойко и без малейшей запинки.
– Недаром его прозвали «учёный нигер», – с уважением шепнул Анпэйту на ухо мальчуган Эбби, её ровесник (з/к №4/2451).
Пэйт поморщилась – некоторые, не разбираясь, и их с отцом записывали в нигеры, – но промолчала, чтобы не упустить ни слова.
– «Мой дорогой брат! – читал Эванс. – Пишу это письмо наудачу. Сильно сомневаюсь, что оно до тебя дойдёт, но даже если нет, это не так уж важно. Важно, что скоро мы окажемся у стен вашего лагеря и тогда, клянусь всем сущим, мы камня на камне от него не оставим! Жалко, мать этого не увидит. Вот тебе, братишка, задаток: да будет тебе известно, что вчера мы разбили третью конфедератскую армию».
Это было немыслимо. Кто-то из курящих поперхнулся дымом, проныра Эбби взял Анпэйту за руку – забывшись, или улучив момент, – даже отец сложил руки на груди и хмыкнул.
Дальше в письме с неподдельным энтузиазмом описывалась битва. После нескольких дней утомительной погони отряд, уступавший числом почти вдвое, вынудил конфедератов занять невыгодную позицию в узком ущелье, которое превосходно простреливалось с высоты. Когда засвистели стрелы и загрохотали пушки, конфедератские лошади перепугались, а всадники, зажатые между двух каменных стен, не сумели даже развернуться для отступления. Выкосив больше половины живой силы противника, уцелевшим предложили сдаться.
– «Теперь мы обременены пленными, и некоторые уже согласились сменить мундир. Ума не приложу, чем мы прокормим такую ораву, но пусть об этом думает кто-то, кто сидит повыше. Лично я думаю о том, как убил троих, и чувствую себя в связи с этим великолепно!»
Все засмеялись.
– «С каждым поражением они всё больше нас боятся. Скоро и воевать за них станет некому. Грядёт последний день Конфедерации! У нас болтают, будто они оживили роботов, но мы справимся и с роботами, если придётся!»
–Роботы! – воскликнул кто-то. Как же! Роботов обещают оживить сколько я небо копчу, а это порядочно!
– Брат брехать не станет, – подытожил Эванс, комкая письмо, – Скоро выйдем отсюда… Увидим волю. Грядёт последний день Конфедерации и последняя битва.
Все, как зачарованные, подхватили: «Последняя битва».
И тут Анпэйту, зачарованная величием этих новостей, сказала, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Последняя битва, как Вундед Ни…
Стоило ей это сказать, как отец сунул руки в мелкие, неудобные карманы ватника и, ссутулившись, зашагал от амбара прочь.
Пойти за ним Пэйт не посмела. Она вдруг поняла, что название «Вундед Ни» при ней не упоминали ни разу, ни отец, ни кто-либо ещё. Отец рассказывал, как у них в народе охотились, готовили еду, выдавали замуж, курили, шили мокасины – рассказывал о чём угодно, но не об этом. Слова «Вундед Ни» она могла услышать только т а м, только т о г д а.
Пэйт с досадой выдернула ладонь из хватки настырного Эбби и прикрыла лицо, чтобы не расплакаться.
Письмо разорвали на клочки и для верности ещё и утопили их в бутылке с водой. Заключённые стали расходиться, причитая: «Последний день Конфедерации». Пэйт же достались другие слова, постыдные и страшные. Как будто замогильный призрак шепчет, вытягивая трубочкой синюшные губы.
Вуууун-дееееед-Ниииии!..
***
Всю следующую неделю отец избегал её. Это были самые тяжёлые и странные дни в её недолгой жизни. За то время они не сказали друг другу и десятка фраз. Вечером молча ели, молча ложились спать, а наутро он отсылал дочь работать, стараясь под любым предлогом получить наряд на работу где-нибудь подальше от неё.
Если Пэйт всё же оказывалась рядом, то издали смотрела, как он несёт рулоны ткани, или катит через поле тачку с камнями, или красит ограду, или стоит в компании мужчин, безучастно слушая их разговоры. Вечерами он по-прежнему курил на крыше трубку, но Пэйт не смела к нему подниматься. Теперь-то, думала она, он, должно быть, пересказывает истории самому себе.
Лишь однажды отец заговорил с ней, но лучше бы этого разговора вовсе не было. Ни с того ни с сего он подошёл к Пэйт, когда она вместе с другими детьми вытягивала из пальцев занозы после нескольких часов плетения корзин. Она сперва обрадовалась, но быстро поняла, что ничего не изменилось, что это лишь очередное отцовское наставление, урок, а, может, и издевательство.
Глядя куда-то в сторону, он без всякого вступления спросил её, как работать с прачечной машиной. Стараясь не выдать волнения, Пэйт всё объяснила: как насытить машину электричеством, как задать температуру воды, в каком порядке и на какие кнопки нажимать. Внимательно выслушав, отец развернулся и ушёл.
И что это должно было значить?
Пэйт смотрела ему вслед и думала об одном – нельзя плакать. Он может обернуться и увидеть.
Впрочем, он не обернулся.
Вдобавок ко всем неприятностям её стал донимать вездесущий Эбби. Если отец находил причины быть от Пэйт как можно дальше, то парнишка вечно оказывался рядом. Живя в обстановке лагеря, Пэйт уже во всех подробностях знала, откуда берутся дети, но интереса к мальчикам ещё не испытывала – приставания её раздражали.
Хуже всего было осознание вины. Не опоздай она тогда в прачечную, не загляни в соседнюю комнату на звук, держи она рот на замке, когда Эванс читал письмо, ничего бы не случилось – было столько возможностей проскочить мимо этой роковой развилки, но нет. О возврате к нормальной жизни с отцом не могло быть и речи. Отец знает, что она видела его унижение. Он знает, какова теперь цена его рассказам о гордых неукротимых предках. Он знает, что она знает – и не простит ей это.
Проклиная себя за любопытство, за глупость и несдержанность, Пэйт постаралась забыться в работе, но выяснилось, что она растеряла сноровку и могла лишь портить всё, к чему ни прикасалась. Число разбитых яиц, испорченных корзин, пролитого клея, порванной ткани и прочих недоразумений шло на десятки.
Вблизи прачечной разлад с отцом давил ей на плечи особенно сильно. Всё кончилось тем, что она заложила в машину уже постиранное бельё. Останавливать древний агрегат до завершения цикла строго запрещалось, и электричество было потрачено впустую. За это она получила от бригадира пощёчину и в слезах ушла – останавливать её не стали.
Вместо того, чтобы пойти на распределительный пункт и взять другой наряд, она, давясь слезами, побрела в противоположную сторону, стараясь обходить открытые места. Её знают буквально все, рано или поздно кто-нибудь обязательно донесёт отцу или охране, что она шляется без дела. Но ей это стало неважно. Пэйт не нашла бы в себе сил ни работать, ни притворяться.
Тот день она запомнила в мельчайших деталях; всё вокруг открывалось ей заново. Она снова и снова ругала себя. Ей казалось, что она своими руками сломала что-то в окружающем мире, отчего тот вдруг стал особенно невыносим. Всего-то и нужно было оторваться от отца с его опекой, хоть и строгой, чтобы увидеть истинную суть этого места. Сырость и одиночество пронизывали каждую минуту. А сколько таких минут ещё оставалось пережить до вечера!
Хотелось просто переставлять ноги, эти длинные нескладные ноги, и идти, идти, как будто впереди есть цель. На самом же деле, впереди, как и со всех других сторон, не было и не могло быть ничего, кроме глухой стены.
Забившись в щель между бараками, как раненая пташка, она горько, беззвучно заплакала. Отец шлёпал её по губам за один намёк на слёзы, и поплакать теперь было даже приятно. Да, это совсем не в духе сильных и славных икче вичаза, зато она, по крайней мере, никому не вылизывала сапог!
Слёзы лились по щекам горючим ручьём, горло стянуло верёвкой. Больше всего на свете ей хотелось улечься в койку под пару-тройку одеял и не вылезать оттуда. Тем горше были слёзы: Пэйт знала, что не сможет себе этого позволить, ни сейчас, ни когда-либо ещё. Потому что за этим днём последует следующий, такой же безрадостный и ещё более холодный. А потом опять и опять то же самое.
Репродукторы проиграли звонок к перерыву. Пэйт высморкалась и утёрла слёзы. Пусть глаза просохнут, и можно выходить.
Нужно выходить.
Уже столько всего было пережито, но едва перевалило за полдень. Солнце светило вполсилы и совсем не грело. Пэйт влилась в толпу, собравшуюся у западной стены – люди смотрели, как братья Доу (з/к №3/2387 и №3/2388) соревнуются, кто сделает больше ударов упругим мячиком о стену. Бросать полагалось быстро и без задержек, будто горячий уголь. Там же разливали из бидонов «чай» – крутой кипяток – и записывали ставки.
Охранники не вмешивались, наблюдая как бы из-за толстого стекла. Игры и прочие нехитрые развлечения им полагалось терпеть: время от времени надо ослаблять натяжение, не то порвётся.
Пользуясь негласным дозволением охраны, зрители вели себя вольно: вопили, хлопали в ладоши и не стеснялись выражениях, если чья-то ставка была бита и приходилось расстаться с самокруткой, перчатками или эротической картинкой. В такие дни из рук в руки переходили целые состояния из мелочей, способных скрасить жизнь.
Пэйт невольно заразилась общим весельем и даже захлопала в ладоши, когда один из братьев ошибся, но всё-таки поймал, казалось бы, безнадёжный мяч. Братья швыряли мячики в стену и ловили их мастерски, со знанием дела. Этот трюк они проделывали не в первый раз.
Но забава длилась недолго. Прозвенел звонок, и всё вернулось на круги своя: разговоры оборвались на полуслове, улыбки погасли – люди вспомнили, где находятся. Все разошлись по участкам, и Пэйт невольно пришлось продолжить свою бесцельную прогулку.
Была всего половина первого.
Бродить и дальше на виду у всего лагеря было нельзя – этим она навлечёт неприятности и на себя, и на отца. Можно было где-нибудь спрятаться, она знала пару укромных мест, но уклонение от работы означало выговор, карцер или плеть, в прямой зависимости от того, с какой ноги встал комендант и была ли с ним хороша вчерашняя девка – эти обстоятельства в лагере приходилось учитывать, как дождь или засуху.
Сделав над собой усилие, Пэйт решила пойти к бригадиру за новым нарядом. Может, ей повезёт, и он не станет допытываться, где з/к №3/5671 провела полтора не учтённых в карточке часа.
Навстречу к ней шёл Эбби, с горящими глазами и всклокоченный, как воробей.
– Пэйт! Ты чего тут? Звонок же!
Пэйт подумала, что неплохо было бы ему как-то нагрубить, чтобы он отвязался, но ничего обидного ей в голову не пришло.
– Уже иду, Эбби. Спасибо.
Мальчик просиял. Кто-то из взрослых прикрикнул на них, чтобы ушли с дороги, и тогда Эбби ловко взял её за руку – сказывался недавний опыт! – и повёл вниз по дороге к обувному цеху.
– Отработаешь смену у нас, – затараторил Эбби, – а потом я тебе такое покажу!
– Не знаю, мне же надо отметиться…
– Наш бригадир сильнее вашего бригадира! – усмехнулся Эбби, – Томпсон ему ничего не скажет.
Пэйт кивнула в знак согласия. В конце концов, не всё ли равно, где именно дожидаться отбоя?
Бригадир о пропущенном времени не спросил. Пэйт оставила свою карточку на входе и пошла вместе с Эбби к ряду длинных столов, за которыми работали другие арестанты.
Работать в обувном цехе ей доводилось редко. Она уже успела забыть, в какой роскоши мастерят сапоги и ботинки: сидишь себе на стуле со спинкой, за широким столом, под уютным светом лампы и делаешь одно и то же несложное действие, которое тебе поручат. А ещё обувной цех отапливали лучше остальных. Не из заботы об арестантах, конечно, а из простой необходимости – на холоде плохо схватывается клей.
Нужно было сосредоточиться – если её и отсюда погонят, наказания точно не избежать. Но работа, к счастью, выпала нетрудная. Принять у соседа слева заготовку, перевернуть подошвой вверх, поставить в центр меловой отметки гвоздик, ударить по нему молоточком, – раз-два-три – вбить тем же манером ещё четыре гвоздика и передать соседу справа. Но забивать нужно быстро и безошибочно, не то получишь страшное клеймо: неэффективный.
Ослепительно-белый свет электрических ламп и их мерное гудение успокаивали. Напротив Пэйт сидела Шаниква Хадсон, негритянка лет пятидесяти (з/к №2/2792). Она продевала шнурки в готовые ботинки и улыбалась Пэйт всякий раз, когда их взгляды встречались. Пэйт улыбалась в ответ, хотя предпочла бы, чтобы на месте доброй Шаниквы был отец. И где он сейчас?
Поставить гвоздь на отметку. Ударить: раз-два-три.
Так прошло три часа. Звонок к перерыву раздался вовремя – от краски и клея у Пэйт уже начала болеть голова. Едва она отложила молоток, рядом тут же возник Эбби.
– Пошли, перерыв не вечный!
– Куда, Эбби?
– Покажу кое-что, обещал же.
Была половина четвёртого.
Вдвоём они вышли на улицу. Что-то возбуждённо рассказывая и размахивая руками, как актёр на репетиции, Эбби повёл Анпэйту к южной стене. Там, за последним, заброшенным, бараком, возвышалась величественная груда мусора – её омывали бурые нечистоты, стекавшиеся со всего лагеря. Гора то уменьшалась, то увеличивалась, меняла очертания, но всегда была на месте. Вонь стояла убийственная, но Пэйт терпела её, не морщась, – в тени этой зловонной горы она провела большую часть жизни.
– Эбби, стой! – сказала Пэйт. – Что мы здесь делаем? Нам обратно ещё идти.
– Успеется! – Эбби широким жестом указал ей на вросшее в землю бревно, которое давным-давно приспособили под лавку, и они сели.
Сюда почти не долетал утробный лагерный гул. Слышно было лишь вкрадчивое журчание сточных вод из трубы. Эбби завёл речь о каких-то абстрактных предметах: мировой истории, женщинах и мужчинах, религии, войне. Никакого интереса к этому Пэйт не испытывала. Она старалась забыться, не думать об отце, не представлять себе, каково ей будет жить в этом кошмаре одной, если отец так её и не простит. Вундед-Ни. Невыносимые мысли. Чтобы изгнать их из головы, годились любые средства, даже Эбби с этой его мальчишеской ерундой.
А Эбби говорил всё быстрее, всё громче, даже начал краснеть. Пэйт видела, что сами по себе эти слова ничего не значат, и что главное – впереди. И не ошиблась.
Как бы невзначай парнишка раскрыл карман куртки, и оттуда выпала картонная карточка. Он подобрал её и приложил груди, как бы не решаясь показывать. Затем протянул карточку Пэйт, и она невольно взяла её в руки.
Это была одна из тех реликвий, что разыгрывались на тотализаторе, переходя из одного кармана в другой. Выцветшая картинка из журнала, наклеенная на кусок плотного картона. Несмотря на солидный возраст (в углу была надпись «Playmate 2047»), выглядела карточка так, будто её отпечатали на настоящем станке буквально вчера – прежние владельцы её явно берегли.
На белоснежной простыне, жмурясь от удовольствия, лежит смуглая длинноногая девушка, совершенно голая. Чёрные кудри рассыпались по её пышной груди. Одной рукой она сжимает левую грудь, такую большую, что не умещается в ладони, другой ладонью – кокетливо прикрывает лобок.
– Красивая, правда? – тихо сказал Эбби.
– Да, – ответила Пэйт. – Наверное, да…
– Ещё бы! – выдохнул мальчик. – Ты посмотри, какие сиськи, прям как две тыквы! А ножки-то, ножки!
Он осмелел – ему явно льстило, что Пэйт оценила его сокровище.
– Я думаю… Знаешь, ну, когда ты вырастешь… Через несколько лет… Ты будешь такая же.
Пэйт прыснула.
– Да ну чё ты, правда! – загорячился Эбби. – Я так и думаю – вот это взрослая ты!
Впрочем – Пэйт вгляделась в снимок – некое сходство просматривалось. Вот только кожа у Пэйт светлее – не чёрный кофе с молоком, как у женщины на картинке, а скорее слабый кофейный напиток, который лагерные дети иногда получают в конце рабочего дня. И волосы у Пэйт совсем прямые, без кудряшек. Да и грудь расти ещё даже не начала.
Пэйт собиралась указать Эбби на эти различия, как вдруг он положил руку ей на колено.
– А ты знаешь, – тихим голосом сказал мальчик, томно прикрыв глаза, – мы ведь живём в умирающем мире, где мужчина и женщина должны держаться друг друга особенно крепко. Что ещё осталось вечного на разрушенной Земле?
Сердце у Пэйт заколотилось, лицо вспыхнуло. Кто знает, что случилось бы дальше, если бы в тот самый момент со стороны свалки не послышался хруст мусора под сапогами и перед ними, будто бука из заводной шкатулки, не возник Чэт Соккет, начальник лагерной охраны.
– Вот те на! Вот это картина!
Пэйт невольно прижалась к Эбби и, сделав это, почувствовала, что мальчик дрожит.
– Продуктивного дня, мистер Соккет, сэр! – выдавил Эбби тоном дружелюбного арестанта.
Мистер Соккет, сэр, был одет как на парад, и на фоне мусорной горы смотрелся дико. Бляшка с эмблемой Второй Конфедерации сияла, как звёзда. Чёрный козырёк фуражки и чёрные же перчатки отливали масляным блеском. Рыжие бакенбарды и усы были подстрижены волосок к волоску. Широкие брюки сужались книзу двумя отутюженными конусами.
Но Пэйт смотрела только на его сапоги – образцово чистые и блестящие сапоги.
Соккет подошёл к водостоку, где текла бурая ржавая жижа, и уверенно шагнул в нечистоты. Блаженно улыбаясь, он стал перетаптываться в грязном месиве, будто утрамбовывал лежащий под водой предмет.
– Какой я неловкий!
Соккет подошёл к бревну и встал над детьми, как суровый учитель.
– Сладкая парочка, м? Запомни, дружок, бабы, они суки, они до добра не доводят.
Пэйт никак не могла отвести взгляд от его обуви. Лакированную кожу сапог теперь покрывал толстый слой грязи с вкраплениями камешков, листьев и соломы.
«Знаешь, как я это называю, детка? Моё личное Вундед Ни».
Вдруг Соккет наклонился и выхватил карточку, которую Пэйт всё ещё держала в руках. Глянув на снимок, он расхохотался так, будто ничего смешнее в жизни не видел. Пэйт в ужасе смотрела на его бледное, будто из теста вылепленное лицо, которое искажалось столь невиданным образом – от смеха.
Успокоившись, Соккет убрал карточку в нагрудный карман мундира и сказал:
– Поставлю на завтрашних играх. Мне-то эта мерзость ни к чему.
Перед тем, как уйти, он обернулся к детям:
– Вы бы поспешили, голубки! А то ведь не доживёте.
И ушёл.
Некоторое время Пэйт и Эбби сидели молча. Плескалась вода. Где-то поблизости взвыла собака. Эбби очнулся первым.
– Сукин сын! – прошипел он, сжимая кулаки. – Я его убью. Просто убью. И заберу карточку с его трупа!
– Не дури, – тихо сказала Пэйт. – Это того не стоит. О семье подумай. Тебе тогда и их придётся убить. И себя заодно.
– Ладно, – сказал он с сожалением, будто впрямь собирался убить начальника лагеря и только слова Пэйт его удержали. – Наверное, надо идти. Слушай, а зачем этот мудила топтался в грязи?
Чтобы мой отец слизал всю эту грязь.
Её резко вытошнило – она едва успела отстраниться от Эбби и подобрать волосы. Её трясло, наверное, целую минуту: желудок скручивался, как швабра, из которой по капле выжимают грязную воду, спазмы были сильнейшие – на какое-то яркое и ужасное мгновение ей показалось, что она не выдержит и умрёт.
Когда всё прекратилось, перед глазами у неё были её собственные ботинки, а на земле рядом с ними – разноцветное дымящееся облачко тёплых оттенков: оранжевого, зелёного, красного, жёлтого. Ну да, утром была овощная похлёбка.
Она подняла глаза на Эбби.
– Пэйт, давай в лазарет тебя свожу, что ли… А?
Пэйт утёрла рукавом подбородок и губы. Во рту стояла горечь, как будто она наелась золы.
– Нет, никакого лазарета… – сказала она, поднимаясь. – Нам надо работать.
– Пойдём-пойдём, – запричитал мальчик. – Время есть, успеем.
Пэйт чувствовала, что он держит её чуть ниже и чуть крепче, чем нужно, но не противилась. Делайте, что хотите. Воспользовавшись тем, что её ведут, она прикрыла глаза, а когда открыла, то уже сидела за широким столом, на роскошном крепком стуле со спинкой. В руке у неё молоток, на столе – заготовка ботинка с меловыми отметками.
Вторая смена.
Три удара по гвоздю.
Четыре часа дня.
Пэйт ушла в работу с мрачной уверенностью, что обязательно ошибётся. Подошвы, в которые она вбивала гвозди, напоминали ей о сапогах Чэта Соккета, ведь форменную обувь для конфедератов делали в том самом цехе. Возможно, она своими руками помогла смастерить те злосчастные сапоги, которые потом приходилось вылизывать её отцу.
Добрая Шаниква Хадсон то и дело отрывалась от работы и беспокойно спрашивала одними губами: «Что случилось? Детка, всё нормально?». Пэйт украдкой кивала ей, ужасно огорчаясь, что приходится врать.
На втором часу смены зашипел репродуктор. Искажённый помехами голос сказал:
«Беспорядки … Четыре-A! Дерутся трое арест… Повторяю, беспорядки в зоне Четыре…! Роджерс, мать твою, это твой участок! Повторяю, Роджерс … участок! Немедленно разберись!»
Отец? Нет, вряд ли. Он же согласен слизывать грязь с ботинок, с кем такой человек может подраться? Он скорее поклонится и прошмыгнёт мимо.
Её настолько огорчило – не сама эта мысль, а то, что она так естественно пришла в голову ей, его собственной дочери, что на глаза навернулись слёзы.
– Работать, работать! – зыкнул охранник.
Вскоре прозвенел звонок на перерыв. Пэйт выскочила из зала, получила у бригадира свою карточку и пошла. Куда? Куда-то вперёд. Но очень скоро остановилась, прислонившись к ближайшей стене. Идти было некуда. Снова накатило страшное ощущение бессмыслия, которое и иных взрослых людей может свести с ума.
Холодало.
Часы показывали шесть.
Распределительным пунктом назывался деревянный помост в центре лагеря, куда сходились все его условные улицы. Распоряжался там печально известный Дерил Смит. Он был стар, безобразен и безмерно равнодушен к людям. Он перераспределял человеческий ресурс из одной лагерной службы в другую, а ресурс ни в какую не желал утрамбовываться как нужно.
Больше всего Смит напоминал скелет, пролежавший год-другой в чистом поле – будто сорная трава, из ноздрей и ушей у него выбивались волосы, а непомерно разросшиеся брови и буйная бородища дополняли впечатление. Всем было очевидно, что красавчик Чэт Соккет назначил Смита своей правой рукой не только за исключительную дотошность, но и чтобы на контрасте с ним выглядеть ещё краше.
Анпэйту встала в очередь из арестантов, пришедших получить наряд на работу. Скупым движением пальца – так дёргается лапка у насекомого – Смит подзывал к себе людей: «Плотницкая. Следующий. Обувной. Следующий. Обувной. Дальше. Ограда, третий участок. Дальше. Плотницкая. Дальше».
Рабочий день, к счастью, близился к концу. Нужно было отработать ещё всего один наряд, а в восемь часов всем разрешат разойтись и использовать оставшееся до сна время по своему усмотрению. Отец, наверное, закурит. Она не пойдёт к нему, но хотя бы увидит его, окажется рядом, будет точно знать, что всё в порядке. То сообщение из репродуктора всё ещё звучало у неё в ушах тревожным эхом – но почему, с чего?
Соберись.
Между Пэйт и распределителем Смитом было четыре человека.
Смутное опасение за отца перекинулось на неё саму, и тогда она вспомнила. В её карточке пропущено полтора часа рабочего времени, ведь бригадир в прачечной, влепивший ей пощёчину, не поставил свою подпись! Она достала книжечку, нашла нужную страницу. Точно. И как она могла забыть!
Исправить это было нельзя: текст в карточке хоть и сплошной, без пропусков, но по цифрам Смит обязательно поймёт, что между стойлами и обувным цехом был ничем не занятый отрезок времени. И тогда… Наверное, всё-таки карцер. Со слов отца и других арестантов Пэйт могла живо представить себе карцер. Даже слишком живо.
Подошла её очередь. Встав на цыпочки, Пэйт протянула свою книжку и очень вежливо спросила, не мог бы мистер Смит выдать ей наряд.
Да, сейчас будет карцер. Точно карцер.
А может, и к лучшему, может, в карцер ей и надо? Пока она будет тихо-мирно сидеть там в одиночестве, отец по ней соскучится…
– Плеть!
Весь лагерь замер. Затихли птицы, в небе остановились облака.
– Плеть! – завопил Дерил Смит. – Плеть и ничего больше!
Длинный и нескладный, он стал с артритной медлительностью подниматься со своей кафедры, будто раскладываясь на застарелых шарнирах.
– Час и пятьдесят минут простоя! – гремел он. – Час и пятьдесят минут, и это сейчас, когда наша армия так нуждается в снабжении! Когда враги и предатели почувствовали силу и знай себе тявкают!
Растянувшись, наконец, во весь рост, он расстегнул пуговицу на воротнике, обнажив бледную пупырчатую шею.
Пэйт была лагерным ребёнком. Мимо карцера и в тени кнута ходят все арестанты. Она знала, что однажды это случится и с ней – её спину тоже рано или поздно украсят багровые полоски. Она стиснула зубы.
Папа, где же ты?..
– Индеец!!!
Пэйт обернулась.
Вдруг исчез деревянный помост. Исчез разъярённый Дерил Смит. Возникли ноги, руки, все куда-то бежали, и она вместе с ними.
Индеец?
Перед Анпэйту расступались взрослые. Они протягивали куда-то руки, ахали, зажимали глаза и рты. Объясните, спрашивала Пэйт одного, другого, скажите, в чём дело, но все лишь отворачивались или строили гримасы.
Чья-то ладонь – грязная, пропахнувшая чернозёмом – прикрыла ей глаза.
Кто-то вытолкнул её вперёд.
Индеец, кричали они, индеец, индеец!
И показывали куда-то вверх.
Оплавленным куском масла солнце медленно стекало по небу за горизонт. В его рыжеватом сиянии вырисовывалась северная стена резервации с четырьмя сторожевыми вышками. На стене между двух вышек-зубцов располагались большие механические часы, но теперь что-то частично заслоняло циферблат, обычно хорошо видный – что-то неопределимое, что-то, чего там быть не должно.
Индеец! Индеец!
Прямо перед часами кто-то положил тыкву…
Нет, бурый кожаный мяч…
Нет.
Отрезанную голову её отца.
Часы показывали половину восьмого.
***
Тот осенний день врезался в память не только Пэйт – его помнил весь лагерь, пока не пришла армия освобождения и самого лагеря не стало. Подобного не случалось там ни до, ни после. Спустя пару дней последний арестант мог без запинки рассказать эту историю во всех подробностях.
Было так.
В половине шестого вечера охранник Эндрю Роджерс мылся в корыте, как вдруг взревел репродуктор номер три и назвал его имя. От неожиданности Роджерс выронил мыло и завалился набок вместе с корытом. Мыльная вода залилась под шкафы и койки, промочила лежавшее рядом полотенце.
Самые ехидные рассказчики в этом месте вворачивали что-нибудь вроде «Он метался по комнате, как ошпаренный индюк».
Репродуктор требовал, чтобы Роджерс немедленно явился на участок. У Роджерса ушло некоторое время на то, чтобы прибраться, надеть форму («Думаете, индюк когда-нибудь показывался неподпоясанным, с расстёгнутым воротником? Да ни в жизнь!»), отдать распоряжения дежурному («Поорал, чтобы душонку свою хилую отвести»), взять пушку («Любил он тыкать стволом во что ни попадя») и добежать до зоны 4А («Видели бы вы, как он бегал – разведя ручонки, как баба!»).
В зоне 4А лупили друг друга трое арестантов, причём один из них размахивал горящей головней, отгоняя тех, кто рвался разнять драку.
Роджерс окрикнул их по форме, и свидетели свары разбежались. На небольшом пятачке остались стоять сам Роджерс с пушкой наизготовку и трое заключённых. Они уставились на него совершенно дикими глазами и… продолжили драться.
Идти на них врукопашную Роджерс не стал, здраво рассудив, что втроём они без труда его одолеют. Через пару минут на шум сбежались другие охранники, и вместе они растащили дерущихся.
От них не добились ни единого вразумительного слова. Их трясли и охаживали дубинками, но те лишь по-звериному рычали и огрызались. Всех троих, и ещё нескольких, что попались под руку, заперли в карцер.
Арестантов, затеявших драку, звали Джордж Колетти (з/к №2/1913), Джейсон Ирвин (з/к №2/3233) и «учёный нигер» Мартин Эванс – это были те единственные, кого казнённый пару часов спустя индеец мог бы назвать друзьями.
О таких происшествиях было положено лично докладывать начальнику охраны. Роджерс как раз и собирался к Чэту Соккету – они условились встретиться в шесть вечера, и Роджерс уже опаздывал.
Из-за этой задержки Роджерс подошёл к прачечной в районе двадцати минут седьмого. Дверь, как и ожидалось, была не заперта. Хотя все работы давно закончились, внутри горел свет. Начальник охраны мог позволить себе включать генератор в неурочное время.
Предвкушая долгожданную встречу, Роджерс вошёл, тихо прикрыл дверь и зашагал через ряды спящих стиральных машин в подсобку. Он был одет с иголочки, только сапоги не стал чистить. Пускай индеец повторит свой трюк – даром, что ли, они позволяют ему курить эту нелепую трубку. Пускай отрабатывает.
– Малыш, извини, там трое ублюдков устроили драку. Вы тут без меня не скучали?
Никто ему не ответил.
Роджерса насторожил гул стиральной машины, доносившийся из подсобки. Он ускорил шаг. Возможно, перешёл на бег. Когда Роджерс вошёл, ему открылось безумное зрелище.
На этом месте бывалые рассказчики брали паузу.
На полу напротив стиральной машины сидел индеец – сложив ноги и упершись руками в колени. Кругом были разбросаны останки его реликвии: каменная чаша трубки разбилась на несколько крупных осколков, черенок разломился надвое. На осколках мяслянисто поблескивала кровь.
Индеец сосредоточенно смотрел на машину, будто бы приводя её в действие силой мысли. Нехотя он перевёл взгляд на Роджерса и произнёс всего три слова.
Индеец сказал: «Я его очистил».
Мы не знаем, как долго Эндрю Роджерс переваривал эти слова, но мы точно знаем, что когда он подошёл к стиральному агрегату и заглянул в окошко, то завизжал так пронзительно, что его услышала половина лагеря.
Отец Анпэйту хорошо запомнил, какие кнопки надо нажимать. В машине с максимально высокой температурой воды отстирывался Чэт Соккет, начальник лагерной охраны.
***
Отца казнили на месте, не потрудившись даже поставить штамп на типовой приказ.
От отца осталось всего ничего: маленький осколок каменной чаши, который Анпэйту с тех пор носила у сердца, и по-индейски скупые прощальные слова, переданные ей через друзей: «Трубка для человека, не человек для трубки. Я понял это только с твоей помощью. Береги себя. Вполне возможно, ты последняя из нас».
И ещё: «Митакуйе ойазин», что значит «Да пребудет вечно вся моя родня, все мы до единого».
***
Когда-то давно она, возможно, сомневалась. Возможно, когда-то ей и приходило в голову, что отец всё выдумал – что вольных детей природы, сильных и свободных икче вичаза никогда не существовало в действительности.
Но не теперь.
Сомнения исчезают, стоит ей взглянуть на осколок трубки и сжать его сильно – так сильно, чтобы грани впились в кожу; так сильно, чтобы выступила кровь.
Интермедия I
– Авангард – в атаку! – хрипит старый генерал.
Драгуны пришпоривают коней. Кавалерия прокатывается вдоль вражеских рядов и сминает пехоту противника.
– Пушки! – командует генерал. – Пушки, пушки!
Из зарослей выкатываются дула орудийных стволов.
– Огонь! Стреляй, касатики! – надрывается генерал, готовый швырять ядра в супостата хоть голыми руками.
Вражеские редуты разносит в щепки, пыль стоит столбом. Сражение выиграно!
– Молока! – велит генерал, охрипший от крика. – Молока, живо! Ротозеи!
После сражений ему страстно хочется молока.
Слуга приносит кружку, дожидается, пока генерал выпьет, и ведёт старика спать, пока тот бормочет приказы, имена офицеров и неясные проклятия.
– Всех поставлю на карачки…. На карачки… Всех!..
Другие слуги собирают с пола исцарапанных оловянных пехотинцев, знаменосцев и барабанщиков, пушки и обозы, лошадей и горнистов.
Слуги знают – завтра всё повторится вновь. Злополучное сражение, стоившее генералу рассудка, разыгрывается каждый божий день, такой уж в этом доме порядок.
Ненужные вещи
Да, эт правду говорят, что Билли Каннингем содрал себе с лица всю кожу бритвой. Чистая правда, миста, я тому свидетель.
Только вы и половины не знаете, чего тут у нас творилось.
С нашим братом мало охотников поболтать, но вы, кажись, без предрассудков, миста – так выслушайте. Я расскажу всё без прикрас и кратко, да ещё с моралью в конце, не хуже, чем в басенке. Солнце высоко, настоечка ваша смерть как хороша, да и неплохо бы мне передохнуть, уже не мальчик.
Записывать будете, миста? Для книжки, что ли? А пожалуйста, не возражаю.
Ну, так эт всё со старшего Каннингема началось – хозяин наш бывший, Джозеф Каннингем. Он тогда был на плантации главный.
А вы, миста, хоть не тутошный, но всяко слыхали о том Каннингеме, который Роджер. Слыхали, точно говорю. Эт который ещё ногу свою похоронил. Неужто не знаете?
Ногу ему на прошлой войне ядром оторвало по самый огузок. Так этот строптивец не поленился, сберёг её, привёз домой и велел схоронить со всеми почестями. Да! Что вы! Тот ещё был балаган! Спросите меня, миста, так я вам прямо скажу: не всякий покойник того заслуживает, чтобы отвлекать людей от дел и битый час читать им жалостливые стишки из Библии – не всякий цельный покойник, а тут нога, отдельная! Ну такой вот был человек, ничего не попишешь.
Да. А Джозеф Каннингем, наш бывший хозяин, он, стал быть, его сынок.
А когда, значится, затеяли эту новую войну, тут по всей округе стали колесить рукретёры – эт которые в армию людей рукретируют, ну. Их воля, они бы и меня внесли в списки – страсть как любят людей в списки вносить, да только какой от старика толк на войне, если только он, скажем, не дохтур. А вот многих молодых с плантации забрали.
Мы, конечно, ждали, что сам-то хозяин ни на какую войну не поедет, откупится – с его-то деньжищами он мог хоть от дюжины рукретёров откупиться. Куда там! Записывайте, говорит, и меня! Желаю, говорит, исполнить гражданский долг. Это плантатор-то! Вы можете себе представить? Вчера ещё бушевал, как Сатана, если ему кофе подали не того нагреву или там бороду подстригли неровно, а тут нате – поехал гнуть спину на фронте, копать окопы или чем там занимаются, не знаю…
И ладно бы он один поехал – всяк белый человек себе хозяин. Да только он и сына прихватил, старшего, того самого Билли – из трёх сыновей он единственный в армию годился. Билли на войну не хотел, но беднягу никто не спрашивал.
Сели они с отцом, значится, в кибитку, приладили сзади флаг да поехали воевать. Для нас, миста, это был истинный праздник. Даже не верилось, что этот Навуводоносер уехал. Эт за что ж такое счастье-то? Вы человек учёный – что на иных плантациях делается, не мне вам рассказывать, а хозяин был из тех самых плантаторов, из жестоких.
Только пыль за кибиткой осела, жизнь у нас по-новому пошла. Старому управляющему хозяйка дала расчёт, а на его место взяла какого-то городского модника. Хозяйка его интересовала до крайности, а вот плантация ему была до известного места, и все от нас отстали – работаете, мол, и ладно. Хорошее было время, да жаль, недолго…
Через полгода с войны возвращается Билли. Один, без отца. Целый-невредимый, но как будто немой. Говорить отказывается. А в сумке у него письмо от ихнего командира: так мол и так, сержант Джозеф Каннингем был убит на задании. Сына его, рядового Уильяма Каннингема, отправляем домой, потому как он нервически потрясённый и к несению службы непригоден.
Такие дела, миста.
Вы ещё не заскучали? Ежели я что излагаю, так неспроста, щас сами увидите. К фляжке вашей позволите приложиться? Ай, спасибо.
Значится, Джозефа, хозяина нашего, на войне убили. Хозяйка как узнала, стала сама не своя. Человек он вообще-то был злой, холодный. Не только рабынь поколачивал, хозяйку тоже, когда думал, что никто не видит. Уж не знаю, какие могли быть резоны любить Джозефа Каннингема – сдаётся мне, что никаких, – да только у бедной женщины всё в голове перепуталось.
Уйму денег она сразу в церковь отдала, чтобы там приладили табличку с их фамилией. Всё увешала мужниными картинками, даже статую ему у большого дома поставила, будто он президент был или пионер-первопроходец. Всем говорила, что муж её был лучший из людей, прям образчик мужа и отца. Хорош образчик! Ну, да оно понятно – мёртвого любить не штука, ты поди-ка его живым люби, когда он мельтешит у тебя перед глазами. А умер – так ряди во что хошь.
Теперь слушайте внимательно, миста. Чуть погодя, значитса, пришла из армии посылка с вещами покойного Джозефа. Деревянный ящик такой, бечёвка, штемпель – чин по чину.
Значится, что там лежало… Во-первых, бритва, ей ещё его деда Роджера брили. Карманные часы Джозефовы, серебряные. Трубка его, вычурная такая, с ангелом. И косточка… Как это по-научному… Ну, вот эта. Точно, миста – фаланга! Фаланга пальца, которым, значитса, сержант Каннингем нажимал на спуск винтовки, выполняя долг. Волосы и кости погибшего, понятно, идут на нужды родины: волосы на сукно для палаток, костная мука на хлеб. Короче говоря, ничего особенного. Особенное, миста, потом началось, да.
Эти вещи хозяйка раздала своим мальчишкам, как ей городские кумушки присоветовали – чтобы, мол, «продолжали традиции». Старший, Билли, получил бритву, средний, Фред, – трубку, а маленькому Джонасу дали часы, потому как в них попала пуля и они не ходили. Наверное, это та самая пуля, что хозяина и прикончила. А кость пальца осталась у миссис.
Лежало бы всё это добро в комоде у хозяйки между веерами да щётками, ничего не случилось бы! Только что теперь об этом думать…
Позвольте ещё глоточек, миста, – сейчас самое оно и начнётся.
С кого начать-то? Видать, с Джонаса, с младшего. В общем, до того, как ему дали часы, парнишку считали недоделанным. Идиотом. Конечно, слово эт было запретное, да только запрещай – не запрещай, а он с детства был тупой и страшный: глаза пустые – смотришь в них всё равно что в лужу, рожа сикось-накось и говорит, как младенец, «ка-ка» да «пи-пи».
Если такой рождается у рабов, от него живо избавляются, ну а хозяину плантации каково иметь такого сына? Джентльмену! Он, может, и рад бы сплавить это недоразумение по реке, как младенца Моисея, да нельзя. Ну и рос мальчишка, как сорняк: слонялся по округе, бил посуду, пену изо рта пускал и всё служанок подлавливал. Выскочит из-за угла и кажет свой корешок – гляди, мол, девка, чего выросло.
Но что бы вы думали, миста? Как вручили ему часы, c ним прям чудо случилось, преображение. Цельными днями он на них пялился, – а они ведь даже не ходят, – пялился и шлёпал губами, будто разговаривал с ними. А потом и впрямь заговорил!
Вы так на меня не смотрите, миста – мои слова вам кто хошь подтвердит. Через месяц, самое большее, этот бывший идиот уже расхаживал по плантации и орал: «Прорыв! Атака! Пли!». Недели через две – заговорил связно! А вдобавок ещё как-то вытянулся, раздался в плечах, и сделался такой детина, какому никто не указ.
Хозяйка-то – бедная женщина, вот уж кто настрадался! – сперва всё радовалась. Ещё бы, сынишка исцелился, в разум вошёл. То-то было б радости отцу, жаль, не дожил. Да только очень скоро малыш Джонас уже гонял её по хозяйству, как рабыню, разве что не бил. Нового управляющего он выдернул из матушкиной постели, пинками выгнал за ворота и взял тут всё в свои руки. Ему ж четырнадцать лет всего было, но до того он стал здоровенный и жуткий, что никто слова поперёк не смел сказать. Даже взрослые белые мужики на него лишний раз глядеть боялись.
Страшное время пришло, миста. Работать заставляли ещё больше, чем раньше, а за любую малость били смертным боем.
Вдобавок Джонас играться с нами стал. Ну вроде как солдатики мы игрушечные. То построит он нас перед домом и давай ходить вдоль ряда и бить по головам – прислушивался, у кого как черепушка звенит. То погонит наперегонки или велит, чтоб дрались на кулаках.
Всех заново пересчитал, потом стал делить нас на сорта, как фрукты или овощи: на мужчин и женщин, потом на старых и молодых, на сильных и слабых, на спесивых и смирных, и всё эт записывалось в отдельную книжку. Думать не хочу, что он собирался делать с нами дальше, если бы его не остановили. Но эт я уж вперёд забегаю.
Есть там у вас ещё настоечка, что ли? Премного благодарен, миста. Это ж всё на моих глазах творилось. Как вспомню, в дрожь бросает…
Так вот. Это, значится, младшенький. А среднему, Фреду, досталась отцовская трубка. Ох и красивая вещица, миста! Фигурка такая, ангел в белых одеждах, а на конце труба. Мне аж завидно было видеть хозяина с этой трубкой. Всё думал я, старый пень, вот если привалит вдруг счастье и стану свободным – из кожи вон вылезу, а найду где-нибудь мастера, чтобы вырезал мне такую же! Да…
И тут понимаете, какая штука: малыш Джонас, когда ему дали часы, обозлился как бы наружу, а Фред, наоборот, как бы внутрь.
Стал он уходить из дому почитай что каждый день, как петух пропоёт. Посылали за ним и находили: то он на краю обрыва сидит, трубкой пыхтит и пялится перед собой, то дерево ножичком режет, а бывало выроет ямку в земле, ляжет, обхватит себя руками и лежит – и дышит часто-часто, как сурок. Решили, что это он из-за отца переживает, да только дело было куда серьёзнее.
Как умер хозяин, к Каннингемам стали часто заезжать с визитами. Что ни день – на тебе, прискакали, встречай их – угощай. Это уж как водится: если кто в семье нашёл вечный покой, так живых в покое не оставят, да.
Особливо часто заезжали Риверсы, с соседней плантации. Фред положил глаз на дочку ихнюю, Сэйди. Хорошая такая девчушка, тихая, не заносчивая, всегда с книжкой. И он ей тоже глянулся. Её вообще-то с Билли женихать хотели, но Билли как с войны вернулся, носа за порог не казал, какая уж тут женитьба…
И вот уже Сэйди с Фредом стали убегать из дома, когда пешком, а когда на лошадях, и встречаться где-то в чистом поле. Можете представить, миста, что тут творилось: и дома-то их запирали, и слуг-то к ним приставляли, хоть бы хны. Оно и понятно: молодая кровь!
Но потом что-то между ними случилось – вроде как поссорились, и бегать друг к дружке перестали. А через недельку-другую Сэйди как-то вышла из дому и не вернулась. Подумали на Фреда – хвать! а его и след простыл.
И Риверсы, и Каннингемы всех на уши подняли, даже рабов, кого не боязно было на поиски послать. Я тоже искал.
Я их и нашёл, миста, нашёл обоих на третий день. Другие не подумали заглянуть в старый рудник – мол, не станут молодые господа спать на голом камне, не к тому они привыкши. Да и рудник далеко, подмётки стопчешь. А я вот не поленился, пошёл туда на свою беду, да…
Такое, миста, не забывается. Такое в бутылке не утопишь. Вхожу я, значится, с фонарём, окликаю молодого хозяина и вижу: лежит он себе в углу пещеры, зверь зверем, рядом – костерок погасший и вертел, и на вертеле мясо. Миста Фред, говорю, шли бы вы домой, все ж беспокоятся. А где, спрашиваю, мисс Риверс?
А он достаёт револьвер – стащил у кого-то из наших ковбоев, – эдак им поигрывает и говорит… Спокойно так говорит… Упаси Господь такое услышать, миста.
«Не бойся, – говорит, – старик, чести я её не порушил. Сладко было отрезать от нее кусочек за кусочком, нежная на вкус была, а что не любила – так от этого только слаще. Жаль, это у меня в последний раз».
Слушаю его, а о чём толкует, не разберу. Я ж и подумать не мог, что мясо на вертеле это девочка Риверсов и есть! Он съел её, миста! Изжарил на костре и ел все эти три дня!
Стою я перед этим мальчишкой, и хоть живу дольше него в четыре раза, а страшно – смерть! А он затянулся напоследок из той самой отцовской трубки, револьвер поднял, ткнул себе в подбородок да и выстрелил. Я где стоял, там и рухнул, прям на камень.
Вот так-то, миста… Вот так-то…
Как с таким назад вернёшься? Я даже думал, бежать, что ли, на Север, но далеко не убегу, в мои-то годы. Как обратно шёл, не помню. Рассказал всё. Джонас меня выпороть велел, да… Несколько дней я в хлеву лежал в лёжку, а врачевать меня запретили…
Там настоечка-то осталась ещё, миста? Спасибо…
Дослушайте, немного осталось.
В общем, схоронили Фреда в семейном мавзолее, не в земле. Побоялись, что родители девочки могилу осквернят. Священника пришлось аж из города выписывать, местный пастор мальца отпевать отказался. Страшно сказать – людоед, и самоубийца к тому же… Трубку положили в гроб – все знали, что Фред с ней не расставался. Но спокойно ему там лежать было не суждено, и вовсе не из-за Риверсов, как можно было подумать.
Как Фреда схоронили, малыш Джонас вдруг притих, не видно его было день или два. А потом – что бы вы думали – нагрянул он в мавзолей, сторожа прогнал, а сам киркой расколотил плиту, открыл гроб собственного брата, да трубку эту проклятую с его тела и стащил.
Ну, тут уж самые твердолобые заподозрили, что дело нечисто.
Но вы помните, миста, что с войны прислали ещё палец, фалангу! Преподобный Риз, из тутошной церкви, выпросил эту фалангу у миссис Каннингем. Думается, обидно ему было, что в его церкви ни обломка ковчега, ни даже туфельки святого старца. А тут останки бравого воина, уважаемого человека! Положили косточку в стеклянный ящик и на видное место в церкви поставили – чтоб, значится, всякий мог полюбоваться.
И что бы вы думали? И с преподобным тоже… началось.
Человек он был вообще-то мирный, скромный, всё про жалостливое рассказывал и нашего брата-раба привечал. А тут его как подменили. В церкви стал всё больше про потоп, Содом с Гоморрой, казни египетские, побивание младенцев и ещё всякое сказывать, да такое жуткое – даже и не поверишь, что оно взаправду из Библии. Народ стал в церковь набиваться, как на праздник, даже под окнами толпились, слушали. Преподобный заважничал, ходит фатом, глаз блестит.
Но кости ему было мало. Удумал он и остальные вещи Каннингема заграбастать. Пришёл к хозяйке. Так, мол, и так, извольте отдать реликвии церкви, там они нужнее. Вы бы его видели – толкует о реликвиях, а у самого руки трясутся, как у пьяницы, который в баре кредит выпрашивает. А Джонас как услышал, что у него хотят часы с трубкой отнять, так и вышвырнул преподобного вон.
Ну, преподобный такого не стерпел. Да и как он мог стерпеть? Он же уже был того – тронутый, вещами-то этими.
На следующей мессе он стал прямо бушевать. Каннингемы впали в грех! Оскверняют память своего отца-героя! А если кто сомневается, что вещи Каннингема благодатные, то могут хоть щас прикоснуться к его мощам – к фаланге, то бишь – и убедиться.
Я своими ушами всё это слышал, миста, я там был! Я как раз оправился после той порки и решил сходить глянуть, что там такое пастор людям говорит, что всем так невтерпёж послушать. Но трогать кость я не стал. Ну ж нет! Была б жива моя старуха, ей бы точно стало любопытно, а сам я не стал. Посмотрел на всё на это и ушёл подобру-поздорову.
А те, кто косточку-таки потрогал – то есть почитай все, кто был тогда в церкви – они как рехнулись. Преподобный велел им пойти к Каннингемам, да и отнять у них святые вещи – трубку, бритву и часы. Слуги знали владения Каннингемов, у кое-кого были ключи от ворот. Да…
Это резня была, миста. Настоящая резня.
За преподобного пятьсот долларов посулили, за живого или мёртвого. Его потом в соседнем штате нашли. Сказывают, что он сидел в гостинице и, видите ли, писал письмо президенту. Требовал прислать батальон, чтобы отбить с плантации Каннингемов священные вещи и отправить нашим парням на фронт – они бы их трогали и зверели, чтобы лучше воевать, да.
А ещё писал – не может быть, чтобы благодать сошла только на вещи одного-единственного Джозефа Каннингема. Надобно разрывать могилы всех наших солдат, вытаскивать оттуда любые вещи и раздавать народу – авось ещё что-нибудь найдётся тоже священное. Он уж потом, в тюрьме, пришёл в себя и покаялся, но от петельки это его не спасло.
Ну а Билли… Малыш Джонас, бывший идиот, взял плантацию в свои руки, Фредди лежал в гробу, а о старшем сыне все подзабыли. Он как с войны вернулся, из дому почти не выходил. Мы его толком и не видели, а если видели, то глазам не верили – призрак был, не человек.
В ту ночь, когда преподобный послал людей громить усадьбу, Билли на шум не вышел. И когда внизу дрались, не вышел, и даже когда какая-то шельма запалила шторы и начался пожар.
Оружия-то у них не было, шли с тем, что нашли по дороге: с ножичками, палками, дубинками. Вот с дубинкой Делайла и влезла к Билли в окно. Делайла прачкой была, ну и по этой самой части, когда хозяин был жив. Шибко набожная была, любила голосить псалмы по воскресеньям…
Комната Билли на третьем этаже большого дома, окошко – аккурат возле башенки, а на ту башенку при желании даже ребёнок может залезть. Билли как увидел, что Делайла лезет к нему в окно, так схватил со стола подсвечник, такой, знаете, со штырём посередине, да и засадил ей в глаз, она тут же и померла, в момент.
А потом… Не знаю, миста, как объяснить то, что он сделал, эт вы сами решайте. Он, значится, оставил мёртвую Делайлу где была, и пошёл в ванную на том же этаже. Взял отцовскую бритву и стал бриться. А как добрил, вытер лезвие об полотенце и стал скрести дальше – аж в дрожь бросает, как представлю, миста. Он всё мясо себе с лица соскоблил.
Когда за ним пришли, увидели, что зеркало разбито кулаком, и лежит этот несчастный, с месивом вместо лица, ревёт и плачет – не то от боли, не то от чего-то похуже…
Так вот дом Каннингемов и кончился. Джозефа убили на войне, Фред застрелился, Билли изуродовал себя и скоро загнется. Что до малыша Джонаса, то у него отняли часы и трубку, он присмирел и снова стал мычать да блеять. Эт и к лучшему – так и так он ничего хорошего не говорил. И это ещё не забыть бедняжку Сэйди Риверс, преподобного Риза и многих, кто погиб на плантации в ту жуткую ночь. Много зла случилось, много…
Я вам обещал мораль, миста, но вы, кажется, и без меня всё поняли. Слава Богу, людям хватило разумения оставить чёртовы вещи в покое. Мне поручили спрятать их, закопать – ведь я могильщик. Да и не соблазняют меня такие штуки.
Вот докопаю яму, сложу туда трубку, бритву, и часы, и палец, засыплю их землицей, разровняю и никому не скажу, где лежат.
И вы, миста, не говорите. Не надо.
Интермедия II
Солнце уже почти заходит за горизонт, когда ковбой вдруг слышит звон колокольчика.
Дёрнув поводья, он направляет чалого вниз по склону холма. Звенит где-то совсем близко. Странно слышать этот металлический звук – динь-динь! динь-динь! – на пустой равнине среди кустарника и мшистых камней.
Звон доносится из пещеры под холмом. Высокий вход порос бурьяном, а внутри темно, как подмышкой у Сатаны. Ковбой спешивается, заходит внутрь, зажигает спичку. Колокольчик звенит где-то в глубине.
– Где ты, девочка? – зовёт ковбой тонким голосом. – Где ты, тупая башка? Пора домой! Все твои уже в стойле, тебя дожидаются.
Из темноты, среди багровых пятен, какие обычно видишь, пока глаза не привыкнут к полумраку, раздаётся голос:
– Что-то потерял, пендехо?
Ковбой успевает увидеть отблеск колокольчика, прилаженного к стволу кольта «Миротворец».
Успевает подумать: глупо.
Успевает подумать: ещё посмотрим!
И взводит курок.
Фотоуслуги
Началось с того, что почтмейстер Амос Генри попросил Неда Шиппи выкопать с кладбища труп своей жены.
Дело было в октябре 18** года в заштатном городе N, и хотел бы я сказать, что сам придумал эту историю, но нет, она случилась на самом деле.
Той осенью я застрял в N с опустевшими карманами в ожидании письма от «Макмануса и сыновей». Мне должны были прислать гонорар за «Мясорубку в Делавере» – дрянную почеркушку, изготовленную на том типе вдохновения, которое рано или поздно посещает любого автора, если его достаточно долго не кормить.
Каждое утро я приходил на почту, и тот самый Амос Генри, перебирая телеграфную ленту, равнодушно отвечал, что корреспонденции на моё имя не поступало.
Кроме почты, идти мне было некуда. Я разворачивался и шёл бродить по главной улице, которая заканчивалась живописным видом на прерию – на воплощённое, абсолютное, чудовищное ничто. Я был там как в ловушке. Впрочем, я бы слукавил, если бы сказал, что эти писательские мытарства не казались мне романтичными.
По-настоящему меня расстраивало одно – не было дельной идеи для рассказа. Мой блокнот пополнялся не набросками сюжетов, а только перечнем трат и кредиторов. Сверхидея этого произведения была простая: если так пойдёт и дальше, я окончу на паперти.
И вот, будто откликнувшись на невысказанную просьбу, жизнь разыграла передо мной и целым городом весьма занятный сюжет.
***
Почтмейстер Амос Генри, о котором пойдёт речь, был человек удивительный. Он считался заметной фигурой в обществе города N, но если в иных людях нас привлекают яркая внешность, манера держаться или какие-нибудь экстравагантные привычки, то мистер Генри обращал на себя внимание полным отсутствием чего-то подобного. Это был самый заурядный конторский работник даже по меркам своего невыразительного племени.
Казалось, он родился за письменным столом, там же рос, мужал и развивался. Его рост был оптимален для удобной посадки, позвоночник удерживал спину под строгим углом в сорок пять градусов, размах руки точно совпадал с диаметром столешницы, а пятерня оформилась лишь постольку, поскольку требовалось чем-то держать перо и давить на пресс-бювар.
Его никогда не видели за книгой или хоть газетой, он не ходил в театр, не пил и не курил, ел быстро и без разбора что положат. Он был спокоен и безразличен ко всему. Стоило ему появиться, всем тут же становилось неловко, как если бы в комнату, гремя звонками и реле, вошёл телеграфный аппарат.
Тем удивительнее было наблюдать его в компании жены. Нет, миссис Генри была не певицей в кабаре и не охотницей за головами – что, безусловно, усилило бы художественный эффект, – а всего лишь школьной учительницей. Зато она, в отличие от мужа, выглядела и определённо являлась живым человеком.
Это была по-домашнему уютная женщина лет сорока, добросердечная и улыбчивая. С бесконечным терпением она возилась с городскими детишками, обучая их чистописанию и счёту, а в остальное время помогала в церкви, вязала у себя на крыльце или прогуливалась по главной улице, кивая мне при каждой встрече и спрашивая, как идут дела с рассказами; я всякий раз отвечал: «Превосходно!». В городе гадали, чем же мистер Генри шантажирует эту милую женщину, чтобы та несла столь обременительную ношу быть его супругой.
И вот одним октябрьским вечером мистер Генри засиделся у себя на почте за очередными формулярами. Придя с работы, он увидел, что жены дома нет – а она давно должна была вернуться. Он прождал её с полчаса, пошёл к ней в школу, и вместе со сторожем они нашли миссис Генри лежащей навзничь в проходе между партами. Платье, как рассказывали, непристойно задралось, а вокруг были рассыпаны оброненные тетрадки.
Не каждый день женщина в расцвете лет ни с того ни с сего падает замертво. Местный шериф, большой ценитель детективных историй, решил, что это его звёздный час. Весь следующий день он прохаживался вокруг школы с видом глубокой задумчивости, но, как ни старался, ничего подозрительного не нашёл.
Единственный в городе доктор – юнец лет двадцати, которого безмерно уважали за диплом университета в золочёной рамке – осмотрел тело и признаков насилия не выявил. В резолюции он написал, что помимо укуса в районе правого запястья, вероятно, комариного или осиного, на теле «нет ничего примечательного», и смерть явно наступила «от естественных причин».
Город проводил миссис Генри приспущенным флагом, долгой проповедью и колокольным звоном. Отменили даже фестиваль варенья из степной вишни, обещавший быть самым громким за последнюю декаду.
Но всё это было пустыми формальностями в сравнении с горем Амоса Генри. Смерть жены исказила, казалось бы, вовсе не приспособленное к мимике лицо почтмейстера. На виду у всего города этот прежде безжизненный гомункул стал неистово и неумело кутить.
Его выносили из салуна, а вскоре вообще перестали пускать. Он поселился в весёлом доме. Священник счёл нужным провести с ним воспитательную беседу, так почтмейстер спустил преподобного с лестницы, за что был посажен в тюрьму и отпущен через пару часов под честное слово. Он набивался в компанию к охотникам, ездил с ними за город, возвращался с пустыми руками, уставший, пыльный, и снова принимался пить, да так, будто хотел не захмелеть, а захлебнуться.
Я наблюдал эту агонию вместе со всеми и, стыдно признаться, испытывал лишь интерес писателя, натуралиста над людьми. Вот, думал я, удивительный случай: лишь на пятом десятке человек впервые столкнулся не с повседневностью, но с жизнью.
И вот на излёте своего затяжного прыжка в пропасть Амос Генри связался с Недом Шиппи, одним из тех типов, с кем чураются общаться даже собаки, и сказал ему:
– Мистер Шиппи, я щедро заплачу вам. Выкопайте с кладбища тело моей Молли!
– Мистер Генри, – ответил Шиппи. – Я, конечно, глубоко сочувствую и всё такое… Но вы, часом, головой не стукнулись? Вот так запросто, средь бела дня, вы предлагаете мне…
Он махнул рукой и залпом опорожнил свою кружку. Разговор имел место в распивочной, куда теперь только и пускали мистера Генри. Место держал один лишённый предрассудков китаец: там наливали всем без разбору, да ещё охотно отпускали в кредит, чтобы тот самый Нед Шиппи мог потом взыскать долг с процентами.
– Лянь! – крикнул Шиппи через плечо. – Мне надоело пиво дуть! Плесни-ка этой своей штучки, желторотик разлюбезный.
– Я хорошо заплачу… – говорил мистер Генри. – У меня ещё остались деньги…
– На кой ляд это тебе вообще надо, Генри? – Шиппи перешел на громкий шепот. – Да, у меня репутация, ко мне многие идут за помощью, чего уж говорить. Но есть же какие-то границы! Ты ж сам её только что в землю положил!
Пауза.
– Так, придержи коней. Это из-за фото, что ли? – Шиппи усмехнулся. – Ну ты, брат, удумал!
– Не смейте, мистер Шиппи! – побледнел почтмейстер. – Я люблю свою Молли. И всё для неё сделаю, как полагается супругу. Вы берётесь за работу или не берётесь, дело ваше. А смеяться надо мной не надо.
Здесь, кажется, уместно дать пояснение.
Дело в том, что с кладбища города N незадолго до моего приезда пропали два тела. Хоть кладбищенские кражи не назовёшь чем-то привычным, время от времени они случаются, но было одно обстоятельство, которое вывело этот инцидент на новый уровень: перед тем, как уложить покойных в гроб, их засняли на фотоаппарат в непринуждённых позах, будто бы они живые.
Диковатая европейская практика Post Mortem фотографии и исчезновение тел сплелись воедино – скоро весь город был убеждён, что мертвецы ожили из-за того, что их сняли на плёнку. А потом выкопались и убрели, как говорится, в неизвестном направлении. За это местное суеверие, как утопающий за соломину, и уцепился почтмейстер Генри.
– Если есть хоть какая-то надежда на то, что она… оживёт… Я вам буду вовек обязан! – заискивал Амос Генри, нервно наматывая галстук на палец.
– Больно надо! – Шиппи принял из рук китайца рюмки. – Обязан он мне будет… Да тут куда ни плюнь, все кому-нибудь обязаны, только что это меняет? Вот пастор наш, святоша, обязан не пить и не курить, а он и пьёт, и курит. Или вот жёнка моя, раскрасавица, свет очей. Обязана была меня любить, почитать да жрать готовить, а она что вместо этого сделала? Правильно, дёру она от меня дала, да ещё с кем – с Гэвином Майерсом, стоило ему заикнуться про какие-то там самородки! Может, не было никаких самородков, а эта коза взяла-таки и драпанула от законного супруга, только её и видели. Так дело было? Так, мне от людей скрывать нечего.
А вы мне про какие-то обязательства толкуете, мистер Генри. Пфф! Обязательства хороши как идея. Как кон-цеп-ция. Только никто эту кон-цеп-цию живьём не видел и за хвост не держал. А кто скажет иначе, тот жизни не нюхал, вот и весь сказ.
Как истинный оратор, Нед Шиппи мог длить свои речи сколь угодно долго, не сказав по существу ни слова, целиком полагаясь лишь на гипнотические свойства звуковых вибраций. От его разглагольствований собеседник стремительно впадал в отчаяние – этого Шиппи и добивался.
– Мистер Шиппи, – взмолился Амос Генри, доведённый уже до предела, – как христианин христианина…
Нед строго поднял татуированный палец.
– А вот этого не надо. Не надо. Это знаете, как называется, сэр? Манипулирование. Вы же в курсе, как я чту Господа, Пресвятую Деву Марию, всех апостолов, святых и ангелов небесных, и даже этих младенцев крылатых, забыл, как звать.
Услужливый китаец налил им по рисовой, и ещё по рисовой. Мистер Генри обречённо вливал в себя горячительное, дойдя до той стадии, когда неважно, что пьёшь, где и с кем.
Нед Шиппи придвинул свою табуретку ближе и приобнял почтмейстера за плечо.
– Это же грех из грехов, Амос! – Шиппи входил в роль закадычного друга. – Раскопать могилу! Ну подумай, что скажет пастор? Что скажет шериф? А что скажет миссис Даррен из магазина, мне вообще представить страшно. На таком попадёшься – штрафом не отделаешься. Погонят из города взашей, это в лучшем случае! А, может, сразу повесят.
– Назовите цену, – сказал почтмейстер, глядя в стол стеклянными глазами.
Шиппи понял, что клиент готов.
– Ладно! – сказал он. – Чёрт с тобой! Но сразу говорю: это дорого тебе обойдётся, Амос. И фотографы, к которым ты приволочешь тело, явно возьмут не меньше моего.
Он постучал по столу пустой рюмкой и резко встал.
– Завтра меня жди. А до тех пор никому ни слова. Лянь, рассчитай его. Заплатишь, Амос, старина? Если что, тут можно в кредит.
В любом крупном городе такого проходимца, как Шиппи, давно определили бы за решётку, но в маленьких городах всё иначе. Человеческое поголовье там столь невелико, что сама собой приходит мысль: и паршивые на что-нибудь сгодятся.
***
Следующей ночью, под козырьком неприметного домика с вывеской «ФОТОУСЛУГИ», трое мужчин сидели и ждали, незаметные в ночном мраке.
Первый – Амос Генри – судорожно уничтожал содержимое портсигара, его страдальческое лицо освещал тлеющий кончик папиросы.
Второй – индеец, краснокожий гигант по имени Половина Неба – прикрыв глаза, перекатывал в ладони два скрипучих стеклянных шарика.
Третий – карлик, называвший себя Джованни, чьей биографии (судя по всему, вымышленной) можно было бы посвятить цикл романов, – шлёпал себя по щекам, чтобы не уснуть.
Все трое не сводили глаз с дороги. Мощёную досками улицу подсвечивала мутной серебристой луны, мерцавшая в небе, как болт на крышке гроба.
Вдали послышался колёсный скрип. Вслед за этим на дороге возник Нед Шиппи. Стараясь двигаться одновременно быстро и тихо, отчего выглядел по-обезьяньи комично, он вёз перед собой тачку с чем-то продолговатым и замотанным в рогожу.
Увидев его, индеец вошёл в дом, карлик принялся креститься и что-то бормотать на ядрёной смеси английского с сиу, а Амос Генри, бросив окурок, медленно двинулся навстречу. Подъехав ближе, Шиппи безо всякого благоговения отогнул край рогожи, и на мистера Генри уставилось мёртвое лицо его жены.
Среднему человеку, если он не солдат, не врач и не гробовщик, редко приходится видеть мёртвых. Мистеру Генри не с чем было сравнивать, но всё же он удивился: жена выглядела так, будто все эти дни пролежала не в гробу, а у себя в постели.
– Как она… Как она… – забормотал почтмейстер.
– Шикарно сохранилась, что есть, то есть, – Шиппи потёр руки. – Изволь-ка мой гонорар, Амос, старина, и я убираюсь отсюда. Что-то за город меня потянуло, на волю.
Получив от мистера Генри пачку банкнот и серебряные часы впридачу, Шиппи зашагал прочь, взбивая пыль; его роль в этой истории окончена.
Оглушающая тишина ночного города посреди прерии. Холодный ветер, остужающий лицо.
Мне тяжело представить – и уж тем более уложить на бумагу – то, что творилось в душе и мыслях Амоса Генри. До тех пор ему служило подспорьем блаженное отупение, которое охватывает нас в моменты бедствий. Теперь же, стоя на улице со своим зловещим грузом среди всех этих «Галантерей», «Почт» и «Магазинов», он, должно быть, осознал, что происходит.
– Мистер?
Карлик Джованни приглашал мистера Генри войти. Тот взялся за истёсанные рукояти тачки, но тут же понял, что тачка слишком широкая и не пройдёт в дверной проём.
– Простите, – обратился он к Джованни. – Вы мне не поможете?
– В каком смысле? – вскинул брови карлик.
Амос Генри скосил глаза на замотанный рогожей труп.
– Ну, мне нужно… Нужно её поднять.
– О, мистер Генри, – сказал карлик, – я не то чтобы гожусь для переноски тяжестей.
– Я тоже…
– Ну и что же мы будем делать?
– Может быть, вы попросите вашего коллегу?
– Вы о Половине Неба?
– О нём.
– Он настраивает аппаратуру.
Тут в почтмейстере заговорил какой-никакой, а чиновник.
– Любезный, я вам всё-таки деньги плачу. Может, вы могли бы сами внести тело? Если это не входит в стоимость, надо было это заранее оговаривать.
Карлик осторожно спрыгнул с крыльца, подошёл к Амосу Генри и уставился на него снизу вверх своими слишком взрослыми для такой комплекции глазами.
– Вы платите нам, мистер, – сказал он с расстановкой, – чтобы мы ночью, тайно, сфотографировали украденный с кладбища труп. А потом нам надо бежать из города, где мы могли бы ещё работать и работать. Вот за что вы нам платите, а не за переноску грузов! Так что уж потрудитесь как-нибудь сами. Я, может, вообще покойников боюсь.
Карлик пошёл в ателье, а почтмейстер так и застыл на месте, не в силах ни на что решиться. Если бы индеец над ним не сжалился и не внёс тело в ателье, мистер Генри, вероятно, так и встретил бы первых утренних прохожих на том самом месте, с трупом жены в тачке.
Итак, они вошли и заперли дверь.
В глубине пустой комнаты, позади цветастых ширм и фотообоев, освещённое прихотливо расставленными лампами, стояло одно-единственное кресло. Подлокотники и высокая спинка были снабжены металлическими деталями, напоминавшими растопыренные крабьи клешни.
Напротив кресла была установлена лакированная тренога, а на ней – две толстые пластины, соединённые кожаной гармошкой. Это и был фотоаппарат, невиданное в тех краях инженерное чудо.
Индеец внёс тело, положил на пол и размотал рогожу. Миссис Генри была одета в тёмно-синее платье, странно напоминавшее то самое, повседневное, в котором она выходила к ученикам в школе и в котором её и нашли мёртвой. Индеец подтащил тело ближе и стал усаживать в кресло. Карлик по мере сил помогал ему, перебегая с одной стороны к другой, что-то бормоча себе под нос: то покойница слишком тяжёлая, то слишком мягкая, то ещё какая-то не такая, как нужно.
Индеец стал настраивать захваты так, чтобы они удерживали корпус, руки и шею покойницы, создавая иллюзию непринуждённой посадки. Когда он закончил с этим, карлик взял баночки с красками и стал окрашивать голову, шею и руки трупа в желтизну, белизну, охру.
Амос Генри прикрыл глаза, чтобы унять накатившую дурноту, а когда открыл, увидел в кресле перед собой уже не «труп», не «тело», а свою Молли. Жена смотрела на него отрешённым взглядом потускневших глаз, будто, побывав на той стороне, утратила память и силилась понять, что за человек перед ней.
Проверив, надёжно ли закручены винты на захватах, индеец отошёл и встал за аппарат. Почтмейстер наблюдал за его работой. Хлопки и вспышки аппарата знаменовали собой надежду.
Сделав положенное число снимков, индеец стал неспешно разбирать аппарат; соседство с мертвецом его не смущало.
– Мистер, – карлик осторожно тронул мистера Генри за плечо. – Знаете, не в моих правилах лезть к людям с советами, но…
– Говорите, – слабо закивал Амос Генри. – Говорите…
За то время, что индеец фотографировал тело миссис Генри, он постарел лет на десять.
– Ещё можно всё переиграть. Вы получите от нас снимки – хорошие снимки. На добрую память. А тело можно хоть отнести обратно на кладбище. Поймите, ни я, ни мой краснокожий друг, мы не верим в этот… в то, что…
– Снимки мне не нужны, – проговорил мистер Генри. – Вы же знаете. Дело не в снимках.
Упаковав последнюю деталь аппарата в безразмерный саквояж, индеец вышел на середину комнаты и что-то сказал. Джованни хмыкнул:
– Он просит прощения, что не может остаться здесь с вами. Говорит, нельзя человека наедине с таким оставлять. Что-то не замечал за ним раньше таких сантиментов. Ну ладно. Честь имею, мистер. Пусть ваша надежда оправдается. Если так, мы всяко узнаем об этом из газет.
Они ушли, и вот в пустой комнате остался Амос Генри с телом своей мёртвой жены, усаженным в кресло.
Не ждите авторской позиции, её не будет. Право слово, я не знаю, что думать о поступке мистера Генри. Должен ли я воспеть оду любящему мужу, который подобно Орфею спустился за своей Эвридикой в ад? Или нам стоит ужаснуться безумию человека, дошедшего до грани? Чего здесь больше, курьёзного или поучительного, смешного или страшного? Я не знаю.
Из приоткрытого окна просачиваются обжигающе-холодные струи осеннего воздуха; колеблется пламя светильников; по увешанным декоративными картонками стенам пляшет тень от мёртвой женщины; неровно, надтреснуто тикают часы; пульсирует оранжеватый свет свечи, одновременно тёплый и тревожащий, как на картинах Рембрандта.
Может быть, на описании этой сцены мне следовало бы и закончить. Потому что на исходе третьего часа, когда сон и явь окончательно перемешались в голове у Амоса Генри, в дальнем конце комнаты зародился вздох, полный горькой, неизбывной тоски, и усаженный в кресло
труп
зашевелился.
***
Когда проездом в городе N было «Шоу Дикого Запада» и, исполняя один из своих прославленных конных трюков, Баффало Билл вывихнул лодыжку, об этом вспоминали следующие десять лет.
Когда пастуху Баббе Макферстону показалось, что пятна на корове образуют перевёрнутый крест, это поставило общину на грань религиозной истерии.
И вот теперь в фотоателье, кажется, воскресла женщина.
Хотелось бы избежать навязших на зубах сравнений, но город вправду превратился в пчелиный улей – так шумно на моей памяти там не было ни разу. Казалось, все 272 горожанина, упомянутые на вывеске, прибитой к въездным воротам, собрались тем утром у «ФОТОУСЛУГ».
Старики протискивались вперёд, требуя уважить их седины, женщины делали вид, что просто шли мимо, а мужчины от мала до велика азартно притопывали на месте; кое-кто даже вскарабкивался на крыши, будто занимая ложи в театре.
Кособокая вывеска с фотоаппаратом безвольно болталась под порывами ветра. Изнутри не доносилось ни звука. Примечательно, что толпа заняла противоположную сторону улицы – ни приблизиться, ни тем более войти в злосчастное ателье никто не отваживался.
Ключевые фигуры куда-то исчезли: не было шерифа, на чьё мужество вполне естественно было рассчитывать; не было владельцев ателье, карлика с индейцем; не было и Неда Шиппи, чьё имя то и дело всплывало в связи с разрытой могилой. И только Амос Генри, тень самого себя, сидел, держась за голову, на крыльце и что-то бормотал; его никто не слушал.
В этом странном равновесии прошло с четверть часа. Забил колокол. Со стороны церковного холма к людям вышел престарелый мэр в сопровождении нескольких конных и предложил всем пройти в зал собраний: нет, мы не будем вламываться в ателье, нет, мы ещё не решили, что именно произошло, нет, мы не знаем, где шериф, индеец, карлик и Нед Шиппи, но всё это мы обсудим позже, дамы и господа, давайте всё-таки вести себя как цивилизованные люди.
Кто-то остался дежурить возле ателье, но большая часть взволнованных граждан пошла за мэром. Зал собраний не мог вместить всё население разом, так что пришлось открыть настежь двери и окна, чтобы обсуждение слышали те, кто остался на улице.
Если вы хоть раз бывали на городском сборе, то знаете, каким увлекательным может быть это действо. Многочасовые, тошнотнорно-подробные выяснения, кто у кого увёл корову, или правомерно ли присваивать яблоки, упавшие с соседского дерева на твой участок – всё это бодрит и будоражит кровь. И хоть предмет разговора был особый, взялись за него тем же обстоятельным манером.
Слово брали попеременно мэр, помощник шерифа – за отсутствием самого шерифа, – снова мэр, хозяин постоялого двора, пастор, миссис Даррен из магазина, снова мэр, снова миссис Даррен из магазина, и так по кругу на протяжении доброго часа. Пару раз на трибуну выталкивали Амоса Генри, но тот, норовя скорее сойти со сцены, лишь сбивчиво повторял историю о том, как сфотографировали тело его жены, которое потом зашевелилось.
Обсуждение обрастало массой несуразностей и домыслов. А ведь предполагалось, что всё это время в фотоателье заперта не то воскресшая женщина, не то демон, овладевший её телом, не то некий феномен, понять который мы пока не способны. Наконец, когда люди уже порядком утомились и кто-то даже предложил послать за напитками, на помост снова взошёл мэр.
