Корин бесплатное чтение
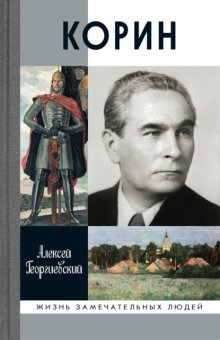
Жизнь замечательных людей
© Георгиевский А. С., 2022
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022
Художник милостью Божией
«Художником милостью Божией» назвал Павла Корина патриарх Алексий I после посещения персональной выставки живописца в феврале 1963 года. По отзыву другого посетителя, оставившего свою запись, «выставка произведений Корина – это удар в Царь-колокол!».
Первый публичный показ основных произведений великого художника в «оттепельное» время, после многих лет замалчивания, непризнания сути его творчества – из-за несоответствия идеологическим требованиям «социалистического реализма», – потряс и обрадовал настоящих ценителей живописи, знатоков русской истории, почитателей русского духа.
В первую очередь в этих отзывах, конечно, имелась в виду эпохальная и незавершенная картина «Реквием. Уходящая Русь», представляющая образы множества по-преимуществу духовных лиц в интерьере Успенского собора Московского Кремля на последней разрешенной тогда властями пасхальной службе 1918 года, но имеющая и обобщенный характер.
Подготовительные этюды к задуманной композиции составили целую галерею образов-портретов, приобретших волею и кистью мастера самостоятельное значение. Образы «Уходящей Руси» трагедийны и глубоко психологизированны, они имеют в русской культуре предшественников в персонажах «Бориса Годунова» Пушкина и Мусоргского, «Братьев Карамазовых» Достоевского. Однако можно сказать, что нет прямых аналогов историческому моменту в русской истории, когда само существование государства Российского после 1917 года было поставлено под вопрос, – вследствие того, что затянулся этот «момент» на многие годы… Тем насыщеннее переживания, тем усугубленнее драматизм, остро ощущавшийся в те времена наряду со своими персонажами самим художником, впоследствии свидетельствовавшим: «Я не смотрел на них со стороны. Я жил с ними. И сердце мое обливалось кровью»¹.
Цвет нации, именно эти люди наиболее остро восприняли произошедший социальный – и духовный! – катаклизм как личное горе. На них в первую очередь и была направлена дьявольская разрушительно-уничтожающая сила.
Корин не запечатлевал специально светских конкретно-исторических деятелей, как его учитель Михаил Нестеров на полотне «Христиане. Душа народа». Наряду с известными духовными лицами в его «Руси» много собирательных персонажей, представляющих народ. От нищего до патриарха – все они на картине тем не менее составляют единое целое. «Святая Русь» на переломе своей жизни…
Не оказалось возможным Павлу Корину завершить ставшее бы мировым художественным явлением полотно. Для художника в те годы проблема встала примитивно простая – возможность самого существования. Чтобы как-то жить, ему пришлось в 1930-е годы переключиться, подобно его учителю, религиозному лирику в живописи Михаилу Нестерову, на портреты деятелей современной культуры (Качалова, А. Толстого, Р. Симонова, Игумнова, Коненкова, Сарьяна, Кукрыниксов…). И, как и у Нестерова, они одни составили ему известность выдающегося живописца советского времени. Кроме того, занимался Корин в 1940–1950-е годы оформлением станций московского метро (мозаики на «Комсомольской-кольцевой», витражи на «Новослободской»), реставрацией (восстановление полотен Дрезденской галереи), преподаванием живописи.
В конце 1950-х – 1960-е годы, с переменой политических ветров, Павла Корина уже невозможно стало скрывать от внешнего мира. Официальное признание повлекло за собой звание народного художника, Ленинскую премию – «за серию портретов современников». В 1965 году он совершил поездку в Америку, в Нью-Йорк, с выставкой своих полотен, и выставка эта имела там большой успех.
В старинном иконописном селе…
Павел Дмитриевич Корин говорил о себе: «Я художник не только по призванию, но уже по рождению». И это было действительно так. Село Палех, его родина, издревле славилось на Руси ремеслом-искусством – иконописью. С XVII века поименно известен род иконописцев-палешан Кориных. Павел Дмитриевич на обороте портрета своего отца Дмитрия Николаевича работы двоюродного брата – известного художника-передвижника Алексея Михайловича Корина сделал такую запись:
«Род Кориных крестьян-иконописцев села Палеха.
Иконописцы:
Федор Корин,
Федор Федорович,
Максим Федорович,
Пахом Максимович,
Петр Пахомович, родился около 1770 года,
Илларион Петрович,
Николай Илларионович,
жена его Марья Николаевна Корина, урожденная Коровайкова.
Дети их:
Михаил Ник.,
Трифон Ник.,
Дмитрий Ник.,
Никифор,
Иван.
Дети Михаила Ник.:
Алексей – художник-передвижник,
Николай,
Андрей.
Дети Дмитрия Ник. и жены его Надежды Ивановны Кориной, урожденной Талановой:
Сергей,
Евлампия,
Михаил,
Павел,
Александр».
Именно таковы многовековые «дрожжи», на которых вырос уже в XX веке великий художник. Видимо, только так – как дерево вырастает, ежегодно кольцуясь и таким образом крепчая и разветвляясь, – и может появиться на свет Божий что-то значительное – после многовековой природной подготовки. По крайней мере, это правило.
Род Кориных являлся одним их основных четырех-пяти коренных, главных иконописных родов Палеха. В начале XIX века Корины держали свою мастерскую. И роднились они с видными людьми села. Так, Коровайковы, каковую фамилию в девичестве носила бабушка Павла Корина Мария Николаевна, были и отменные иконописцы, и зажиточные купцы. А Таланова – мать художника; уже сама фамилия в этом случае значима, говорит о таланте ее семьи.
Ныне в палехском доме-музее П. Д. Корина хранятся работы предков выдающегося живописца – иконы, рисунки. На рисунке начала XIX века «Иоанн Богослов в молчании» прадеда П. Д. Корина Иллариона Петровича есть подпись автора, в которой чувствуется гордость настоящего мастера за свою работу: «Сей рисунок Ларивона Петрова Корина собственной его чести». Такие рисунки передавались из поколения в поколение в качестве образцов, по ним написаны десятки икон. Сохранилась его же письмá икона «Иоанн Предтеча в пустыне», датированная 1806 годом. Бережно хранится и документ – его паспорт, выданный помещиком Николаем Каурцевым по разрешению губернского регистрата 1 июля 1827 года.
Прекрасными мастерами были дед и отец художника. В музее представлены три замечательные иконы отца, двухметровая подставка для писания икон, кованый железный сундучок с принадлежностями иконописца века девятнадцатого…
Дом Кориных – крепкий, основательный, как и многое в прошлом, – был окружен зеленой лужайкой. Да и весь Палех представлял собой нечастые дома, отнюдь не сгруппированные в кучу, окруженные множеством деревьев, зелени. Всё это хорошо видно на акварели Павла Дмитриевича «Дом Кориных в Палехе» 1929 года. А в другой его работе под тем же названием, 1934 года, – отчий дом, родовое коринское гнездо в приближенном ракурсе: с поэтическими березами по фасаду и сбоку, освещенный ослепительным солнцем конца лета, трехоконный с торца, ухоженный крестьянский дом, – колыбель детства великого художника, где он и появился на свет 25 июня (8 июля по новому стилю) 1892 года.
…В просторной светлой кухне, изображенной Павлом Кориным в акварели «Наш дом», – с фундаментальной русской печью, на которую укладывали спать в зимнее и промозглое осеннее время младших ребятишек, – и происходила главным образом работа иконописцев Кориных. Паня – так звали Павла Дмитриевича в семье – и младший его брат Санька, едва проснувшись, с любопытством наблюдали по утрам сверху, с печи, за отцом, старшими братьями. Те макали тонкие кисти в разложенные на столе хохломские ложки с отломленными ручками, – в них придумали разводить краски, – и то золотом, то киноварью, а то и смешивая несколько красок, проводили уверенные линии на подготовленных для письма икон залевкашенных кипарисовых досках… Начиналась работа – исконная, фамильная… Вскоре и Паня начнет учиться семейному ремеслу.
А пока для него широко был открыт мир детства. В этот мир входило и тесное общение с природой – хождение по грибы, ягоды… Измлада вбирал он в свою душу красоту родного края. Игры со сверстниками, летом купание в «море» – запруженном разливе реки Палешки, зимой – катание на коньках по этой же глади – ледяной, расчищенной от снега. Срединная Русь – Владимирская земля – прекрасна в любое время года. Неброская, застенчивая прелесть былинок, трав, цветов… Широкий, далекий «окоем», распахнутость пространства, – всё это найдет свое отражение впоследствии у Павла Корина в панорамных пейзажах родных мест. Панорамах с неотъемлемыми доминантами – белыми колокольнями церквей, устремленными ввысь.
В Палехе две церкви с живописными, организующими пространство колокольнями. Крестовоздвиженская церковь – как собор, непохожа на сельскую: с чугунным узорчатым полом, головокружительной высотой потолков-куполов, чудесно расписанная. У сказочной по архитектуре Ильинской – погост, где похоронены деды и прадеды Павла Корина. Истово верили палешане в Бога, с любовью и основательностью строили храмы в Его славу. Весьма религиозной была и семья Кориных. Церковные обряды, домашние традиции, связанные с церковными праздниками, – всё это вошло с детских лет в душу, сознание Павла Корина. (Его отец «очень хорошо пел баритоном в церковном хоре и хорошо читал на клиросе»1.)
Широта русской натуры, порой почти полюсная, была присуща палешанам; «минусовой полюс» заключался в многопитии, кое у кого в периодических запоях. Много позднее, принимая гостей в Палехе и водя по здешнему музею, Павел Дмитриевич сказал, отвечая на вопрос, почему так мало жили палехские художники: «А пили-то сколько! Ведь не бутылки ставили на стол, а четвертные бутыли… Вот и укорачивали себе жизнь». А как-то после прослушивания пластинки Ф. И. Шаляпина «Жило двенадцать разбойников» удивлялся силе и чувству, вложенному певцом в слова песни – старинной баллады: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил»: «Ведь это так просто не придумаешь: “Со-весть!” – как Федор Иванович произносит! Когда у нас тятя запивал (мы отца тятей звали), страшен был тогда, – вот откуда это “со-весть!”: он, когда протрезвлялся, воду святую пил, каялся, но потом все-таки снова запивал. Вот и Шаляпин, верно, такое знал. Просто не произнесешь так»… Водка и сгубила отца Павла Корина, Дмитрия Николаевича, талантливого художника: в 1901 году в припадке белой горячки он наложил на себя руки.
Трудно пришлось семье с потерей главы, кормильца. Паня был еще совсем маленьким, ходил в начальную школу. Учась ремеслу, он стал помогать своим близким писать на иконах «доличное», то есть всё, кроме ликов, тогда как лики писали взрослые, опытные иконописцы. «Большаком» в семье стал старший брат Павла Сергей, считавшийся тогда одним из одаренных молодых художников Палеха. Он-то первым и разглядел незаурядный талант Павла, настоял на дальнейшем серьезном учении в палехской иконописной школе, а затем и в Москве. С постоянно добрым, теплым чувством вспоминал Павел Дмитриевич и старшую сестру Евлампию – Евлашу, любимую всеми братьями, в то тяжелое для семьи время взявшую на себя многие заботы по хозяйству, облегчая жизнь матери. Впрочем, по хозяйству помогали все. Мать Надежда Ивановна была образованным человеком – в доме имелись книги Лескова, Льва Толстого, Тургенева, Гоголя. Выписывались семьей популярные в то время журналы, такие как «Нива», «Вокруг света», а также «Живописное обозрение» и богатые приложения к ним – собрания сочинений русских и зарубежных писателей, цветные репродукции, литографии.
Так, в чересполосице жизни, сочетании, перемежении светлых и трагических ее сторон протекала начальная пора Павла Корина. И, конечно, трагедия смерти отца оказала воздействие на характер, личность художника, на его дальнейшее жизненное восприятие. Но хотя зарубки трагедий, особенно происходящих в юном, нежном возрасте, бывают глубоки и остаются на всю жизнь, она состоит из многого другого. И, очевидно, ее одухотворенность у подростка Павла Корина шла из разных и многих источников.
В 16 лет, через год после окончания палехской иконописной школы, Корин уедет из Палеха в Москву. Впереди будут напряженная работа, взлеты, победы и тяжелые времена, судьбоносные встречи, и в частности, с великой княгиней Елизаветой Федоровной, с М. В. Нестеровым и – в дальнейшем – с А. М. Горьким, во многом определившие его дальнейший путь. Но постоянно внутри него будет теплиться и согревать нежное сыновнее чувство к этой земле, «велми пречюдной» и «красно украшенной» русской Владимирско-Суздальской земле, где он впервые ощутил красоту и гармонию мира, но где познал и драматизм, трагизм жизни. Это глубинное чувство отразится во многих коринских пейзажах Палеха и окрестностей 1920—1960-х годов.
Так, например, в пейзаже «Палех» 1932 года – вид с севера: над белой церквушкой поднялись и кружат стаи воронья. Небо холодное, осеннее. Ощущаются и родственная сопричастность художника изображаемому, и сопереживательная тоскливая нота.
Ощущение драматизма, трагизма жизни будет проистекать у Павла Корина не только из-за безвременной смерти отца, но и по более глобальному поводу. Известно, что после революции 1917 года началось сокрушение основ русской жизни. Это впрямую затронуло душу, сознание столь глубоко и исконно русского человека, как Павел Корин. Подобно Сергею Есенину («в своей стране я словно иностранец»), он ужасался и тосковал: утвердившийся веками строй русской жизни подвергался поруганию и разрушению. Физическое уничтожение инакомыслящих, просто людей «нереволюционных» сословий («кто не с нами – тот против нас»), насильственное переселение и гибель тысяч самых работящих крестьян в 1929—1930-е годы, организованный голод в 1932–1933 годах в южных областях России – народной житнице, наступление на интеллигенцию, варварское отношение к религии и Церкви – все эти преступления против народа глубоко затрагивали, тревожили и оскорбляли Павла Корина. Тогда-то, из этих чувств, прежде всего и родился замысел главной картины – «Реквием. Уходящая Русь».
Но еще до этого пика своего творчества Корин отдал дань малой родине – много светлых и грустных, щемяще родственных чувств своих излил он на полотна палехских пейзажей 1928 года.
В свой день рождения, 8 июля 1928 года, он записывает: «Сегодня мне исполнилось 36 лет. Пора становиться художником».
Корин был чрезвычайно требователен к себе. Ведь позади у него тогда были уже учеба и в иконописной школе, и в Училище живописи, ваяния и зодчества, и – особенно – прохождение «штудий» у М. В. Нестерова, много самостоятельных работ. Но у молодого художника очень высока «внутренняя планка», остро̀ ощущение уровня гениев мировой живописи, которого он стремится достичь в своем творчестве. Что же он тогда делает «во исполнение» этого своего стремления, намерения? Корин едет почти на всё лето и осень в Палех, где пишет множество прекрасных пейзажей – в качестве подготовки к основному, главному пейзажу «Моя Родина», который займет затем в русской пейзажной живописи весьма почетное место.
Драматизм тогдашней жизни трансформируется в коринских пейзажах в элегию, щемящую боль от диссонанса божественной красоты среднерусской природы и трагического несовершенства человека, несоответствия его этой высокой красоте.
В этюде к пейзажам «Ветка рябины» огненно-красные гроздья никнут долу. Поэзия и жизнь сплетены здесь воедино.
Крепко стоит на земле «Ель», вошедшая затем в основной пейзаж на передний план, – как бы олицетворение несломленности духа народа.
Много этих панорамных, вытянутых по горизонтали пейзажей включают палехские церкви. К тому времени или вскоре обе церкви будут закрыты для богослужения и превратятся: одна – Крестовоздвиженская – в музей, а другая – Ильинская – в склад. Через тридцать лет, будучи в Палехе со здешними учениками-художниками, Павел Дмитриевич осматривал состояние той и другой церквей, их росписей – всё было в плачевном виде. Молодые палехские художники запомнили, как сокрушался и негодовал Корин: внутри Ильинской церкви все росписи, выполненные много лет назад предками нынешних палешан с большой любовью и старанием, причем клеевыми красками, были забелены известкой, после чего оказались практически невосстановимы; фундамент дал трещины, крыша поржавела, окна с побитыми стеклами и вообще без стекол… Тогда П. Д. Корин добился через Министерство культуры, чтобы палехские церкви были включены в план реставрации.
А в 1928 году художник работал над пейзажами самозабвенно, не глядя на ненастную погоду: почти каждый день лил дождь, в окрестностях – грязь, слякоть. Приходилось, выходя «на пленэр», всякий раз брать с собой и устанавливать большой складной зонт. Впрочем, погода соответствовала замыслу художника.
На полотне «Моя Родина» тяжелые свинцовые тучи закрыли собой горизонт. Закатно алеет край неба, отдаваясь кроваво-красным облачком в другом его конце. В левой стороне пейзажа нагнулась, накренилась долу юная береза. Дальше темнеет полоска густого леса. Справа – поле желтого жнивья с несколькими связками снопов. На первом плане – родное разнотравье: полынь, иван-да-марья, столистник, осенний темно-рыжий щавель…
Корин в то время записывает о своей работе: «В пейзаже я уже нарисовал почти весь первый план, и он сразу как-то ожил, завтра стану на самом первом плане рисовать упавшую березу и заворот дороги (выделено мною. – А. Г.)»2. Этот вариант не вошел в «окончательную редакцию» пейзажа, но интересен как отражающий тогдашнее умонастроение художника.
От края и до края изображенного – русская широкая равнина, распахнутость земли, пространства. Вдали, почти на самом горизонте, – силуэт палехской церкви со «свечой» – упирающейся в небо колокольней; около нее – крыши домов села. Говоря впоследствии об этой своей работе, Павел Дмитриевич вспоминал: «Сколько раз в час заката я любовался этим видом, сколько раз в этот час слушал я “вечерний звон”. Звон в Палехе был торжественный и задумчивый, он несся по полям и лесам, наполняя собой всю окрестную природу, и она, притихшая, слушала его. И я слушал вместе с ней, и так хорошо думалось и мечталось…»
В известном «Вечернем звоне» Левитана – светлая, можно сказать, ласковая умиротворенность… Здесь же – иное настроение. Элегическое от сознания красоты родной земли и ее трагедии. А в целом получилась эпическая мини-картина, лучше многих пейзажей и другого жанра картин иных «социальных» художников передающая время, нелегкую драматическую эпоху. И – одновременно – дыхание вечности.
Если говорить о технике живописи – изощренно тончайшей, то здесь художнику определенно пригодились навыки иконописания с его филигранной обработкой деталей, – так, как, например, в особенно любимой Павлом Дмитриевичем строгановской иконописной школе, к которой тяготела палехская.
Корин полностью закончил пейзаж «Моя Родина» лишь в 1947 году. (Работа над его завершением тогда, в конце 20-х годов, была отложена в связи с охватившей художника идеей «Реквиема».) Но и после этого не раз возвращался он к пейзажам своего Отечества. Писал их, пожалуй, чуть ли не всякий раз, как приезжал в Палех, а жил он в родном селе летней порой почти каждый год до самой своей кончины.
По приезде Павла Дмитриевича в Палех оживал старый дедовский дом, снова наполнялся звуками, голосами, и заботами, и творчеством. Местные художники, их дети встречали своего великого земляка у его дома с цветами, жена Корина, Прасковья Тихоновна, одаривала их тут же конфетами, столичными сластями.
Павел Дмитриевич никогда не отказывался посетить заседания правления или общего собрания палехских художников, которые после революции вынуждены были перейти от иконописи к росписи шкатулок и другим «лаковым миниатюрам». Принимал Корин участие и в защите дипломных работ в местном художественном училище, давал ценные советы, запоминавшиеся молодыми художниками на всю жизнь. Внушал им, как внимательно, любовно надо относиться к русской иконе. Никогда Павел Дмитриевич не выступал «с трибуны», а всегда тихо беседовал, с доброй улыбкой мягко и ненавязчиво советовал.
Приезжая в Палех, Корин обязательно навещал всех своих сверстников, палехских мастеров, интересовался их работой.
В день Петра и Павла, 12 июля, именины (в этот день Павел Дмитриевич отмечал заодно и день рождения, бывший четырьмя днями раньше), Корины приглашали к себе родных и близких друзей. И последний свой день рождения, 75-летие, Павел Дмитриевич Корин отмечал на родине в Палехе. Земляки провели его официальное чествование.
Всю жизнь художник стремился сюда, на землю своих предков, в обожаемый Палех: «Душой отдыхаю здесь, – говорил Павел Дмитриевич. – Родное всё – и житейское, и художественное».
«Добрые гении» Павла Корина
Как говорят, «новое поколение стоит на плечах предыдущего». Это означает, помимо общего продвижения в каких-то областях жизни, помимо возможности использовать достигнутый предыдущим поколением результат, и непосредственную помощь. Хотя бы такую: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». И после благословения маститого, признанного мастера новому ниспосылается иное отношение окружающих, он как бы уже тоже признан – хотя пока лишь в узком профессиональном кругу. Но и это уже много.
Предыдущее, старшее поколение непосредственно передает свое мастерство и через те или иные штудии. (Во всех подобных рассуждениях влияние общего массива культуры подразумевается.) Талантливому человеку проявить свои задатки, раскрыться помогают и личные, и бытовые условия жизни, ее устроенность, везение. А история знает случаи, когда и из невезения, и из неустроенности, как бы в противовес всему, человек проявляет себя. Но это все-таки исключение. И труднее такое совершить художнику, ибо он связан по характеру своей деятельности со многими бытовыми мелочами.
Итак, для того чтобы человек «пробился», нужны определенные условия, как в природе для растения – свет, тепло, влага и прочее.
Всё это говорится к тому, что Павлу Корину, уже по рождению художнику, свое призвание пришлось осуществлять во вполне конкретных, часто непростых жизненных обстоятельствах. И вот что благоприятствовало ему на этапе становления, а что нет, и, соответственно и прежде всего, о встреченных им людях – наш рассказ в этой главе.
Обычно достигший признания человек отдает дань в первую очередь всему хорошему, что было в его жизни, поминает добрым словом людей, оказавших ему внимание, помощь, в нужный момент «подставивших плечо». Словом, говорит прежде всего о своих «добрых гениях».
Не был исключением и Павел Дмитриевич, когда рассказывал о своей начальной поре. Поэтому мы знаем, что к таким людям в его жизни, во-первых, следует отнести родителей – прежде всего мать, затем сестру Евлашу и брата Сергея.
Был на ответственном этапе восхождения в большом мире еще один человек, сыгравший значительную роль. Это Клавдий Петрович Степанов. Столичный художник, образованный человек, окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета, долгое время живший в Италии, во Флоренции. Он приехал в Палех в иконописную школу набирать учеников для своей московской иконописной мастерской. Корин к тому времени (а это 1909 год) уже съездил в Москву, но «обжегся», не прижился. (Хозяин иконописной палаты в Москве давал ему вместо учебных разные бытовые поручения: сходить в магазин, наколоть дров и пр. Павел, в конце концов, собрал свой сундучок и вернулся в Палех.)
Наставник палехской мастерской рекомендовал гостю Павла Корина как серьезного даровитого юношу. Степанов поглядел его работы: «Да-а, способности у Вас есть. Не хотите ли поехать со мной в Москву?» Павел ответил, что ему нужно посоветоваться дома. Родные вначале стали отговаривать: «Был уж!» Но Павел почувствовал в этом приглашении перст судьбы.
В Москве он стал любимым учеником Степанова. Тот увидел в нем большие задатки, говорил: «Учись, милый, Рафаэлем будешь». Водил его по музеям, много рассказывал об искусстве. Из Италии Степанов привез множество художественных открыток, которые держал в ларце, – его он отдал в распоряжение Павла Корина. Молодой человек с наслаждением открывал для себя чудесное мастерство художников всех времен и народов: там были прекрасно отпечатанные репродукции произведений Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи… Но особенно сильное впечатление на Корина произвел соотечественник – Александр Иванов с его удивительным полотном «Явление Христа народу». Эту картину он увидел воочию в Румянцевском музее, где она тогда находилась, и не мог оторваться – часами рассматривал, размышлял, приходил еще и еще. Александр Иванов своим великим произведением через годы оказал влияние на будущего великого же художника Павла Корина, пробудил в нем большие силы, необходимый импульс для творчества. Как сказал поэт: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» (в данном случае слово живописное).
Клавдий Петрович Степанов давал впечатлительному юноше и книги по искусству (в числе прочих – запомнившуюся «Историю искусств» Н. Гнедича), и книги о художниках и, в частности, об Александре Иванове. Эту последнюю (автора А. Новицкого), вспоминал впоследствии Корин, он читал с особым чувством; нелегкая, подвижническая жизнь Иванова произвела на него, особенно после воздействия картины, сильное впечатление. И не раз Павел Дмитриевич говорил о том времени, когда впервые читал ее, как о значительном, судьбоносном в своей жизни.
Степанов способствовал образованию Павла Корина как живописца, давал ему задания писать какой-либо предмет, необходимый для иконного изображения, с натуры. Это было необычно для молодого иконописца, ибо определенная стилизация, характерная для иконописи, не предусматривала натурных этюдов.
Занимался живописью Корин с большим увлечением; даже в свободное время, когда остальные ученики-иконописцы мастерской шли гулять по городу, оставался либо писать что-то с натуры, либо копировать с репродукций. Товарищи подсмеивались: «Глядите-ка, Панька-то Репиным быть хочет!»
Летом 1910 года Степанов уехал в Крым, на свою дачу, и взял с собой Корина.
Природа Крыма, непохожая на среднерусскую, а больше напоминавшая, по словам Степанова, Италию, очаровала Павла Корина. С охотой каждое утро шел он на этюды. Впервые раскинулась перед ним беспредельная ширь моря – уже настоящего, не разлива реки Палешки; впервые увидел он скалистые горы под жгучим южным солнцем – всё это было похоже на чудо. И оно бы продолжалось, если бы не горестное событие: внезапно скончался Клавдий Петрович Степанов.
Неожиданная смерть благодетеля еще более усугубила у Павла Корина сложившееся после трагического ухода отца философское настроение, чувство бренности всего сущего. И в связи с ним – с осознанием конечности земного бытия – появилось острое желание сделать что-то значительное в отпущенный срок этой жизни.
В осуществлении коринского стремления к созиданию большую роль сыграл другой его благодетель – замечательный живописец Михаил Васильевич Нестеров, как бы принявший эстафету в образовании его в истинного мастера после кончины Степанова.
Если Степанов лишь ввел Корина в большой мир искусства, заложил в его душе первые понятия этого мира как первые кирпичи будущего здания, то Нестеров способствовал именно строительству того храма искусства, который и составляет творчество этого прекрасного художника. То есть вертикальное движение в судьбе Корина связано прежде всего с именем Михаила Васильевича Нестерова.
А встреча и знакомство с ним молодого иконописца произошли вот как. После кончины Степанова Корин продолжал работу в иконописной палате, теперь уже с другим наставником. В 1911 году сюда обратилась великая княгиня Елизавета Федоровна с просьбой дать двух подмастерьев – подмалевщиков знаменитому художнику Нестерову для его большой работы в Марфо-Мариинской обители, где он расписывал в то время главный храм. Одним из двоих оказался Павел Корин.
Юноша сразу обратил на себя внимание маститого живописца незаурядным дарованием, серьезностью, ответственностью в подходе к делу. Павел собрал все силы, чтобы доказать и показать свои возможности в живописи. С большим благоговением относился он еще до знакомства к знаменитому Нестерову. Представившаяся вдруг возможность соприкоснуться со своим кумиром в жизни вывела наружу мощный пласт скрытых до времени его задатков, дарований.
Павел приходил в храм загодя, смотрел на живописную работу Нестерова, анализировал, заносил в свой альбом нюансы процесса нестеровского творчества. Постижение тайн мастерства, творческий труд под непосредственным руководством великого художника – всё это было очень хорошей школой. Был доволен трудолюбивым и талантливым учеником и Нестеров. Мастер приходил на роспись храма с множеством подготовительных этюдов. С восторгом рассматривал их с разрешения учителя Павел Корин. Тогда-то Нестеров и произнес слова, запомнившиеся молодому художнику на всю жизнь и ставшие его кредо: «Знайте, Корин, искусство есть подвиг!»
Через некоторое время после включения в работу под началом Нестерова Павел Корин привлек к ней своего младшего брата Александра, тогда еще подростка. Оба трудились увлеченно. Были скромны, собранны, почтительны. По свойственному юности романтизму носили длинные волосы «а ля Рафаэль». Нестеров считал длинноволосье неопрятностью. Но прямо сказать – обидеть. Как-то всё же нагнулся к Павлу, к его уху: «А волосы всё же хорошо бы подстричь!» Павел отреагировал без промедления: в тот же день после работы, взяв с собой Александра, отправился в парикмахерскую, сказав там: «Меня – под польку, а его (указав на брата) – наголо». Но у Михаила Васильевича, думается, запечатлелся облик ученика с длинными волосами: когда он задумал в конце 20-х годов парный портрет братьев Кориных, то представлял в воображении Павла похожим на юношей с фресок Гирландайо.
По совету Нестерова Павел Корин поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, упорно там учился, овладевая профессией художника. Не прекращал консультироваться с мастером по всем проблемам творчества. Моральную и творческую поддержку со стороны Нестерова Корин ощущал постоянно, и значила она для него очень много. Со своей стороны братья Корины помогали своему учителю, чем могли, особенно в трудные 1920-е годы. Дочь Нестерова Наталья Михайловна вспоминала, как в то тяжелое время Павел и Александр Корины покупали и привозили дрова для их печки, которые затем Александр пилил и колол. Приносили для Михаила Васильевича академический паек, оказывали помощь в других бытовых делах; их участие было очень кстати, ибо быт того времени был весьма сложен.
В 1930 году М. В. Нестеров написал великолепный парный портрет своих младших друзей, учеников братьев Кориных. Этой работой он окончательно вышел из творческого кризиса, ощущаемого им после революции. Братья Корины изображены на этом портрете людьми большого искусства, восхищающимися им: миниатюрная античная ваза в руке Павла Дмитриевича – символ вечного искусства, переживающего века и народы.
Братья Корины оказали немалую помощь Нестерову при устройстве его выставки в Музее изящных (изобразительных) искусств в 1935 году. А в 1939 году Павел Дмитриевич написал замечательный портрет своего учителя. После кончины М. В. Нестерова Павел Корин оставался главным помощником и советчиком его семьи. В 1962 году возглавил, по существу, подготовку и проведение выставки в Третьяковской галерее к столетию со дня рождения Нестерова.
Жизнь, судьба так распоряжаются, что одно событие оказывается следствием предыдущего, один случай «цепляет» другой, создавая вереницу на первый взгляд как бы не обязательных, но, по зрелому размышлению, чуть ли не единственно возможных и необходимых дел и событий.
Так, появление Павла Корина в Марфо-Мариинской обители сказалось сразу в нескольких отношениях в его судьбе, причем самым решительным образом. О встрече с учителем и другом на всю жизнь М. В. Нестеровым только что шла речь. Кроме того, здесь произошло знакомство с настоятельницей этой общины – великой княгиней Елизаветой Федоровной, чей светлый образ чтил Павел Дмитриевич до конца своих дней. И здесь же он нашел себе жену, помощницу и друга опять-таки на всю жизнь – Прасковью Петрову, чувашскую девочку-сироту, бывшую воспитанницей обители.
Итак, одно лишь в определенный момент передвижение Корина в физическом пространстве – приход в Марфо-Мариинскую обитель – означило для него многое. Без этого шага, – без всякого преувеличения судьбоносного, – мы, скорее всего, не имели бы Павла Корина – такого, как он есть ныне и пребудет во веки веков.
Великая княгиня Елизавета Федоровна покровительствовала Корину в то решающее для него время, ценила его труд. Ее стараниями был выпущен сборник «Под Благодатным Небом», где, в числе прочих, были репродуцированы две работы молодого мастера. Она заказала Павлу Корину роспись усыпальницы под главным собором обители, где, как она предполагала, ее похоронят. Этот заказ члена царствующей фамилии, помимо денег, был очень почетен и указывал на признание мастерства юного живописца. Елизавета Федоровна не только по званию являлась великой княгиней, но и была великим человеком – по своим душевным качествам, делам и по своей судьбе. Судьбе во многом тяжелой и трагической. Известно, что она приняла монашеский сан после гибели мужа, дяди Николая II, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича Романова, убитого взрывом бомбы террориста-революционера Каляева. Причем она посетила приговоренного к смертной казни убийцу мужа в тюрьме и простила его по-христиански, просила царя его помиловать.
Устройство ею женской монашеской обители в Москве было вызвано заботами милосердия. Сестры-монашки по первому зову шли сиделками к тяжелобольным, читали псалтырь над усопшими, обмывали «беспризорных» покойников, провожали их в последний путь и выполняли прочие морально и порой физически тяжелые дела, не считаясь ни со временем, ни с затратами сил, энергии, сообразно добровольно взятому на себя христианскому обету. Центром, направляющей силой всего этого высокого и благородного делания была «княгиня милосердия» Елизавета Федоровна. Она принесла много добра людям, ей же отплатили черной неблагодарностью, дикой жестокостью – только из-за принадлежности ее к Дому Романовых. В 1918 году ее расстреляли на Урале, в Алапаевске, кинули полуживой в заброшенную шахту, откуда тело ее извлекли не утратившие человеческого облика и совести люди и затем через других верных людей, кружным путем, перевезли оказавшиеся нетленными ее останки в русский храм в Иерусалиме, где они покоятся и поныне. По свидетельству очевидцев, по дороге на расстрел она молилась Богу за своих убийц, повторяя слова Христа: «Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят».
Вот с таким дивным, поистине святым человеком свела судьба Павла Корина. С большой ответственностью и тщанием он принялся тогда за роспись усыпальницы, советовался с Михаилом Васильевичем Нестеровым, как лучше сделать, рассказывал о своем замысле Елизавете Федоровне. Замысел же состоял в следующем (и так и был исполнен): узкий длинный «коридор» ведет к месту погребения, где в нефе написан образ Троицы Новозаветной с деисусными фигурами Богоматери и Иоанна Предтечи. В «коридоре» же, справа и слева, изображены святые ангелы и архангелы, праведники и угодники.
Когда всё это было претворено в жизнь, Корин показывал свою работу Елизавете Федоровне и для освещения зажег множество свечей, лепя их прямо к каменному полу, – особенно перед центральным образом Пресвятой Троицы (в усыпальнице не было электричества; такое освещение создавало и особую атмосферу восприятия). Его труд был высоко оценен великой княгиней. Она пообещала молодому художнику отправить его посмотреть в натуре живопись, поучиться у великих мастеров в Италию, сказав, что с этим придется немного подождать: идет война (шел 1916 год), а когда окончится, Павел Корин сможет поехать туда за ее счет, к ее знакомым.
Впоследствии, всю свою жизнь, Павел Дмитриевич держал несколько фотопортретов Елизаветы Федоровны с ее автографом на столах и подставках у себя в спальне, столовой, мастерской. На некоторых официально изданных фотографиях Корина, если приглядеться, можно заметить в интерьере портрет великой княгини. То есть с этим светлым и чистым человеком Павел Дмитриевич душой не расставался никогда.
Примерно в то же время, вскоре после росписи усыпальницы, в 1916 году, по просьбе некоторых учениц обители (а там учили и медицине с фармакологией, и шить-вязать, и многому другому), молодой художник стал преподавать им живопись, иконопись. Первой попросила об этом Елизавету Федоровну Паша Петрова. Старательная, серьезная черноглазая девочка Паша сразу обратила на себя внимание холостого преподавателя. Но прошло больше полутора лет, прежде чем он сделал ей предложение (скорее всего, хотел дождаться ее совершеннолетия). Сделал не совсем умело, без подготовки. К концу очередного занятия, обращаясь к Паше, сказал: «Вы останьтесь»; она подумала, что хочет сделать ей замечание. Он же наклонился к Паше и выпалил: «Хотите быть моей женой?», – сильно напугав тем самым юную девушку. Получив отказ в вежливой форме: Паша сказала, что ей еще надо учиться, – понял свою промашку: «Прошу лишь дружбы, немного привета от милой, серьезной девочки».
После признания в любви художника Паша Петрова долго дичилась, бегала от Корина. Хотя уроки рисования и живописи продолжались. Только спустя восемь лет они поженились.
Через много лет, уже после кончины художника, на первых днях его памяти Прасковья Тихоновна, скорбя и плача об уходе мужа и вспоминая счастливую совместную жизнь, сокрушалась о том времени, – что не сразу откликнулась на предложение «руки и сердца» Павла Дмитриевича: прожила бы еще с ним дополнительно восемь лет…
«Ангелом-хранителем», первой помощницей Корина в трудах и быту Прасковья Тихоновна была более сорока лет. Непереоценима ее роль в упорядочении быта, создании необходимой домашней атмосферы, способствующей творчеству. Сама являясь квалифицированным реставратором (не прошли даром и те первые уроки), Прасковья Тихоновна Корина принимала участие в восстановлении живописи картин Дрезденской галереи и в реставрации древних русских икон, помогая и в этом мужу. В поездках Корина в 1960-е годы в Италию и Америку она сопровождала мужа, начала самостоятельно учить итальянский и английский, чтобы самой переводить. Удивила американцев своей энергией, трудолюбием: самое активное участие принимала в развеске картин мужа в галерее В. Хаммера в Нью-Йорке. Во многом благодаря ее организаторским способностям выставка прошла столь успешно. Америка узнала великолепного русского живописца, восторженные оценки переполняли книгу отзывов, вылились на страницы печати, звучали многократно изустно…
Об отношениях четы Кориных между собой, их исключительной теплоте, настоящей большой любви друг к другу свидетельствуют многочисленные письма Павла Дмитриевича из Италии в 1931–1932 годах. Оставив тогда весь дом, текущие дела на жену, Корин беспокоился: «Дорогая моя, замучилась ты там с делами, жалею тебя, Пашенька! Всё время о тебе думаю и беспокоюсь». Акварелью создавал пейзаж-панораму Рима, шутил в очередном письме: «Пашенька, дело пошло бы гораздо быстрее, если бы ты мне, дорогая, подержала воду, краски…» А когда закончил панораму, сообщил об этом жене и прибавил: «А хороша ли, будет судить Пашенька»¹.
Их общность, единение выражались в самой манере общения, разговора. Автору этих строк не раз приходилось быть участником бесед, когда Павел Дмитриевич, порой забывая что-то из прошлого или уточняя, обращался к Прасковье Тихоновне: «Пашенька, как это было?» Тогда Прасковья Тихоновна рассказывала до какого-то момента, потом останавливалась и передавала слово: «Панечка, это ты расскажи сам». Или, наоборот, пыталась «перехватить» разговор: «Панечка, дай мне сказать. Это не так было», – «вспоминая» даже из ранних лет жизни Павла Дмитриевича, ей когда-то пересказанной, коей она не была свидетелем, но тем не менее знала подробности, отложившиеся в памяти «намертво»: показатель ее далеко не равнодушного отношения к мужу, его судьбе, творчеству.
Раздумывая над судьбой Павла Корина, приходишь к мысли, что, возможно, не было бы у него никаких заграничных поездок, и неизвестно, что вообще сталось бы с ним, если бы не еще один «добрый гений», встреченный на жизненном пути, – Алексей Максимович Горький, круто изменивший его судьбу, «выправивший» ее в нужном – объективно – направлении. То, что намеревалась, но не успела сделать для Корина великая княгиня Елизавета Федоровна – послать его учиться в Италию, выпало осуществить А. М. Горькому, «великому пролетарскому писателю», вначале отшатнувшемуся от новой власти, от ужасов, ею творимых, а затем повернувшемуся к ней лицом (а может быть, вернее сказать, повернувшемуся прежде всего к народу). Еще раз поражаешься неостановимости, неудержимости действия судьбы, Божьего Промысла: не так – так иначе, но необходимое и намеченное должно произойти.
Известно, как произошла судьбоносная встреча. В конце 1920-х – начале 1930-х годов Корин стал известен первыми портретами своего «Реквиема», своей «Руси». К нему в арбатскую мастерскую, на чердак, занимаемый им с братом Александром, стали приходить различные люди из среды художников и «управленцев» культурой посмотреть его работы. В частности, побывали наркомы (министры): культуры А. Луначарский, здравоохранения Н. Семашко. 3 сентября 1931 года в окружении А. М. Горького зашел разговор о Павле Корине, собрались ехать к нему. Алексей Максимович попросил: «Возьмите меня с собой». Он слышал о палешанине, ставшем замечательным станковым живописцем, еще будучи в Италии, в Сорренто, от художника Ф. С. Богородского, приезжавшего к нему из Союза (впоследствии, однако, оказавшегося – возможно из зависти – одним из недоброжелателей, врагов Корина), и от других лиц.
Любопытный момент произошел еще до посещения. Чтобы попасть в коринскую мастерскую, надо было подняться по лестнице на шестой этаж. Горький к этому времени был уже отягощен болезнью легких, задыхался. Преодолев с трудом три этажа, остановился, тяжело дыша: встал вопрос, идти ли дальше. Кто-то из его окружения начал усиленно отговаривать, советовал прийти в другой раз (которого, конечно, могло вообще и не быть), а сейчас всем спуститься вниз. Горький заколебался. Ниточка предопределения натянулась, чтобы, быть может, разорваться. Но нет, механизм судьбы сработал четко. Кто-то из «свиты» писателя успел взбежать раньше и предупредить Павла Дмитриевича о грядущем посещении. Корин спустился вниз на третий этаж. Немного отдышавшийся, пришедший в себя Горький сказал: «Ну, раз сам художник встречает, надо идти», – и вся компания, теперь уже предводимая хозяином мастерской, двинулась наверх.
Несколько общих фраз было произнесено, такого же характера вопросов задано и замечаний по поводу мастерской сделано, и вот все расселись кто куда и начался коринский показ. Павел Дмитриевич ставил на мольберт один этюд, потом убирал, нес другой. Сперва все переговаривались вполголоса, восхищались негромко. Кто-то написал кому-то записку. По мере показа голоса стали проявляться четче. Когда Павел Дмитриевич поставил «Схимницу», Горький хлопнул рукой о колено и громко сказал: «Здорово, черт возьми, здорово!» Корин ставит на мольберт «Слепого», нищего с вытянутыми вперед руками, Горький снова восхищается: «Смотрите, у этого слепого руки, пальцы – это глаза его».
Следующим полотном показ заканчивался (всего было представлено десять картин: первые этюды к «Реквиему»); на мольберте – «Отец и сын». Тут все заговорили разом. Горький опять хлопает рукой о колено: «Черт возьми, как это здорово!» Затем встает, подходит к художнику, крепко жмет его руку и говорит: «Отлично! Вы большой художник! Вам есть что сказать. У Вас настоящее, здоровое, кондовое искусство». Корин поблагодарил за высокое мнение о его творчестве, сказал, что его, человека вечно сомневающегося в своих силах, оно укрепляет и поддерживает. И тут Горький произносит заветные слова: «Вам надо поехать в Италию, посмотреть великих мастеров». – «Италия – это мечта всей моей жизни, – ответствует Корин. – Но как это сделать?» – «А очень просто: через месяц я туда еду, могу вас взять с собой», – «по-великокняжески» предложил «великий пролетарский писатель». «Возьмите, Алексей Максимович, хоть в карман посадите, а возьмите», – загорелся Корин, не теряя, однако, чувства юмора. «Зачем в карман, Вы большой, в карман не поместитесь, – на серьезной ноте продолжил Горький. – А вот приходите завтра в двенадцать часов на Малую Никитскую, дом шесть, нелепый дом такой, я там живу, всё и обговорим».
Такова внешняя канва действия всё наполняющей смыслом непреложной закономерности. Так произошло «сцепление» – «через коробку передач» – «переключение скоростей» и «подсоединение локомотива» к дальнейшему коринскому пути.
18 октября 1931 года Горький с родными и Корины, Павел с братом Александром (того тоже коснулась благословенная участь), отправились в Италию, на землю древней богатой культуры. Этот период насыщения высоким искусством был необходим Павлу Дмитриевичу.
А. М. Горький на протяжении всего путешествия продолжал опекать облагодетельствованных. Поселил их у себя в обширном доме в Капо-ди-Сорренто, а также дал денег и рекомендательные письма в советские представительства, когда братья отправились в поездку по Италии, первым пунктом которой был Рим, затем Сицилия. А в дальнейшем – Флоренция, Венеция, Милан…
Поняв, что за художник Павел Корин, Горький пожелал иметь свой портрет его работы. Хотя «буревестника революции» писали известные мастера русской живописи – Репин, Нестеров, Серов, он захотел в другом возрастном периоде быть увековеченным еще и Кориным. Сам заговорил об этом с Павлом Дмитриевичем после возвращения того из Рима: «А знаете что, напишите-ка с меня портрет». Корин начал было отказываться: вдруг не выйдет, не получится – вот окажется конфуз! Ведь портретов известных лиц он раньше не писал. Но Горький был настойчив: «Получится. Вам будет, кроме того, чем отчитаться за поездку. Вернетесь домой с портретом Горького».
У Корина получилось: портрет вышел трагедийный, вполне соответствующий двойственности положения, в какое попал Алексей Максимович Горький в то время.
Когда-то начинавший как «босяцкий писатель», гуманист, со сцен всего мира провозглашавший устами героя пьесы «На дне» Сатина: «Человек – это звучит гордо!», призывавший революцию в стране своим «Буревестником»: «Пусть сильнее грянет буря!» (за что его кляли потом бывшие друзья-товарищи, оказавшиеся в эмиграции), он сам, когда она грянула, отшатнулся от дикой реальности, ею принесенной. Его «Несвоевременные мысли» были более чем своевременны, продолжали гуманистическую традицию русской литературы, которой он так или иначе наследовал. Но если у Достоевского звучал мотив страдания за пролитую «слезинку ребенка», то после октября 1917 года потекли реки крови, настало время беззакония как государственной политики, разбоя, санкционированного сверху.
Горький тогда не только писал, он мог – ввиду близости к большевикам, к Ленину в предреволюционное время – как-то воздействовать на эту бесчеловечную политику лично, по возможности смягчая ее. И он это делал. Известно, что в то роковое время он стал ходатаем по делам культуры, многих интеллигентов спас своим участием от гибели. И продолжал этим заниматься, пока взбешенные его заступничеством большевики не отправили этого «достолюбезного псаломщика культуры», по саркастически-издевательскому выражению Троцкого, за границу – якобы для лечения.
Эмиграция, разрыв с Родиной, народом, оказались тяжкими для многих русских людей, разбросанных по свету социальной бурей, катаклизмом октября 1917 года и последующей гражданской войной.
Достижения СССР в деле строительства в первое десятилетие после революции, успехи НЭПа родили новые надежды, предположения, что всё ужасное, трагическое позади. Но в 1929–1931 годах кровавая мясорубка завертелась вновь.
Горький, вернувшись в 1928 году в СССР, должен был – хоть и косвенно – в этом участвовать, освящать злодеяния своим именем. Озвучить несвойственный ему лозунг: «Если враг не сдается – его уничтожают». Петь дифирамбы строительству Беломорско-Балтийского канала, производимому силами и на костях заключенных. Он не смог, и не хотел поначалу, выбраться из золотой клетки, помещенный туда Сталиным, ибо очень опасался «испортить биографию». Сталин переименовал в его честь город, главную улицу столицы, дал его имя Художественному театру; «увековечил», задобрил, улестил всеми возможными способами.
Но совесть, по-видимому, не давала писателю покоя. Внутренние борения по истечении времени усиливались. Драма нарастала, превращаясь в трагедию. Вот и на портрете у него столь удрученный, задумчивый вид. Павел Корин инстинктом большого художника уловил скрытую трагедию своего патрона. Горький на портрете Корина как бы предчувствует и свое тайное умерщвление, а перед этим – гибель сына, столь же загадочную, а для него, по всей видимости, прозрачно-явную по исполнителям.
В Москве Горький добился для Корина прекрасной мастерской с жилыми комнатами, периодически ее оплачивал, так что Павел Дмитриевич и не знал до его смерти, что за помещение надо платить огромную сумму. Именно такая обширная мастерская была ему нужна для написания задуманной картины-эпопеи «Реквием», для которой опять же Горький придумал новое название: «Уходящая Русь», – чтобы «дать паспорт для жизни ей». В создавшейся в стране весьма напряженной социальной атмосфере такая предусмотрительность, принимая во внимание характер коринской картины, не являлась излишней.
Павел Дмитриевич Корин с женой гостил, иногда месяцами, у Горького на даче в Крыму, в Тессели, и в Подмосковье, в Горках (когда писателя уже перестали выпускать за границу). «Проектировался» еще один портрет Алексея Максимовича – сидящим за письменным столом. Но неожиданная смерть Горького помешала его осуществлению. Остались небольшие подготовительные этюды, хранящиеся ныне в Литературном музее. И попытки такого портрета, созданные Кориным по памяти в 1937 году, – в музее А. М. Горького в Москве.
Конечно, помимо тех людей, о которых шла речь, поистине «добрых гениях» Корина, были и другие, сыгравшие ту или иную, может быть, меньшую, но тоже положительную роль в судьбе великого художника (о «злых гениях», темных силах в его жизни в этой главе не говорим). Так, доброй хранительницей дома художника, помощницей четы Кориных по хозяйству, почти членом семьи была несколько десятилетий верная им Дуняша (Е. И. Лебедева), пережившая хозяина дома. Создавали необходимую атмосферу тепла и творчества немногие истинные друзья, среди которых дьякон Михаил Кузьмич Холмогоров, обладатель редкого по красоте голоса-баса, человек с выразительной внешностью, много раз являвшийся объектом портретирования Корина.
Доброе влияние порой проистекало даже из одной фразы, вовремя сказанной авторитетным человеком. Так, например, в Училище живописи, ваяния и зодчества преподававший там большой художник Константин Коровин, поглядев карандашные работы Корина, сказал: «Вам дан дивный дар рисования». Эти слова были произнесены в начале творческого пути мастера и подействовали на него весьма ободряюще, запомнились на всю жизнь. А вот одна из последних прижизненных оценок искусства Корина, высказанная в 1960-е годы известным американским художником Рокуэллом Кентом после посещения его дома: «Творчество Павла Корина – одно из самых сильных моих впечатлений не только от пребывания в России, но и вообще в жизни». А между этими двумя отзывами сколько было других за долгую творческую жизнь художника! Слова признания «рядовых» ценителей живописи и ценителей из властей предержащих… Корин определял всё это по достоинству. И порой искренние слова простой школьной учительницы трогали его больше, чем официально-выверенные славословия чиновников от культуры, – и он отвечал на них, и завязывалась переписка.
Истинный талант универсален по своему влиянию, действует всеобъемлюще: в оценке его сходятся разные люди, иногда очень разные, диаметрально противоположные по многим «показателям», как великая княгиня Елизавета Федоровна и «великий пролетарский писатель» Максим Горький. И ответное к ним чувство – чувство благодарности, – вполне осознавая их разность, искренне питал всю свою жизнь Павел Дмитриевич Корин.
Грезы о великом свершении
Замечательные люди, чьи достижения становятся с течением времени общеизвестными, по-видимому, чувствуют свое высокое предназначение в жизни с ранних лет.
Так, уже сам факт двух поездок Павла Корина в этот период из Палеха в Москву свидетельствует о непреодолимой жизненной и творческой его устремленности к самоосуществлению, раскрытию тех незаурядных возможностей, которые он, быть может еще смутно, в себе угадывал, ощущал.
Целеустремленность молодого художника, его весьма серьезное отношение к своему делу, предназначению обращали на себя внимание и в иконописной палате, где соученики подсмеивались над его прилежанием, и у наставников – Степанова, затем Нестерова – вызывали чувство уважения, желание помочь ему в овладении мастерством.
«Мне грезился некий образ, туманный и неопределенный, я мечтал сделать что-то значительное. К двадцати годам я понял, что, если хочешь сделать, надо уметь это сделать, а чтобы уметь, надо этому серьезно учиться»¹, – вспоминал впоследствии Корин. Он в те годы намеревался поступать в Академию художеств в Петербурге, но Нестеров переориентировал его, сказав, что «Академия сейчас совсем не та, что во времена Иванова и Брюллова, лучше пойти в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, здесь более живое обучение, талантливые педагоги» (сам он когда-то окончил то же учебное заведение). Нестеров дал рекомендательное письмо к преподававшему в училище А. Е. Архипову, с тем чтобы тот помог Корину в подготовке к поступлению. Архипов направил молодого человека к другому преподавателю – П. И. Келину, у которого Павел Корин три месяца упорно занимался «штудиями», принимая уроки репетиторства. Такая подготовка была необходима, поскольку конкурс в училище, как в любое достойное творческое учебное заведение, был огромный: в год поступления Корина (1912) – 30 человек на место (300 желающих всего на 10 мест). Экзамен состоял из двух зарисовок: с натуры и с гипса. Объявляли результаты не сразу. Павел уже отчаялся в ожидании, когда от случайного товарища узнал, что принят. Еще не веря своей удаче, поторопился к спискам зачисленных и с удовлетворением увидел свою фамилию.
Учился он с большим увлечением и самоотдачей: приходил утром за полчаса до начала занятий; его определили в мастерскую к известным художникам К. А. Коровину и С. В. Малютину. В то время в моде был импрессионизм: отсутствие четких контуров изображения, цветовые пятна, пленэрная яркость, – чему отдавал дань и сам учитель, Константин Коровин. Как-то он подошел на этюдах к Корину, посоветовал работать в том же ключе. На что ученик ответил, что работает в традиции Иванова. Тогда Коровин лишь сказал: «Иванов был великий художник» – и отошел от коринского мольберта.
В те времена в живописи отдавалось предпочтение некой эскизности, этюдности, размашистости письма. Корин, напротив, тяготел к четкости, контурности, плотности живописного рисунка. В этом заключалось некоторое противоречие. Преподаватели, однако, не насиловали природу коринского дарования, с деликатностью относились к его творческой индивидуальности. Корин за время обучения нарастил мастерство в плане рисунка, перспективы, колористики.
В эти годы он очень нуждался: жил в районе Бутырок, каждый день пешком (на транспорт не было денег) направлялся в центр на Мясницкую улицу в училище, питался в основном простой пищей: кашей, щами в народной столовой да булкой утром и вечером. Только когда приходил в дом к Нестерову, подкреплялся обильным домашним обедом; Нестеров видел стесненное его положение, предложил ему приходить в начале каждого месяца к ним на квартиру, и Екатерина Петровна (жена Нестерова) будет выдавать ему 30 рублей, а когда Корин станет художником, он вернет эти деньги. Павел только представил себе, как будет периодически беспокоить столь приятную, благородную даму, и с благодарностью отказался, сказав, что обойдется своими силами. Тогда Нестеров поспособствовал, чтобы Павлу Корину в училище дали стипендию имени П. М. Третьякова, и еще позаботился, чтобы великая княгиня Елизавета Федоровна определила ему небольшое жалованье за работу в Марфо-Мариинской обители.
Серьезность жизненной позиции Корина выразилась и в том, что он стал ходить на занятия четырехгодичного общеобразовательного курса, существовавшего тогда при Училище живописи для тех, кто не имел гимназического образования. Курс был добровольным, многие из учащихся его игнорировали, но Павел посчитал для себя полезным повысить образование, тем более что ряд предметов вели профессора Московского университета.
К концу пребывания в училище, получив от Елизаветы Федоровны заказ росписи усыпальницы, Корин, по ее желанию, предпринял поездку в древние русские города – Ростов Великий и Ярославль – для знакомства со старинными росписями тамошних храмов.
В год окончания училища, 1916-й, он выбрал для диплома, сообразно своим высоким идеалам, классические образы мировой художественной культуры: «Франческа да Римини. Данте в аду». От этого проекта остались великолепные рисунки, однако саму композицию Павел после защиты уничтожил, посчитав неудачной. Но за нее он получил звание «классного художника». Можно было приступать к самостоятельной работе, однако Корин чувствовал, что еще не достиг нужной формы, умения. Три года по окончании училища он еще посвятит, как любимые им великие итальянцы, практике в «анатомическом театре» Московского университета, препарируя трупы, чтобы лучше усвоить строение человеческого тела, скелета, мускулатуры, при разных позах и поворотах. Учится он в это время и делая копии с обожаемого Александра Иванова: восхищавшие многих коринские копии с «Явления Христа народу» в технике сангины хранятся ныне в музее-мастерской великого художника. Много зарисовок делает он и с античных слепков, скульптур эпохи Возрождения в Цветаевском музее – изящных искусств, изучая технику и умение предшествующих мастеров.
При этом, оставшись ассистентом, а затем и руководителем мастерской в родном училище (переименованном после революции в Свободные художественные мастерские), по приглашению своего учителя С. В. Малютина, преподает живопись новым поколениям будущих художников (это давало и необходимые средства для жизни).
Из лет ученичества в МУЖВЗ остались незабываемые впечатления, воспоминания о людях, о предреволюционном неспокойном времени. Павел Дмитриевич вспоминал, как «бузили», выкрикивая что-то во время занятий и собраний, Маяковский и Бурлюк, исключенные затем в феврале 1914 года «за неподобающее поведение».
Со своим учителем К. А. Коровиным, эмигрировавшим во Францию, в Париж, Корин случайно столкнется на одной из выставок во время организованной Горьким поездки за границу в 1931–1932 годах. На выставке современного искусства среди множества невыразительных или кричащих модернистских работ он увидел замечательные классические русские пейзажи, оказалось – коровинские, а тут и разговор за спиной на русском языке: «Чувствуете майские ароматы… а здесь, в кустах, – соловей поёт». Корин полуобернулся и увидел самого художника с компанией, которые быстро прошли дальше… Он постеснялся «объявиться», о чем позже пожалел. Поэтому в следующую поездку, 1935 года, специально запланировал посещение учителя. Нашел его постаревшим, в момент, когда за неуплату должны были описывать его имущество (так он сказал); это вызвало у Павла Дмитриевича большую жалость.
А во время поездки с выставкой своих работ в Америку в 1965 году получил приглашение и посетил Давида Бурлюка, эмигранта с 1922 года: успех коринской выставки был таков, что о ней услышали многие. Полвека спустя однокашники повспоминали прошлое, поговорили о своих молодых годах. Бурлюк был радушен, подарил на прощание свою работу: он стал относительно известен как американский художник (поездку на ранчо Бурлюка организовал Виктор Хаммер).
Революционное неистовство после 17-го года дошло в училище до сокрушения классических античных гипсовых слепков. Корин, будучи преподавателем-традиционалистом, как мог, защищал мировое наследие. Чтобы спасти оставшиеся после левацкого студенческого буйства гипсы, он нанял извозчика и с братом Александром при помощи училищного сторожа погрузил «Венеру Медицейскую», «Софокла», «Боргезского бойца», «Лаокоона», часть фриза «Пергамского алтаря» на подводу для перевозки в свою мастерскую, которая у него появилась в феврале 1917 года на чердаке-мансарде дома в середине Арбата. По дороге подвода была остановлена милиционером, ибо диковинно выделялась, и после разъяснений продолжила свой путь; милиционер лишь посоветовал несколько прикрыть – как он сказал, для приличия – обнаженные фигуры скульптур. По приезде извозчик запросил повышенную плату, посчитав, что участвовал в каком-то нечистом деле. С тех пор эти гипсы как напоминание о великом античном искусстве и олицетворение его находились у Корина до конца жизни, будучи перевезенными и на Малую Пироговку. Вместе с позже приобретенной головой «Давида» Микеланджело в величину оригинала, они создавали непередаваемую атмосферу высокого искусства, необходимую для творчества.
Но все-таки основной акцент делал Павел Корин на отечественные традиции. Поэтому летом 1923 года он предпринял большую поездку по старинным русским городам, очагам культуры, – Новгород, Псков, Вологда, Ферапонтово, Кирилло-Белозерский монастырь, – для знакомства с росписями храмов, их архитектурой. После осмотра фресок Дионисия в Ферапонтове записал в свой блокнот: «Великое светлое искусство. Величавость Рафаэля». А в Новгороде: «Спас-Нередица. Фрески живут. В них чудится торжественный блеск византийства. Ц. Спаса Преображения. Феофан Грек – царь царей русской живописи. Помни его могучую кисть, очень простую. По мощи он равен Микеланджело. От живописи Феофана Грека стены становятся крепче, монументальнее»².
Вера в свои силы не покидала его, и тот грезившийся ему возвышенный образ своей будущей великой картины не исчезал, продолжал светить путеводной звездой. Но как трудно жилось ему в послереволюционные годы! Преподавание пришлось оставить, поскольку русло развития искусства, а затем и обучения ему переместилось в авангардизм, чуждый Корину. Нужда заставила заниматься поденщиной: писать лозунги на растяжки для оформления города, всевозможные вывески, размножать рисунки к «Окнам РОСТА» (впоследствии РИА-ТАСС). Как-то на улице, проходя мимо магазина, над которым Корин вешал только что сделанную вывеску, его знакомый художник П. Соколов-Скаля, поприветствовав, вздохнул: «Эх, Корин, ты рисуешь, как Микеланджело, а занимаешься вывесками?!» Приходилось, стиснув зубы, терпеливо заниматься и такими вещами. Ожидая своего заветного часа.
Одновременно Корин не оставляет художнических штудий: копирует полотна классиков, делает обмеры и рисунки с античных гипсов, статуй. И довольно скоро, но вначале неявно и неотчетливо, контуры его как самостоятельного и оригинального художника проступают…
«Реквием. Уходящая Русь»: путеводная звезда и драма жизни
Как писатель, бывает, устремлен к написанию романа – большой формы, без которой, как утверждал Чехов, раньше и писателем-то нельзя было называться, так и традиционный художник стремится к написанию «большой картины».
Тем более Павел Корин, очарованный творчеством и личностью Александра Иванова с его «Явлением Христа народу», грезил именно о подобной масштабной композиции.
Подходы к «Реквиему» наблюдаются в коринском творчестве еще в 1910-е годы, до революции. Так, 1915 годом помечена зарисовка колоритного Крестного хода в Кремле, сопровождаемого внушительного вида архидиаконом Розовым и мальчиками в стихарях, на фоне Успенского и Благовещенского соборов. Уже тогда намечается художником изображение многолюдной процессии, хода (позднее получившего характер исхода) – связанного с религиозным, церковным обрядом. В те же годы учитель Корина Нестеров пишет свой Крестный ход – «Христиане. Душа народа».
В дальнейшем Павел Корин детализирует и одновременно «укрупняет» собственное видение: переходит к персоналиям – пишет портрет стосемилетнего Гервасия Ивановича (1925), прошедшего еще Крымскую войну, войны XIX века на Кавказе и с турками, полного солдатского георгиевского кавалера, подчеркивая значительность этой фигуры. То есть налицо у художника желание увидеть и запечатлеть коренные, основополагающие национальные типажи и ценности. Конечно, велико в этом влияние Нестерова, который посвятил тому же, можно сказать, всё свое творчество. И они, как представители традиционной культуры, были не одиноки в этой направленности, тогда все-таки еще патриархального, хотя уже во многом и либерализованного русского общества.
Внимание к национальным истокам, национальному характеру и типажам было свойственно тогдашней русской культуре в целом. В живописи можно вспомнить Виктора и Аполлинария Васнецовых, Рябушкина, Билибина, да и Репина с Суриковым…
Не надо забывать и иконописную коринскую основу. Всё это подводило в возможной перспективе к незаурядному национальному художественному творению. Но должны были произойти в жизни художника еще некоторые события, которые способствовали «фокусизации» замысла.
Революционная трагедия, покусившаяся на святые понятия, религию и Церковь, оказалась, с негативной стороны, одним из таких, заставивших собраться для противления факторов определения и действия. Художественного действия.
Все перипетии мытарств церковного люда (от которого художник себя не отделял) вместе с патриархом Тихоном, принявшим на себя главный удар захватившей власть хунты, внутренне подготавливали и обостряли творческие намерения Корина в обозначенном направлении. И именно эти последние обстоятельства внесли особый коринский колорит в традиционную тему: трагическая нота пронизала замысел художника практически с самого начала. Но, так как христианское сознание не останавливается на трагедии, а освящено последующим воскресением, спасением, то и у Корина в «Реквиеме» трагедия оказывается просветленной.
Поэтому и первый – целенаправленно – «этюд» к картине: портрет митрополита Трифона (1929) – красочен: владыка изображен в пасхальной пурпурной ризе и соответствующей митре.
Владыка Трифон (Туркестанов) – один из замечательных иерархов, значительная фигура русского православия того времени; он говорил яркие проповеди с церковного амвона, общался со многими представителями художественной интеллигенции, духовно их назидая. И обратился к нему Корин с просьбой позировать, имея рекомендацию Нестерова. Тот согласился лишь на четыре сеанса.
Вот как вспоминала жена Корина Прасковья Тихоновна непростое начало работы над эпопеей: «Сосредоточенный, с большим трепетом, художник поехал к нему [м. Трифону] с холстом. Комната маленькая, Павел Дмитриевич сидел на подоконнике, отхода нет, натура сидит в двух шагах. Первый сеанс рисовал углем. Во время второго и третьего сеансов, когда начал писать красками, митрополит заговорил об искусстве, Корин ответил ему, тоже увлекся разговором. Так хорошо поговорили к общему удовольствию. Начало работы красками – самый ответственный момент, и он начинает с головы. Павел Корин пишет всегда молча, сосредоточенно, а тут всё испортил, начисто стер написанное, и три сеанса пропали даром – пустой холст. Результаты дал один-единственный сеанс, первый.
Передала мне одна знакомая, что митрополит сказал ей: “Как мы хорошо поговорили об искусстве с Павлом Дмитриевичем. Как он прекрасно говорит об искусстве, какой он начитанный. Я получил огромное удовольствие, беседуя с ним, но он что-то испортил и ушел страшно расстроенный. Мне было так жалко его”.
Да, действительно, Павел Дмитриевич приехал домой в таком отчаянии! Как безумный бросился на кровать, скрежетал зубами страшно. Что с ним творилось! Ведь дальнейшее зависит от удачи первого этюда.
Потихоньку, ласковыми уговорами я подступила к нему – сперва надо было успокоить. Уселись вдвоем в широкое кожаное кресло. Стала я убеждать, что он за три сеанса изучил лицо. Взяв себя в руки, он напишет голову. А облачение, митру, посох митрополит даст, чтобы писать с манекена. Убедила принять лекарство, дала выпить хорошую порцию валериановых капель. Затем уложила его в постель, уютно закутала одеялом, как маленького, и он заснул, усталый, измученный, истерзанный.
Утром тоже дала лекарство, с напутствиями проводила. Этот последний, решающий сеанс был очень удачным. Была написана голова и вдохновенное лицо. Митрополит Трифон позировал молча, углубленный в свои мысли. Этот этюд он хвалил и радовался.
Победа! Радостный, довольный вернулся домой Паня. Потом написал облачение с манекена. Руки так и остались в подмалевке. Без натуры Павел Дмитриевич не писал»1.
Поскольку митрополит Трифон является в композиции «Реквиема» одной из двух ключевых, центральных фигур, следует сказать о нем подробнее. Конечно, он привлек художника своей фактурой. Но под этой фактурностью имелось весьма значительное духовное основание. «Оптинский постриженник», духовный сын знаменитого старца Оптиной пустыни Амвросия, владыка Трифон, до пострижения в монахи Борис Петрович Туркестанов (Туркестаношвили), по отцу происходил из грузинского княжеского рода, а мать его, урожденная Нарышкина, – из родовитой русской дворянской семьи. Интересно, что позже Корин обратит внимание и сделает портрет еще одной грузинской дворянки – княжны Марджановой (Марджанишвили), схиигумении Фамари, о чем речь пойдет далее. Так в то время отпрыски грузинских княжеских родов, можно сказать, подпитывали, обогащали русский православный мир.
Б. П. Туркестанов окончил историко-филологический факультет Московского университета, затем Московскую духовную академию, по принятии сана служил священником московской пересыльной тюрьмы, был миссионером в Осетии, проводил богослужения на Соловках, в Сарове, в других уголках Российской империи. Во второй половине 1890-х годов в сане архимандрита был смотрителем Московского духовного училища Донского монастыря, позднее ректором сначала Вифанской духовной семинарии Троице-Сергиевой лавры, затем Московской духовной семинарии. С начала 1900-х годов служил в Богоявленском монастыре в Москве, куда часто приезжал протоиерей Иоанн Кронштадтский. В эти годы архимандрит Трифон был председателем Московского отделения попечительства слепых, членом Серафимовского благотворительного комитета; жертвовал на содержание благотворительных учреждений значительные личные средства2.
Владыка Трифон освящал помещения строящейся Марфо-Мариинской обители, расписывавшейся Нестеровым и Кориным; тогда же, по-видимому, и произошло знакомство, хотя бы визуальное, художника с ним. Принимал он участие в Первой мировой войне, служил в действующей армии в качестве полкового священника.
Интересный и значимый факт, характеризующий владыку Трифона как личность: он не участвовал в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов по принципиальным соображениям: не мог согласиться с отречением императора Николая II от престола. И после не принимал участия в управлении Церковью, что, возможно, и спасло его от прямых репрессий. И тем не менее в советские времена он жил чуть ли не под домашним арестом. Изредка служил в московских храмах, участвовал в домашних концертах – вечерах русской духовной музыки вместе, в частности, с протодьяконом Михаилом Холмогоровым (второй ключевой фигурой коринской композиции «Реквиема») и другими представителями московских творческих музыкальных и иных кругов. Его духовный авторитет, несмотря на избранную им «стороннюю» по отношению к современной Патриархии позицию (номинально, однако, он титуловался епископом Дмитровским), был таков, что в 1923 году он был возведен патриархом Тихоном в сан архиепископа, а местоблюстителем Сергием в 1931 году – в сан митрополита.
Упомянутый протодьякон Холмогоров, кстати, посвященный в духовный сан именно владыкой Трифоном в 1910 году, был в те времена одним из видных московских дьяконов; он обладал красивым, мягким и глубоким по тембру басом. Внешне производил впечатление некой монументальности, не просто отличался выразительностью за счет «массы тела», как это бывает у дьяконов, но напоминал, быть может, древнерусского князя – своей «удлиненной» фигурой, таким же лицом с правильными чертами и благородной горбинкой носа. Недаром Павел Корин, по собственному признанию, взял за основу именно фактуру Холмогорова для изображения Александра Невского в знаменитом триптихе. Характерно назвал Корин и один из этюдов с Холмогорова – «Рыцарь печального образа». Михаила Кузьмича Холмогорова, так же, как и другого выдающегося дьякона Максима Дормидонтовича Михайлова, после революции усиленно приглашали в оперный театр, но он имел твердость отказаться. Благодаря богатой «фактуре» Михаил Холмогоров служил объектом внимания и художественного воплощения – помимо Корина, в работе скульптора С. Д. Меркурова, а раньше всех – М. В. Нестерова.
Судьба его из-за сложности и трагичности времени не была легкой. В 1939 году он был облыжно обвинен в «участии в антисоветской террористической группе» и осужден по статье 58-8 на четыре года лишения свободы. Но, по-видимому, благодаря заступничеству именитых друзей, а именно П. Д. Корина, С. Д. Меркурова (автора многих скульптурных изваяний советских вождей во главе с Лениным), был отпущен после года заключения в Бутырской тюрьме на свободу. Но этого времени оказалось достаточно для болезни и смерти любимой жены Марии Васильевны, не перенесшей такого удара судьбы. В 1941 году на фронте погиб старший сын Михаила Холмогорова Василий. М. К. Холмогоров продолжает свое дьяконское служение в Москве вплоть до кончины в марте 1951 года.
(П. Д. Корин записал в дневнике в это время: «Умер протодиакон Михаил Кузьмич Холмогоров, хороший, милый, добрый друг. Обладатель большого прекрасного голоса, прекрасный певец. Какое человеческое достоинство и какая скромность. Сколько просидели и проговорили мы с ним вечеров! Сколько он нам с Пашенькой пропел, сколько я с него писал и рисовал. Как наивно-заботливо он относился к моему искусству»3.)
Соединение этих двух фигур Кориным в «Реквиеме» – несколько экстатического архиерея, «ветхого денми», прозревающего Вечность, и нарочито богатырского вида диакона с поднятой рукой, держащего кадило, – не случайно. Это плод непростых поисков художника в плане и духовном, и композиционном: таким образом он хотел передать мысль о превосходстве духа, неизмеримом возвышении его над творившимся тогда в стране насилием. И на прямой вопрос подростка-крестника, автора этой книги, художник отвечал: «и о непоколебимости и силе Церкви Божией, которую, по слову Христа, “рата адовы не одолеют”». (Из разговора в конце 1950-х годов; а как раз в эти годы – и это следует напомнить – возобновились гонения на Церковь: так называемые «хрущевские».)
Митрополит Трифон и диакон М. К. Холмогоров часто служили вместе в храме. Художник увидел их служащими на панихиде и отпевании Святейшего патриарха Тихона в апреле 1925 года и тогда же сделал характерные зарисовки с них. Вот почему отправной точкой «Уходящей Руси. Реквиема» считается именно эта дата.
Патриарха Тихона Корин не успел портретировать. Но он относился к нему как глубоко верующий и сугубо церковный человек с большим уважением, пиететом. Во время заключения патриарха в Донском монастыре в 1923 году как «контрреволюционного элемента» Корин, как и многие верующие москвичи, приходил к окошку, откуда святой благословлял их; тем же, кто делал передачи, в виде особой благодарности и в подтверждение получения, передавал записку. Такая записка как память и святыня сохранялась с чувством благоговения и Павлом Кориным: «Получил и благодарю. Патр. Тихон» (ныне она в музее П. Д. Корина).
Когда же случилось безвозвратное горе – кончина патриарха Тихона (было ясно, что власти «помогли» в этом), то художник отправился проститься со всенародным Святейшим отцом и был поражен общей картиной прощания. Вся старая, исконная Русь предстала перед его глазами. «Народ стоял с зажженными свечами, плач, заупокойное пение, – записал у себя в дневнике П. Д. Корин. – Прошел старичок схимник»4. «Сердца на копья поднимем…» – слышится старинный народный напев из уст мальчика-поводыря слепца-старца. П. Т. Корина вспоминала: «…отовсюду съехались калики перехожие, странники, слепые с поводырями, нищие, монахи. Точно ожила картина XVI–XVII веков»5.
Многотысячная людская масса заполнила всё внутреннее пространство Донского монастыря, опоясывала его снаружи. Епископы и священники служили панихиды и вне собора, под открытым небом. Среди толпы шныряли переодетые чекисты, осведомители, прислушивались к разговорам.
В соборе же и день и ночь стояли вокруг тела усопшего архиереи и молились за упокой души великого заступника и печальника Земли Русской, совершая парастас, литии, панихиды…
«30 марта / 12 апреля, в Вербное Воскресенье, когда Господь вошел в Иерусалим, откуда начался Его крестный путь на Голгофу, свершилось погребение Святейшего Тихона. <…> Более тридцати архиереев и шестидесяти священников служат Божественную литургию. Певчим подпевают тихими голосами все, кто попал в храм, а вслед песнопения подхватывают не то сто, не то триста, не то пятьсот тысяч верующих, заполнивших всю округу»6.
«Реквием! Это – “Реквием”! Это надо запечатлеть!» – внутренне воскликнул Павел Корин. Именно тогда произошла «кристаллизация» замысла основной композиции всего коринского творчества.
К своим зарисовкам этих дней Корин делает подписи: «Исход во Иосафатову долину Суда». Иосафатова долина под Иерусалимом, по библейскому преданию (Иоиль 3: 2—12), – место свершения Страшного Суда. Сохранились карандашные наброски, эскизы, дающие представление о том, в каком направлении шли поиски художника в идейном и композиционном ключе. Так, склеенная из четырех листов первоначальная композиция включает в себя целую процессию из одетых и обнаженных фигур, в начале которой – старик Гервасий Иванович с отроками и диакон Холмогоров. На втором листе – группа обнаженных людей, где один несет другого на плечах, несут на руках и ребенка, за ними видится огромный людской поток. На третьем листе митрополит Трифон рядом с указующим ему вытянутой рукой цель их пути подвижником в веригах. На четвертом – игумения и странники, зарисованные художником на похоронах патриарха Тихона.
Позже Корин переведет все накопленные образы, исключив обнаженные фигуры, на Соборную площадь Кремля, а еще позднее – под своды Успенского собора. Но неизменным окажется первоначальный замысел – изобразить Святую Русь на пороге Второго Пришествия Христа, Страшного Суда и Воскресения.
Но для того, чтобы «накопить» образы, Павлу Корину предстояло совершить художнический подвиг. Он решил, сообразуясь с традиционной отечественной практикой создания больших полотен (Иванов, Суриков, Репин) – написание множества подготовительных этюдов, – идти по тому же пути, причем с неким усугублением, превращая этюды в полноценные произведения портретного искусства.
Так, после написания портрета митрополита Трифона он стал приглашать на позирование многих людей из церковного мира, убеждая их не отказываться, ибо пишет картину «по благословению митрополита Трифона» (что действительно так и было).
Таким образом, Корин привел на свой арбатский чердак, что казалось почти невозможным, схимницу мать Серафиму из Ивановского монастыря в Москве, которая жила там у него несколько дней, пока писался этюд, ставший одним из лучших (с зажженной свечой), – по утверждению искусствоведов, «шедевр портретного искусства».
По воспоминаниям вдовы художника, этот длительный процесс подготовки к картине был весьма напряженным:
«Привел слепого Данилу. Февраль… Он был в валенках с очень толсто подшитыми подошвами, в порыжелом подряснике, подпоясанный староформенным солдатским кожаным ремнем. Вид его неказистый. Голова большая, и еще трясется во все стороны. Зубы гнилые, точно пожар был во рту. Жил он у нас 4 дня.
Павел Дмитриевич начал работать с большим подъемом. Попросил слепого поднять вперед руки, как при ходьбе. Он всегда работал молча, сосредоточенно. Всматривается, изучает слепого острым взглядом. Быстро, быстро работает. Тихо в мастерской. Иногда слышна реплика слепого, например: “А Вавилон-то шумит!” Это на Apбате, около нашего дома, встречные трамваи перед переулками Серебряным и Староконюшенным давали сильные, продолжительные звонки. Прислушивается Данила к арбатскому шуму: “Вавилон-то шумит”, и мотается голова слепого.
Четыре дня художник всматривался в трясущуюся голову слепого с гнилыми зубами. “Как я устал, – говорит Павел Дмитриевич после сеанса, – сам буду скоро трясти головой, как Данила-слепой”. Я стаскиваю его мокрую рубашку, выжимаю после этой работы. Кончив этюд, Паня выглядит, как после тяжелой болезни. Усаживаю его, а сама начинаю убирать, мыть палитру, кисти. Павел Дмитриевич был доволен своей работой»7.
Таких же трудов (если не больших) стоило художнику поднять на свой чердак и возиться, устраивая, а потом писать безногого нищего – с атрофированными ногами, как-то ощеренного, но представляющего собой некую природную цельность. После Прасковья Тихоновна довольно долго боролась со вшами, оставшимися от него, что неудивительно.
Среди образов мирян основной этюд – «Отец и сын»: «люди из народа» – кряжистый бородатый богатырь отец и женственный с тонким лицом и нервными руками сын – стоят, поникнув головами, и думают тяжелую думу. «Этюд» имеет свою историю. В 1926 году в залах Музея изящных искусств был организован платный кружок обучения живописи. Рисунок преподавал Павел Корин. Среди учеников – молодой человек Сергей Чураков, брат которого подросток Степан, не имея денег на оплату, тем не менее, вначале скрываясь за колонной, тоже приходил и слушал, пытался делать этюды. Павел Дмитриевич, узнав, что Чураковы братья, стал после всех подходить и к нему, показывать и давать советы, делать замечания по рисунку. А через некоторое время, поняв, что парень толковый и с художественными задатками, предложил ему работать своим помощником в реставрационной мастерской музея, которую возглавлял. И Степан Чураков на долгое время стал учеником его и «подмастерьем». Так появился на этюде «сын». А «отца» Корин вначале увидел на Большом Каменном мосту и восхитился фактурой.
Вот как об этом вспоминала вдова художника: «По дороге в Третьяковскую галерею Павел Дмитриевич встретил Чуракова-отца <…>. Вернувшись домой, Павел Дмитриевич с восхищением говорил: “Какая живописная голова, борода! Шел он, задумавшись, прямо богатырь, шел, переваливаясь, как мельница. Красивая, мощная фигура с клюшкой, оригинальный, очень красивы борода и волосы с проседью. Вот подходящая фигура для моей картины”»8. Просьбу о позировании Корин передал через Степана, сына. Отец, Сергей Михайлович, не был склонен становиться «моделью», но «для такого художника и человека, как Павел Дмитриевич Корин, – как он выразился, – не будет отказа». Сам С. М. Чураков, по свидетельству Прасковьи Тихоновны, «был скульптором-самоучкой. Он вырезал из дерева животных, птиц так замечательно! И дети в семье Чураковых вырезали, лепили, рисовали, писали стихи»9.
Вначале Корин планировал этюд с отцом и двумя сыновьями – еще и со старшим Сергеем. «Павел Дмитриевич yже начал писать его голову, – вспоминал Степан Чураков. – Но Сергею что-то не понравилось, он взбунтовался и отказался позировать. Корин был взбешен и смыл начатый портрет Сергея. Ругался и кричал: “Убирайтесь к черту! Чтоб Вашей ноги у меня не было!” В те годы Сергей уже отошел от Павла Дмитриевича, не был как таковым его учеником, не занимался под его руководством. Отец осуждал Сергея. Он говорил, что если художник взялся за написание чьего-то портрета, то ему надо в этом помогать, а не препятствовать»10.
Создавая галерею образов-портретов к «Реквиему. Уходящей Руси», Павел Корин, можно сказать, стал историческим живописцем, – еще до «Александра Невского». Об этом свидетельствуют все портреты-этюды цикла. Есть среди них особенно показательные и по-своему уникальные в этом смысле. Таковы два портрета иеромонахов Высоко-Петровского монастыря в Москве – Федора (Богоявленского; канонизирован в 2000 году) и Алексия (Сергеева). Можно назвать их антагонистами. Ибо первый после революции и закрытия монастыря стал одним из организаторов тайной духовной общины на его основе и даже духовной академии (чтоб «не прервалась связь времен»), а второй, по имеющимся сведениям (не подтвержденным пока документально), «заложил» их всех, после чего участники общины (кроме его самого) были арестованы ГПУ, а академия разгромлена.
Еще до ареста будущий святой преподобномученик Федор позировал Корину для картины («за послушание»). Художник запечатлел молодого монаха с целеустремленным, вдохновенным взглядом в коротковатом подряснике, старых сапогах, с натруженными руками в напряженных жилах.… Когда работа над портретом уже подходила к концу и оставалось всего несколько сеансов, отец Федор пришел к художнику особенно взволнованным. Из прежних с ним разговоров Корин знал, что коммунистическая власть склоняет его к тому, чтобы «расстричься», уйти из Церкви. Теперь же иеромонах поведал, что вопрос стал ребром: в ГПУ ему сказали, что если он не согласится, его расстреляют. Он же оставался тверд в своей верности Церкви Христовой. Уходя, отец Федор сказал, что если не придет на следующий сеанс, то «знайте: меня уже нет на этом свете, помолитесь, поставьте свечу за упокой моей души». И он больше не пришел…
Позже, во время Великой Отечественной войны, когда П. Д. Корин работал над триптихом «Александр Невский», он изобразил отца Федора на правой части, с булавой, как обобщенный образ воина ХIII века, как символ духовной стойкости истинно русского человека.
По позднейшим свидетельствам11, отец Федор (Богоявленский) не был сразу расстрелян, а брошен в лагеря, где спустя несколько лет и погиб.
Второй иеромонах, Алексий (Сергеев), – антипод отца Федора; после своего предательства в 1932 году (коринский портрет-этюд помечен 1931 годом) он возвысился, стал архимандритом, затем архиепископом и в числе уцелевших семнадцати архиереев принимал участие в церковном соборе, избравшем митрополита Сергия (Страгородского) патриархом в 1943 году. На портрете стальной взгляд его холодных серых глаз, обращенный в сторону, куда-то в только ему ведомое земное будущее, знаменует натуру весьма честолюбивую. По свидетельству художника, портрет произвел на изображенного остро негативное, отталкивающее впечатление; он воскликнул: «Какое выражение лица сатанинское!» То есть еще до открытого размежевания этих монахов Корин инстинктом большого художника выявил человеческую суть обоих. А после, раздумывая об общей композиции, склонный к контрастам, изобразил их на рисунке вместе (с «перемычкой» в лице старца отца Агафона) и подписал: «Опоздал молодой иеромонах, опоздал этот молодой монах. Поздно… Опоздал…» «Все опалены огнем Апокалипсическим. Некто очертил кровавый круг. Его не переступить. Конец»12. (2 июня 1933 года.) И поместил рядом с ним на итоговом эскизе слепца. Любопытно, что автор в целом солидной, прижизненной монографии о творчестве Павла Корина, искусствовед Алексей Иванович Михайлов, – случайно ли, намеренно – отнес эти коринские «опоздал…» к отцу Федору, дав ему такую характеристику, которая отнюдь не исходит из коринской интерпретации этой личности на портрете. Так, он пишет, что лицо отца Федора «с сурово сжатыми губами, сузившимися глазами проникнуто фанатической решимостью»13. Никаких сузившихся глаз, как и фанатизма, на непредубежденный взгляд, здесь нет. Мало адекватного и в последующих инвективах: «Такие фанатики в период острой борьбы старого и нового готовы на всё, только бы остановить победное движение нового»14. Понятие «фанатик», «фанатизм» используется многократно, с разными вариациями, как то: «фанатизм мрачный, изуверский»15 и пр. Характерно и обращение к «первоисточнику» подобных инвектив (истинному фанатику!): «В. И. Ленин говорил, что социализм строится в обстановке ожесточенной, до бешенства (sic! – А. Г.) острой борьбы с силами старого мира»16. «Обреченный», этот монах «из тех, кто пытался остановить стальную поступь истории, остановить неодолимое новое и был смят и растоптан им»17. Понятно, что в советское время, для того чтобы издать монографию о творчестве такого художника, как Корин, были, наверное, необходимы некие ритуальные идеологемы. Но где здесь «ритуальное оттаптывание» советской критики на святых понятиях, а где «затаптывание» истинных религиозных, церковных явлений, укорененных на Русской земле тысячелетием, и где, может быть, какое-то личное заблуждение?
Причем подобное имеет место в монографии и по отношению к другим персонажам коринского «Реквиема». Недаром сам Павел Дмитриевич не дарил эту единственную фундаментальную монографию о его творчестве своим близким именно по указанным мотивам. Многое из этого, к сожалению, подхватил автор последующей, тоже неплохой, если отбросить выморочную идеологию, книжки о Корине – С. Разгонов18.
«Фанатизмом» в этих работах советские искусствоведы называли внутреннюю убежденность церковных людей, духовную наполненность, твердое их «стояние» в вере православной, попираемой коммунистической властью[1].
Мастерство Корина как большого художника-психолога, историка выразилось и в том, что он великолепным чутьем своим выбирал для картины знаковые фигуры времени. Такова в его портретной галерее «Схиигумения Фамарь».
Матушка Фамарь (Марджанова) являла собой образец русской святости (хотя по происхождению была грузинской княжной), ибо ее духовное восхождение шло в непотревоженной органике плодородной русской почвы – Святой Руси. Устроительница Серафимо-Знаменского скита под Москвой в начале века, она была лично близка к таким святым Русской Православной Церкви, как праведный Иоанн Кронштадтский, великая княгиня Елизавета Федоровна, другим новомученикам и исповедникам Российским, еще, быть может, индивидуально и не прославленным, к каковой категории относилась до недавнего времени и она сама. (Прославлена в лике святых Русской Православной Церковью в декабре 2017 года.) Ее Серафимо-Знаменский скит отличался строгой уставностью, правилами пустынножительства. Пробуждение и бодрствование – с 5 часов утра, В 5.45 – начало утренних молитв, утреня и литургия. После – исполнение келейных правил. Насельницы должны были постоянно творить молитву Иисусову и не расставаться с нею на послушаниях; общая же работа сопровождалась тихим пением псалмов или чтением акафистов. Такие строгие правила проистекали из внутренней глубины постижения мира схиигуменией, ее православной духовности. Вовне это выразилось и в видимом устройстве обители, архитектурного ее облика.
Ограда Серафимо-Знаменского скита протянулась на 33 сажени в квадрате в память о тридцати трех годах земной жизни Спасителя. В центре высился храм пирамидальной формы в стиле XVII века во имя Знамения Божией Матери и преподобного Серафима, с усыпальницей и престолом внизу в честь равноапостольной Нины. Снаружи храм имел кверху 24 уступа, по числу 24 апокалипсических старцев и венчался одной главой, знаменовавшей Господа Иисуса Христа. В ограде были расположены, по числу двенадцати апостолов, двенадцать небольших домиков, каждый из которых находился под покровительством того или другого апостола, а потому назывался Иоанно-Богословским, Андреевским и т. д. и имел на наружной стене, составляющей часть ограды, изображение святого покровителя. В центральной части скита у стены был расположен большой образ Спасителя с неугасимой лампадой. Над святыми воротами помещалась звонница с мелодичным подбором небольших колоколов. По углам ограды были выстроены четыре башни; на них укреплены гипсовые, лепной работы, архангелы с трубами, как бы готовящиеся возвестить Второе Пришествие Христово. До революции скит посетила Комиссия по охране памятников искусства; она была тронута высокой идеей, вложенной в него, и выдала настоятельнице особую грамоту, в которой значилось, между прочим, следующее: «Серафимо-Знаменский скит по своему индивидуальному самобытному внутреннему и внешнему устройству заслуживает особого внимания и подлежит сохранению как редкий церковный памятник»19. 23 сентября 1912 года скит и храм в нем освятил митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский; канонизирован в 1990 году). Интересно, что в апреле того же 1912 года владыка Владимир освятил Покровский храм в «обители милосердия» – Марфо-Мариинской20. Но в отличие от раскрытой для общества московской обители Серафимо-Знаменский скит представлял собой внутренне замкнутый круг тридцати трех монахинь (опять же по числу лет земной жизни Спасителя).
После разгрома скита в 1924 году схиигумения некоторое время жила в комнатах расстрелянной великой княгини Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители, а с 1926 года с несколькими самыми близкими ей сестрами нашла приют у своих духовных детей под Москвой на станции Перхушково Белорусской железной дороги, где дом для нее снимали в течение нескольких лет Иван и Екатерина Макеевы (Волковы) – дед и бабушка автора этой книги по материнской линии (Екатерина Николаевна – в будущем кума Павла Дмитриевича). Сюда и приезжал Павел Корин в свой очень плодотворный год работы над «Реквиемом» – 1931-й – для того, чтобы договориться о написании портрета. Согласие было получено. Павел Дмитриевич поражался тому порядку, который поддерживался в доме проживания матушки, передавая позже свои впечатления (с улыбкой), что даже в советских наркоматах времен военного коммунизма, где ему по необходимости приходилось бывать, не видел он такой упорядоченности и беспрекословного исполнения всех пожеланий и указаний начальства, как у схиигумении в Перхушкове. (Это еще одно свидетельство того, что духовный авторитет ее был очень высок.)
Корин был готов к работе над портретом. Но в сентябре этого года произошло его знакомство с Горьким, следствием чего стала продолжительная поездка в Италию. По возвращении его в 1932 году матушки Фамари уже не оказалось в Перхушкове: она отбывала ссылку в Сибири. Не без помощи Корина, который после сближения с Горьким и написания его замечательного портрета стал вхож в круги «сильных» тогдашнего «мира сего», и других деятелей искусства (родной брат схиигумении был известным театральным режиссером) ей было разрешено через два года вернуться из Сибири и поселиться не так, как бывало тогда у «лишенцев» – не ближе сто одного километра от столицы, а в привычных местах по Белорусской железной дороге, на сей раз близ станции Пионерская. Здесь в 1935 году, за несколько месяцев до кончины матушки Фамари, получившей в ссылке в холодные сибирские зимы «горловую чахотку» и вернувшейся уже с подорванным здоровьем, и запечатлел ее Павел Корин.
На портрете схиигумения, не дожившая и до семидесяти лет, видится древней старухой, с истонченной голубизной кожи, явно просвечивающимся духовным своим существом… И даже идейно ангажированные советские искусствоведы не могли не оценить по достоинству эту коринскую работу как «подлинный шедевр портретного искусства» (С. Разгонов), отмечая необычность типажа, а также (в более позднее советское время) «вдохновенно-отрешенный лик» изображенной, ее взгляд, «устремленный в бесконечность и обладающий даром проникновенного ясновидения» (А. Каменский).
Если матушка Фамарь является знаковой фигурой в галерее коринского «Реквиема» как таковая – можно сказать, со стороны так называемых «непоминающих», то есть не признавших «Декларацию» митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности богоборческой власти и не поминавших его имя за литургией как предстоятеля Церкви, то иная весьма значимая личность, запечатленная художником для картины, – с другого полюса, из молодых, – иеромонах Пимен (Извеков), «держащий» массу церковного народа на итоговом эскизе, – будущий патриарх Московский и всея Руси, ставший им уже после кончины художника, в 1971 году. И надо было быть Павлом Кориным, чтобы в двадцатипятилетнем иноке увидеть значительность будущего первоиерарха. На портрете Корина это очень собранный, внутренне убежденный, сильный человек, тогда как на фотографиях той поры он смотрится смиренным, тихим, углубленным в себя. Здесь можно увидеть пример «пересоздания» фактуры, пример того, что истинный мастер видит скрытое подлинное существо изображаемого. Этот факт еще раз ярко свидетельствует о великом художническом даровании Корина. На этот случай обратила внимание и позднейший исследователь, искусствовед А. Старовойтова21
