Блуда и МУДО бесплатное чтение
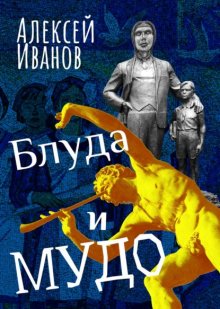
– Вы млекопитающий?
– Да.
– Приятного млекопитания.
Станислав Лем
Глава 1
Мудо
– Моржо́! – с чувством сказала Дианка. В наиболее патетических ситуациях она почему-то всегда называла Моржова на французский манер. – Моржо!.. Иди в жо!
Ну, Моржов, собственно, и пошёл.
С жильём у него проблем не было. Приземлиться на время можно было и у Щёкина, который всегда нуждался в собутыльниках. Но в жизни Щёкина постоянно присутствовали жена Светка и сын Михаил, и Светка-то в собутыльниках Щёкина вовсе не нуждалась. Поэтому Моржов завис у Дашеньки. Дашенька любила Моржова, но её очень напрягало то обстоятельство, что Моржов женат. Дашенька быстро утомила Моржова тем, что требовала развода, а без него пыталась (правда, безуспешно) отказывать Моржову, как бы это выразиться… э-э… в близости. Моржов с разводом тянуть не собирался, но его обижала несоразмерность требований. В обмен на то, чего у неё было немерено (секс), Дашенька требовала то, что у Моржова было в одном экземпляре (брак). Для Моржова это свидетельствовало о каком-то несправедливом раскладе отношений. Итог получился обычный: когда Моржов устроился на работу в педтехникум художником-оформителем, ему предоставили в общаге койко-место; на это койко-место он от Дашеньки и переехал.
Затем появились деньги. Вообще-то про деньги Моржов мечтал уже давно и думал, что встретит их морально подготовленным. В запасе даже имелись перечни предметов роскоши, подлежащих первоочередной покупке. Но деньги появились тихо и без предупреждения, словно лёгкое недомогание. Несмотря на их количество, весьма внушительное по меркам города Ковязина, они вдруг показались Моржову зыбкими, как головокружение. Их зыбкость эстетически противоречила живописной мощи намеченных приобретений, и Моржов, соблюдая гармонию, ничего не стал покупать.
Тут опять вылез Щёкин с прогнозируемым предложением эти деньги пропить. Предложение выглядело очень заманчиво, но мешали два фактора. Во-первых, пропить столько было не под силу даже Щёкину. А во-вторых, Моржов, чтобы не позориться на работе, закодировался и теперь от первой же рюмки мог и помереть, если чего не хуже.
Моржов начал нервничать. Вдруг судьба обидится на то, что Моржов не пользуется её подарками, и окончательно повернётся к Моржову тем местом, в которое его уже нацелила бывшая жена?.. А пользоваться подарками судьбы поспешно и бессистемно Моржов всё равно остерегался. За цифрами денежных перечислений ему мерещился укоризненный Призрак Великой Цели. Призрак являлся в рубище, имел тёмный лик, словно обожжённый неведомым огнём, крючковатый нос и горящие глаза. Он был лыс, как яйцо. С гневом библейского пророка он требовал потратить деньги на себя.
Призрак Моржову был противен. Великая Цель Моржову всегда казалась чем-то вроде очень длительного, мучительного и постыдного самоумерщвления, вроде смерти от алкоголизма. Исходя из нажитого опыта, Моржов считал, что жизненные цели должны быть мелкими, близкими и грязными.
А между тем остро стоял вопрос с пластинами. Пока Моржов жил у Дианы, этот вопрос тихонечко и плоско лежал вровень с паркетом. В чертогах родителей Дианки считалось, что пластины Моржова не имеют никакой ценности, кроме себестоимости материалов, потраченных на их покраску. Дианка относилась к пластинам никак. А когда Моржов был изгнан из чертогов, пластины вдруг взяли да и продались на какой-то никому не известной «Староарбатской биеннале». Вот тогда из неведомой дыры тотчас вылез Призрак Великой Цели. Моржов для краткости называл его ПВЦ. Корча угрожающие рожи, Призрак стал различными жестами привлекать внимание Моржова к себе. Намёки его сводились к тому, что деньги не вечны, что новые деньги принесут только новые пластины, а закрашивать их, сидя в общаге на койко-месте, невозможно. На запотевшем стекле вечности Призрак пальцем писал: «Сними квартиру, идиот!»
Казалось, Призрак был прав. Тем не менее в его советах таился внутренний изъян. Великая Цель – и какая-то там съёмная квартира… Это была нелепость, которая компрометировала всю идею. Цель не может быть Великой, когда она обеспечивается такой прозаической ерундой. Ну – дворцом Борджиа там ещё, сокровищами Монте-Кристо, фамильным замком… Но не съёмной же по дешёвке квартирой, честное слово! Так не делается. Франкенштейн не собрал бы своё чудище из дохлых тамагочи. Надоедливый Призрак не понимал, что подобным дурацким предложением он рубит сук, на котором сидит. Моржову за Призрака было неловко, и Моржов отворачивался.
В общем, он понимал Призрака. Призрак рассуждал по законам своей эстетики. Моржов чувствовал: дух Великой Цели так же эпопейно, неподъёмно тяжёл, как и разрешение квартирного вопроса, поэтому для Призрака съёмная квартира была органичным этапом реализации Великой Цели. Для Призрака квартира была «мастерской» – ну, рабочим местом, алтарём для глубокомысленного и несуетного служения Моржова Великой Цели. Но Призраку не хватало вкуса, чтобы осознать: моржовские пластины к этому служению непригодны. Да и сам Моржов тоже.
Однажды родители Дианы исхитрились достать себе и дочери тур в Турцию – и уехали. Моржов остался стеречь чертоги. Когда хозяева вернулись, с чертогами был полный порядок, только все их неиспользованные объёмы были забиты пустыми бутылками. Квартира стояла оцепеневшая, словно в шоке от внезапно приобретённого опыта. Диана и Моржов ещё могли в ней жить, а вот родители Дианы – уже нет. Так вот и сейчас: Моржов вдруг обнаружил в себе некий переизбыток былого, который не позволял ему хоть как-то сопрягать себя с Великой Целью. Снять квартиру, чтобы в ней закрашивать пластины, – это было слишком серьёзно по отношению к себе.
Сам Моржов расценивал свою вероятную квартиру только как логово, где он бы мог немного попереть устои морали. И он счёл, что Призрак не имеет права на перепрофилирование этого жилища, потому что в своё время даже не почесался, чтобы Моржов его обрёл. Призраку было наплевать, по каким углам Моржов околачивался до «Староарбатской биеннале». (Кстати, это немного обижало Моржова.) Например, тот же Щёкин, который предлагал пропить моржовские деньги, в «эпоху углов» бескорыстно поил Моржова на свои. Призрак бы никогда на подобное не расщедрился. Значит, рассудил Моржов, Призрак и права не имеет предъявлять какие-либо претензии.
Конечно, в подобных размышлениях было что-то бездуховное, бизнесменское: ты – мне, я – тебе. Но Моржов сознательно держал себя на бездуховной стороне вещей, потому что на их духовной стороне он всегда и во всём оказывался виноват. Однако пусть Призрак и был исключительно высокодуховен, но вот эстетически он оставался невежественным и совершенно бесчувственным. Художественная мастерская – и где? В городе Ковязине?.. Город Ковязин – это не мансарды Монпарнаса. Здесь даже инопланетяне на контакт с человечеством должны были бы выходить, стуча азбукой Морзе по батареям.
В съёмной квартире заключалась и ещё одна скрытая угроза. Конечно, наличие собственной посадочной площадки значительно упрощало вопрос уединения, когда было с кем уединиться. Но резерв кандидатур содержался в общаге педагогического техникума, и проживание в квартире лишало Моржова свободного доступа к резерву. А вариант «жить в общаге и иметь квартиру для встреч» (помимо его технической нелепости) ещё и провоцировал на меркантильную фальшь в отношениях с подругами. Пришлось бы всякий раз сложными путями выяснять, что подругам нужно больше: Моржов или его крыша? И без того несложный базис моржовских вожделений вообще бы просто расплющился под тяжестью такой громоздкой надстройки отношений. Моржов не желал неприятностей своему базису, которому и так крепко доставалось от укоров Призрака.
В общем, снимать квартиру Моржов не стал. Он поступил и проще, и хитрее. Он уволился из педтехникума и выделил незначительную часть от полученной суммы на взятку, чтобы комендантша не изгнала его из общаги. Таким образом, сохранившись в общаге, как в пройденном уровне компьютерной игры, Моржов устроился на работу в бывший Дом пионеров «Родник». Дом пионеров нуждался в «методисте выставочного зала». К этому методисту выдвигалось всего два требования: хоть какая-нибудь причастность к миру искусства и согласие на зарплату некрупного насекомого. Моржов был и причастен, и согласен, а потому получил сразу два плюса. Первым плюсом была большая подсобка, в которую сразу же переехали его пластины. Вторым плюсом был Щёкин, который в бывшем Доме пионеров вёл туристический кружок при спортивно-декоративном отделе.
Хотя на самом деле всё было не так уж и просто.
Началось с того, что Моржов заподозрил у себя шизофрению.
В то время он работал в фирме «Чип и Дейл» дизайнером. Фирма специализировалась на изготовлении мебели под заказ. (Название «Чип и Дейл» вообще-то было мебельным брендом «Чиппендейл», адаптированным к интеллекту хозяина.) Моржов эту мебель придумывал и вычерчивал на бумаге. Работа была несложная, и Моржов выполнял её левой ногой в любом состоянии – и в пьяном, и в похмельном, и, разумеется, в трезвом. Фирма имела только один недостаток: денег хозяин не платил. У него всегда находились объяснения, подкреплённые вескими сводками бухгалтера: мол, фирма не заработала ни хрена. Чтобы сотрудники не роптали, хозяин вместо оплаты прибавлял им дни к отпуску сверх положенных по КЗОТу. Довольно скоро Моржов понял принцип этого бизнеса: полгода работаешь бесплатно, полгода отдыхаешь без денег. Поняв, Моржов ушёл в запой.
В четверг и пятницу он пил на работе. В субботу – у Дашеньки, роман с которой переходил в самую интересную фазу. Утром воскресенья Моржов переместился к Щёкину, а вечером Светка, жена Щёкина, переместила Моржова восвояси. В понедельник Моржов умирал с похмелья; во вторник – воскресал. А в среду он впервые заподозрил у себя шизофрению.
В среду он тоже не пошёл на работу (он уже как-то привык не ходить туда, если не хотелось). Проснувшись, он лежал в постели и прислушивался к своим ощущениям. С похмелья голова у него была изнутри как хлоркой промыта – дочиста, словно вокзальный писсуар. Рядом спала Диана.
Диана и её родители поразительно легко относились к моржовским запойным исчезновениям. На вопрос, где он пропадал, Моржов браво отвечал: «Не помню!» – и этим ответом все вполне удовлетворялись. Так что за мир в своей семье Моржов был совершенно спокоен. Он лежал на диване в постели и курил.
Дианка проснулась, заворочалась, что-то бормоча, потом поднялась на четвереньки – лохматая, как растаманка, – перелезла через Моржова и босиком пошлёпала в туалет. Вернувшись, она забралась на своё место у стены, уселась над Моржовым и закуталась в одеяло.
– Слушай, Борька, – сказала она, – мы так давно не занимались сексом по утрам…
Моржова с похмелья чуть не вытошнило себе на грудь.
– Я не могу, – тотчас отпёрся он.
– Почему?
– Я просыпаюсь, вижу этот мир – и у меня шок.
С кухни доносился звон посуды и плеск воды. Это Дианкина мама готовила завтрак.
– У меня с утра хорошее настроение, – шёпотом вкрадчиво сказала Диана, – я выспалась. И мне надо, чтобы меня трахал мужчина, а я бы кричала – пусть мама услышит.
У Моржова, и без того полураздавленного похмельем, брови задрались настолько, что скальп съехал на затылок. Это сказала Диана? Диана?! Всегда такая невыносимо благопристойная, когда речь шла о сексе?..
Моржов вытаращился на Дианку – даже глаза заслезились. Диана стала вся какая-то радужная, переливчатая. Она словно бы мерцала, и Моржов не мог понять: под одеялом она голая или в ночнушке?
– А зачем твоей маме слышать, как ты кричишь?.. – ошарашенно спросил он.
– Маме? – удивилась Диана. Она вмиг сделалась как-то конкретнее, мерцание исчезло. Моржов увидел, что Диана всё-таки в ночнушке. – Тьфу, Борька, чего ты лепишь?.. Маме совершенно не нужно слышать всё это. Да я и не собираюсь кричать. Даже не думай про какое-нибудь безобразие!
Моржов ничего не понял.
С мамой у Дианки были весьма непростые отношения. Дианкина мама поражала Моржова хмурой, тяжёлой красотой и агрессивной нелюдимостью. В первые недели брака Моржов ожидал, что мама обварит его кипятком. Потом он понял, почему мама его не приняла. Мама соглашалась на любые выходки Дианкиного папы – лишь бы папа был при ней. Но мама справедливо боялась, что Моржов папочкины причуды терпеть не согласится. Тогда придётся делить чертоги – разменивать квартиру. И после размена папочка-барин уйдёт на лучшие жилищные условия к какой-нибудь молодой красавице. Поддразнивая маму, папочка часто намекал на нечто подобное. С мамой, похоже, у него давно уже были только приятельские отношения.
Половое созревание Дианы, единственной дочки, пришлось на время постепенной деградации папочки. Сначала папочка был директором элеватора, что в городе Ковязине означало вхождение в местный мелкотравчатый истеблишмент. На этом этапе у Дианкиной семьи в центре города образовались двухкомнатные чертоги. Они были отремонтированы стройбригадой элеватора, и папочка заставил их польскими гарнитурами, что предназначались для Ленинских уголков. А ещё в те времена у папочки оформилась привычка к бутылочке в сейфе. Легитимность бутылочки объяснялась сортом водки – «Пшеничная». Но хлеба налево и хлеба направо довели папочку до потери адекватности. Когда времена поменялись, секретари райкомов ушли в торговлю недвижимостью, директора совхозов спились окончательно, а папочка в одиночку упал в бурный океан жизни – словно капитан с мостика резко развернувшегося парохода. Пароход элеватора проплыл мимо капитана, и папочка едва выгребся на остров Чунга-Чанга – в гаражный кооператив сторожем.
В ипостаси хозяина элеватора папочка, наверное, был славным дядькой. Его самомнение вполне равнялось элеватору. Но сейчас папочке требовалась моральная компенсация падения, и он превратился в глупого и вечно пьяного хвастуна. Мама безоговорочно верила папочкиным рассказам о молодых любовницах (водительницах роскошных иномарок из его гаража) и всемогущих друзьях (владельцах этих же иномарок). А Моржову папочка назойливо надоедал нескончаемыми проверками на соответствие Моржова понятию «настоящий мужик».
«Чего у Дианки такие сапоги старые? – ни с того ни с сего вдруг вскидывался папочка за обеденным столом. – Борька, давай покупай ей новые сапоги! Ты не мужик, что ли, – бабу свою обуть не можешь?» Или (вечером у телевизора после пары стаканов): «Чтоб через три года у меня на обоих коленях по внуку сидело, поняли? Борька! Тебе, мужику, сыновей, что ли, не надо?» (Можно подумать, что у самого папочки сыновей была целая дюжина, и все – Герои Соцтруда.) Моржов на такое не обращал внимания. Он и сам, если нужно, был мастером пьяной брутальности.
За пьяную брутальность и полюбила его Диана. Потом Моржов догадался, что она выбирала мужа по папочке. Правда, ей не хватило ума понять, что Моржов походит на её папочку одной только любовью к выпивке. Но Моржов не стал раскрывать Дианке глаза. Моржова в ней устраивало всё, потому что Моржова восхищало её тело. Он и женился-то на теле, пренебрегая чириканьем души где-то сверху. И он был прав, потому что душа, полученная в довесок, не возражала против главного моржовского бытового недостатка – пьянства. (Про распутство душа, разумеется, не знала.) Диана считала: если папочка пьёт, то и мужу не зазорно.
Диана и сама замечала, что тем самым она потихоньку превращается в свою маму. Но боролась с превращением она довольно своеобразно: ей требовалось, чтобы Моржов переплюнул папочку. Моржов в силу возраста ещё мог перепить папочку, но вот трахаться круче папочкиных намёков – нет, не мог.
При всём своём великолепном теле Дианка толком и не поняла, зачем оно, собственно, нужно. Соперничая с мамой, Диана нуждалась в доказательствах неистовой мужской силы Моржова. Однако ей казалось, что рост неистовства – дело Моржова и одного только его. Поскольку Моржов ленился и в неистовстве не рос, Диана всё категоричнее выносила свой интим на мамино обозрение. Поначалу Моржова изумляло, что после секса Дианка бежит в ванную через комнату родителей в одних трусах, напоказ тряся напружинившимися грудками. Потом Моржов привык, сочтя подобное сумасшедшей семейной традицией. Любой брак, оказывается, волок за собой целую связку таких традиций. А затем, отойдя от медовой эйфории, Моржов заметил, что если мама за стенкой, то Дианкин отлёт в космос сопровождается ещё и усиленными обезьяньими воплями.
…Щёкин говорил грубые банальности, но от всеобщего употребления истина не переставала оставаться истиной. Щёкин говорил, что мужики меряются «у кого длиньше», а бабы – «у кого глубже». Поскольку даже у диванного клопа всё равно было «длиньше», чем у Дианкиного папочки, Моржову меряться было незачем. Следовательно, этими воплями Диана выясняла отношения с мамой. Правильность вывода Моржов подтвердил экспериментально: при соитиях в парке имени Чкалова и в сквере за бульваром Конармии Диана молчала как мышка… Всё это было бы терпимо, но Моржову начинало казаться, что мама лежит на их диване третьей. Такое преодоление мамы его несколько угнетало.
– Диана, иди завтракать! – крикнула мама из кухни.
Моржова из завтрака она вычла.
Солнце выглянуло из-за занавески, и в пыльных чертогах всё опять замерцало.
– Борька, лентяй, пропойца, ты всё врёшь, что не можешь! – любовно прошептала Дианка, наклоняясь к Моржову. – Если ты сейчас займёшься мною, я разрешу тебе сделать мне чего-нибудь такое, чего раньше не разрешала. Ну, чтобы кричать…
Моржову опять показалось, что он ослышался. Раньше он уже пробовал иносказательно объяснить Диане, что любовное неистовство можно реализовать не только в децибелах и килогерцах, но и по-другому. Мол, если мы хотим натянуть мамочке нос, то давай сделаем так и так – Моржов показывал на пальцах. Мама охренеет – сто пудов. Диана гневно шлёпала его по рукам. Ненормативный секс был для неё страшнее, чем для букваря – ненормативная лексика. И сейчас Моржов, невзирая на последствия алкогольного дефолта, даже приподнялся на локте:
– Ты что, согласна на всё, лишь бы орать?
– Ничего себе торг! – в свою очередь удивилась Диана. – Я никакими извращениями не занималась и не буду! А ты, между прочим, муж и должен выполнять свои супружеские обязанности!
Моржов сморгнул. Ему даже захотелось заглянуть за спину Дианы – не прячется ли там какой-нибудь бес? Однажды он уже допивался до натуральных чертей.
– Слушай, – сердечно произнёс Моржов, укладываясь обратно на спину. – Я с похмелья – как с того света. Если ты чего хочешь – начинай сама.
Позу «женщина сверху» Диана ненавидела. Она считала её даже в семейном интерьере ужаснее, чем поступок леди Годивы. Моржову вообще казалось, что и прочие-то ласки Диана предпочла бы оказывать ему в резиновых перчатках. А в её рот из посторонних предметов дозволялось попадать только ложке.
Моржов понимал, что этот мир состоит из нестыкуемых противоречий, вроде жажды свободы под сильной рукой. На кой хрен он, развратник, женился на пуританке? И как его жена-пуританка собирается перетрахать свою маму, образно говоря, сохранив девственность?.. Ожидая в ответ на своё предложение бурю негодования, Моржов прикрыл глаза и глядел на Дианку сквозь ресницы. Диана мерцала. Мерцала Диана. Мерциана…
– Ну, я не могу начинать сама!.. – виновато прошептала Мерциана. – Я стесняюсь, разве ты не видишь?.. И вообще… Мне надо, чтобы ты сам… Чтобы ты меня… немного изнасиловал. Тебе ведь можно. Ты – муж, мужчина…
– Чего?! – опять подлетел Моржов. – Тебя надо изнасиловать?..
Диана таращилась на него, плотнее закутываясь в одеяло.
– Моржо! Ты охамел! – холодно сказала она, качая головой.
Моржов сощурился.
Диана обиженно отвернулась.
– Не всё же надо говорить словами… – страдальчески сказала она. Сейчас она опять была Мерцианой.
Моржов протянул руку и погладил Дианку, словно хотел проверить галлюцинацию на ощупь.
– Эй-эй! – Диана строго отбросила его руку. – Давай-ка без всего этого! Я тебе не из таких!.. – Она помолчала, тихонько превращаясь в Мерциану и оттого словно расцветая. – «Такой» ты меня ещё сделай сначала…
Моржов сунул руку под диван, нашарил среди тапочек свои очки и нахлобучил их на нос, пристально разглядывая Диану.
– Я это слышу или не слышу? – честно спросил он.
– Ты о чём? – не поняла Диана и опасливо оглянулась по сторонам. – Ты вообще с кем разговариваешь?..
Моржов подумал, что алкоголь, похоже, прожёг в его мозгах дыру. Провода оголились, заискрили – отсюда и мерцающая Диана. Моржов испугался угрозы короткого замыкания.
Он вылез из постели и суетливо полез в штаны.
– Ш-шизофрения, блин!.. – бормотал он. – Допился, скот!..
Он убежал без завтрака. Убежал совещаться со Щёкиным.
Но Щёкина дома не оказалось – рабочий день. Дома была только жена Щёкина Света, сидевшая с сыном.
Моржов приземлился попить чаю со Светкой, но и с ней получилось не лучше, чем с Дианой. Светка тоже мерцала. Моржов не понимал, с кем он говорит. Одна Светка, обычная, кляла Щёкина за свинство и подозревала в супружеских изменах. Она въедливо расспрашивала Моржова и пыталась по его оговоркам нарисовать себе Щёкина эдаким мачо. (По мнению Моржова, на мачо Щёкин походил как швабра на «шаттл».) А другая Светка, мерцающая, просила: «Борька, ты же бабник! Пристрой его куда-нибудь! Пусть он приходит домой весь в чужой помаде, в трусах, поспешно надетых задом наперёд, пусть щучит меня вдогонку недоделанному на стороне, сбрасывает в меня жар, раскочегаренный другими!..» От такой откровенности Моржов высоковольтно вибрировал.
Он решил, что начал слышать тайные мысли, как в старом кино «Чего хотят женщины». Он шатался по улицам Ковязина, подсовывая себя женщинам на глаза. Но он не услышал ни одной мысли, хотя прочёл множество однообразных пожеланий. Тогда он купил пива, и после третьей банки весь мир стал радужным и мерцающим.
Хмельным, но не совсем уж пьяным он заявился к Дашеньке. Роман с Дашенькой у Моржова был в той стадии, когда девушка ещё жеманится, изображая каждую свою сдачу милосердной уступкой и жертвой. Признание взаимности желания пока что считалось неприличным.
У Дашеньки сидели гости. Моржов без усилий переключился на мерцающий диапазон. (Мерцоид! Вот как следует называть обитателей этого пространства!) Мерцоид Дашеньки томился по Моржову, изыскивая способы спровадить гостей. Моржов без труда увлёк Дашеньку-мерцоида в подъезд и овладел им (ею?..) на лестнице. Это было втройне удивительно, поскольку раньше Дашенька не давала целовать себя даже при включённом ночнике.
Моржов понял, что под воздействием алкоголя в его глазах этот мерцающий мир отслоился от реального мира, как под воздействием удара кулака от зрачка отслаивается роговица. Если бы Моржов был Щёкиным, который слонялся по Ковязину в поисках хоть какого-нибудь сексуального приключения, он бы только радовался появлению мерцоидов. Но Моржову для чувственной сытости вполне хватало уже имеющихся подруг. Поэтому Моржов переполошился. В алкогольно-сексуальной шизофрении он не нуждался. Пускай лучше всё остаётся по-старому: шатко-валко, сикось-накось, потихоньку-полегоньку. Кривая и так вывозила Моржова, незачем было её спрямлять. И тогда Моржов пошёл в больницу и закодировался от пьянства.
Мерцоиды исчезли.
В актовом зале Дома пионеров Моржов сразу уселся на крайний стул в последнем ряду. Отсюда можно будет незаметно смыться с педсовета, когда совсем припрёт жажда покурить. Чего Моржову делать на педсовете? Он же не педагог. Он – методист выставочного зала. Его задача – картинки развешивать. Что дадут, то и повесит. А детей воспитывают другие члены коллектива. Директриса Шкиляева просто выпендривалась перед начальством и потому согнала на итоговый майский педсовет всех, кого смогла, кроме уборщиц и сторожей.
Педагогов набралось человек тридцать. Моржов быстро перебрал всех взглядом. Приятно было попялиться на молоденьких училок, новеньких – только что из педтехникума, но они сели далеко и спиной к Моржову. Миленочку Чунжину загородила толстая бабища, руководительница кружка вышивания. Танцовщица Таня на лицо была страшненькой, а на фигурку – просто прелесть; но сегодня она явилась в каком-то дурацком жакете, так что и смотреть было не на что. Толстая и весёлая Оля показывала теннисисту Каравайскому фотографии в огромной стенгазете и полностью закрыла себя ватманом.
– Свободно? – раздалось над Моржовым.
Рядом стояла Роза Идрисова. Она лукаво указала Моржову пальчиком на соседний стул и в смущении прижала пальчик к губам, словно стул был чем-то не очень приличным.
– Проходи! – радушно пригласил Моржов и напоказ широко раздвинул колени, чтобы Роза могла протиснуться между ним и спинкой стула напротив. – Свободно, – многозначительно добавил он, так же широко улыбаясь.
Моржов носил огромные, в пол-лица, очки-окна с толстой, как оконная рама, оправой. Эти очки в сочетании с улыбкой, несколько лошадиной физиономией и высоким ростом придавали Моржову дебильно-жизнерадостный вид. Такой вид очень помогал при общении с начальством, а также в различных двусмысленных ситуациях. Впрочем, Роза была девушкой неглупой и, похоже, многоопытной, а потому в капканы Моржова попадала только тогда, когда хотела попасть. Но хотела она почти всегда.
Вообще-то из соображений приличия полагалось, чтобы Моржов встал, а Роза, пробираясь к месту, была обращена к нему лицом. Но Моржов и не подумал встать (дебил до этого не догадается), а Роза повернулась к Моржову спиной и начала протискиваться мелкими шажками, выпятив зад. Роза была в жёлтой блузке и тонких белых брючках в обтяжку. Она пронесла над моржовской промежностью свои крупные, тугие и круглые ягодицы, как большую амфору, наполненную вином. Моржов, разумеется, оценил.
Когда Роза уселась, Моржов наклонился к её ушку и невинно прошептал:
– Тебе очень идут эти стринги.
Роза укоризненно посмотрела на него. Игра игралась по правилам. Моржов типа как оказался бестактным, его типа как осадили. Моржов понимал, что всё это – именно игра. Если бы Розу оскорбил его комплимент, то она бы не вела себя с ним как Мальвина с Буратиной. А сейчас мягкий укор Розки вполне соответствовал фривольному статусу Моржова: эдакий шалун, бонвиван, невоспитанный обаяшка.
Никакой любовницей Моржову Роза не была. Моржов ни разу даже не подкатывался к ней, да и не планировал ничего подобного. Он вообще побаивался распускать руки на работе.
В зал вошёл Щёкин, остановился, что-то засовывая в карман, и осмотрелся в поисках Моржова. Щёкин был маленького роста, лобастый и ушастый. Моржову он казался похожим на заварочный чайник.
– Вон твой слонёнок, – наклоняя голову к Моржову, шепнула Роза, указав на Щёкина ресницами.
Моржов помахал Щёкину рукой. Щёкин, увидев, что единственное место рядом с Моржовым занято, помрачнел и пошагал к первым рядам, поздоровался за руку с краеведом Костёрычем и уселся к Моржову затылком.
– Чего он такой хмурый? – спросила Роза.
Вообще-то Щёкин всегда был хмурым.
– Завидует, – негромко и с чувством объяснил Моржов.
– Чему? – вроде бы как не поняла Роза.
Она явно провоцировала Моржова на следующий комплимент.
– Не скажу, – ответил Моржов.
На новый комплимент Роза ещё не заработала.
– Чего?.. – не расслышала Роза.
Моржов снова склонился к её ушку, чтобы повторить, но Роза в это время томно вздохнула:
– Душно здесь…
Она подцепила пальцем ворот блузки и потрясла одёжку, словно проветривая себя. Склонившийся Моржов как раз и увидел под блузкой в телесно-коричневом сумраке спелые и бледно-смуглые груди Розы, туго подхваченные снизу сеточкой лифчика.
– Розка, поросёнок!.. – отшатываясь, зашипел он.
Роза отпустила блузку и, склонив голову, с улыбкой победительницы откровенно посмотрела на Моржова. Кто здесь что зарабатывает? Она – право слышать комплименты, или он – право говорить их?
Моржов, кусая губы, сокрушённо уставился в окно с видом человека, который обдумывает планы реванша.
Вообще-то Розка была ужасно аппетитной. Моржов даже принялся скрести левую лодыжку подошвой правого кроссовка. «Не девка, а помидорка!» – подумал он.
Конечно, Розка была красива. Красива по-татарски: невысокая и фигуристая. Может быть, даже слишком фигуристая: груди и попу она всегда носила словно напоказ, как вёдра на коромысле. И ещё эта татарская персиковая смуглость, и губки – словно надутые, и тёмные глаза – большие и наивные, как и положено настоящей врушке. Было в Розке что-то яркое, цветастое, восточное; она наводила на какие-то ориенталистские мотивы: гурии, одалиски, танец живота… Моржов попытался вызвать Розкиного мерцоида – но кодировка продолжала действовать. Оставалось лишь воображать: наверное, когда Розка сидит голая, у неё животик округляется и тонкой серповидной складочкой отделяется от…
«Да тьфу ты, блин!.. – мысленно принялся плеваться Моржов. – Я ведь на педсовет пришёл!»
Розка сидела довольная. Она положила ногу на ногу и скрестила руки так, что груди, обтянутые блузкой, выкатились, а на блузке пропечатался рельеф лифчика.
– А чего у нас Манжетов делает? – спросила Розка.
Моржов обдумал вопрос: не кроется ли в нём подвох?
– Он нам расскажет, по каким принципам в будущем учебном году станет строиться работа учреждений дополнительного образования, – тщательно и осторожно ответил Моржов.
– А ты знаешь про Чэнжину?
Моржов нашёл взглядом Милену Чунжину. Она сидела в третьем ряду и, склонив голову, читала какую-то брошюру, придерживая ладонью прядь волос.
– А что мне про неё надо знать?
Роза стрельнула глазами по сторонам – не видит ли кто?
– Она с Манжетовым…
Роза расцепила руки и тихонько потыкала указательным пальчиком левой руки в указательный пальчик правой. Потом она опять сложила руки, спрятав кисти под мышки, и уставилась на Моржова с испытующей улыбкой. Она ждала моржовской просьбы о помиловании.
Моржов шмыгнул носом, глядя Розке в глаза.
– Молодость даётся человеку только один раз, – с внушением сказал он.
Розка в досаде задрала глазища к потолку, приоткрыла рот и принялась трогать передние зубы кончиком языка. Моржов усмехнулся. Розка хотела снова поддеть его, а он перевёл разговор на то поле, с которого женщине положено всегда отступать. Розке, получается, пришлось тупить – изображать дурочку, не понимающую намёка. Моржов, ухмыляясь, нанёс ещё один удар:
– А чем собираешься заниматься летом ты?
В контексте любовной связи Милены Чунжиной и Манжетова этот вопрос звучал с необходимым двусмыслием.
– Мы – люди подневольные, – печально сказала Розка. – Что скажут – то и делаем…
Моржов как не слышал: не изменил ни позы, ни ухмылки. Розка предпринимала контратаку, изображая покорность и доступность. Но Моржов не собирался покупаться. Во-первых, на этой мине он уже взорвался, когда заглянул в вырез блузки. А во-вторых, такой приёмчик действовал лишь тогда, когда был внезапен и сопряжён с натуральной демонстрацией доступности.
Розка поняла, что теперь грабли не сработали.
– Организацией массовых мероприятий, как и положено методисту по организации массовых мероприятий, – мстительно сказала она, занимая оборонительную позицию.
Моржов с правом наступающего чуть придвинулся поближе к круглому бедру Розки, смиренно положил ладони на колени и вкрадчиво сказал:
– Я могу предложить тебе организовать одно очень приятное массовое мероприятие, но мне будет нужна твоя методическая помощь.
Роза тяжело вздохнула, мечтательно полуприкрыв глаза. Что поделать: она была вынуждена переходить к вооружённой обороне.
– Борь-ка!.. – сладко, но предостерегающе пропела-прошептала она. – Кончай!
Моржов уже открыл было рот, чтобы совсем загнать Розку в угол, пользуясь её столь неудачным словечком, но тотчас подумал, что подобный каламбур будет как раз в его дебильно-жизнерадостном стиле, а потому кивнул и милосердно промолчал.
– А сейчас я передаю слово Александру Львовичу, – сказала Шкиляева, поднялась из-за стола и отодвинула стул. – Думаю, представлять его нашему коллективу нет необходимости…
«Почему это нет?» – удивился Моржов. Сам он, конечно, знал, что Манжетов – начальник департамента образования районной администрации. Но вот, скажем, Щёкин наверняка этого не знал. К примеру, в двухтысячный Новый год Щёкин традиционно напился и только в марте узнал о том, что Ельцин – больше не президент. Но Шкиляева считала начальстволюбие неотъемлемой частью души любого человека. Представлять Манжетова казалось ей так же нелепо, как оповещать о количестве рук или ног.
Манжетов уже шагал к столу Шкиляевой, по пути оглядываясь на педсовет и благодарно кивая. Он поддёрнул брюки на коленях, уселся и положил руки на стол, сцепив пальцы в замок.
– Власть решила поговорить с народом! – крикнул Манжетову теннисист Каравайский.
Манжетов одобрительно улыбнулся.
– У нашей власти, и мы все знаем о ней, есть генетическая особенность, – доверительно сказал он хорошо поставленным сочным голосом. – Едва обстановка в стране успокоится, власть сразу же отрывается от общества. Ну так давайте вместе поворачивать власть лицом к людям! Общество должно контролировать администрацию!
Моржов от удовольствия расползся по стулу. Во! Местоимением «мы» Манжетов ловко прочертил линию фронта так, что оказался на одной стороне с народом, который сам же и виноват в том, что власть им пренебрегает. А лично Манжетов здесь ни при чём. У власти, мол, генетика такая, никуда не попрёшь. Это уже отдавало высокой трагедией неразделённой любви. Переводить неразделённую любовь в насильственное супружество было этическим и эстетическим преступлением, недостойным художественно развитой личности.
– Давайте разговаривать в формате «круглого стола», – предложил Манжетов и развёл руки, словно обхватил ими некую округлость.
Моржов, прищурившись, рассматривал Манжетова. Манжетов давно уже обтёрся во власти, и образ его обрёл лоск и долгожданную законченность. Так старое кресло постепенно принимает форму задницы хозяина.
Манжетов был рослым, красивым и уже немного дородным мужчиной. Его комплекция производила впечатление той укоренённости в жизни, когда энергичность ещё не растворена массой тела. Манжетов пришёл на педсовет в тёмных брюках и в белой рубашке с короткими рукавами: это придавало образу доступность и демократичность. Обнажённые сильные руки, покрытые тёмным волосом, намекали на то, что на самом деле рукава как бы засучены для трудной работы. Рубашка не мешала Манжетову оперативно реагировать на все особенности момента.
По привычке врождённого фрейдизма (попросту говоря, по необоримой развратности мышления) Моржов копал Манжетова вглубь его личной жизни. Лёгкость рубашки, противоречащая утреннему майскому холодку, деликатно нашёптывала доверчивым гражданам о физическом и нравственном здоровье своего носителя и о его пренебрежении к мелким неудобствам. Для гражданок же, которые составляли подавляющее большинство граждан, лёгкая рубашка давала невесомый посыл о возможности своего быстрого устранения – и о горячем, холёном мужском теле. Причём идея горячего тела (при подозрении в использовании сексуального обаяния) могла мгновенно конвертироваться в идею горячей души, поневоле раскаляющей организм.
– Итоговый доклад Галины Николаевны о работе вашего учреждения в минувшем году я выслушал с огромным интересом, – поделился с педсоветом Манжетов. – Признаюсь: я поражён! Я не ожидал, что ваше учреждение столь масштабно по охвату детей нашего города и к тому же имеет такую высокую репутацию среди учреждений вашего профиля в области!..
– А что область! – крикнул Каравайский. – У меня Наташа Ландышева заняла третье место по России в подростковой лиге!
– Поздравляю, – Манжетов слегка поклонился Каравайскому. Персональность этого поздравления означала вежливую просьбу заткнуться: заслуги признаны, и большего ждать неэтично. – Но на примере вашего учреждения я вижу некоторую… э-э… феодальную замкнутость. Впрочем, она характерна не только «Роднику», а очень и очень многим. Почему в городе не знают об успехах Дома пионеров? Почему вы не идёте в другие учреждения, в школы с пропагандой своих педагогических достижений?
– Потому что, кроме Шкиляевой, в них никто и не поверит, – буркнула Роза. Она разложила на коленях журнал и разгадывала кроссворд, задумчиво постукивая по губам кончиком ручки.
Шкиляева, сидевшая на первом ряду, шумно вздохнула и виновато улыбнулась: мол, мы скромные, ничего с собой поделать не можем. Манжетов пожурил её строгим взглядом.
– Так что не только власть отрывается от общества, но и весьма успешные учреждения тоже, – пошутил Манжетов.
В зале раздались подобострастные смешки.
Моржов посмотрел на Милену Чунжину, которая пересела поближе к стенке, чтобы никто не мог вместить в один взгляд сразу и её, и Манжетова. Милена отчуждённо листала свою брошюру. Уже не надеясь на мерцоидов, Моржов в воображении сам быстро раздел Милену и Манжетова, сложил их друг с другом, приставил друг к другу так и сяк – и с ревнивым неудовольствием понял, что эта пара выглядит весьма органично.
– Однако, и все мы это понимаем в равной степени, не надо терять голову от успехов, – строго сказал Манжетов. – Я вот приготовил вам несколько цифр из наших статистических отчётов.
Не глядя, он опустил руку и поднял с пола чемоданчик, оставленный возле стола заранее. Он ловко и аккуратно уложил чемоданчик перед собой, как ноутбук, раскрыл и извлёк файл с компьютерной распечаткой.
– В нашем городе, и это, по данным комитета статистики, девятнадцать с половиной тысяч детей в возрасте до восемнадцати лет, – надев узкие золочёные очки прочитал Манжетов. – В то же время, по данным социологических опросов, тысяча триста детей хотя бы раз пробовали наркотики, а триста пятьдесят подростков состоят на учёте как наркоманы. – Манжетов снял очки и оглядел притихший зал. – По данным того же опроса, десять процентов подростков не посещают школу. В кружках и секциях занимается только пятнадцать процентов подростков. Две с половиной тысячи подростков состоят на учёте в детской комнате милиции. – Манжетов открыл рот, но не сразу сообразил, как обратиться к педагогам: «товарищи»? «господа»? – Коллеги! – нашёлся он. – Цифры страшные!
– Какой ты мне коллега? – буркнула Роза.
– Отчего такое происходит? – риторически спросил Манжетов.
«Ну конечно, мы плохо работаем!» – сразу ответил Моржов, объединив себя с педагогами, хотя к педагогике не имел никакого отношения.
– Плохо работаем! – сокрушённо признался Манжетов.
– Да почему плохо-то? – закричал Каравайский. – Я сколько раз просил: дайте мне дополнительное помещение! У меня детей – море, все хотят теннисом заниматься! Нету помещений!
– Конечно, и надо сказать честно, виноваты не одни лишь педагоги, – признал Манжетов, игнорируя Каравайского. – Мы, чиновники, виноваты не меньше. Но в чём наша общая вина? – Манжетов требовательно и внимательно оглядел зал. – Наша вина в том, – веско произнёс он, – что мы не можем охватить полностью всё свободное время ребёнка, и дети уходят на улицу, уходят в криминал. Мы замыкаемся на своих успехах и не видим всего объёма поля деятельности. Попросту говоря, мы не отвечаем запросам времени. Мы подросткам неинтересны!
Моржову почудилось, что за правым плечом Манжетова воздух как-то странно задрожал и помрачнел. Похоже, там начинал материализацию Призрак Великой Цели. Моржов стрельнул взглядом в сторону – можно ли сбежать?
Манжетов вздёрнул брови, трагически озирая педсовет. Педсовет сдержанно и недовольно загомонил. Шкиляева повернулась, обводя педагогов гневным взглядом.
– Наше время – рыночное, – продолжил Манжетов с интонацией тяжёлых размышлений, которые предшествовали выводам. – Нравится нам это или нет – но это так. А система образования – такой же сегмент рынка, как и всё прочее. Нужно это учитывать.
– Вы считаете, что, если все кружки сделать платными, проблема будет решена? – негромко спросил краевед Костёрыч.
– Не надо утрировать. – Манжетов потряс в воздухе ладонями, словно пояснял, что руки у него чистые и корыстного рыночного интереса в его словах нет. – Рынок, и нужно смотреть на вещи глубже, это взаимоотношения спроса и предложения. С рыночной точки зрения, на наши педагогические услуги попросту нет спроса. А его нет потому, что предложение не соответствует приоритетам общества. Галина Николаевна только что привела убедительнейшие примеры, и я не оспариваю вашего профессионализма, высоты вашего педагогического мастерства, господа. Но вы, как профессионалы, и в этом корень бед, забываете о корреляции предложения своих услуг с запросами общества. Никто не говорит о том, что школа или Дом пионеров должны зарабатывать деньги, как, скажем, коммерческая структура. Это абсурд. Речь идёт о том, что наша школа – в широком смысле слова, и это как с экономической, так и с духовной стороны, – в нынешнее время попросту нерентабельна. В этом и состоит её современный кризис. Вы, как педагоги, должны вернуться из девятнадцатого века в двадцать первый. Ну а мы, как чиновники, должны организовать процесс предоставления педагогических услуг – и не более того. Вы со мной согласны?
– А что делать, если финансирования нет? – закричал Каравайский. – У меня в зале потолочные балки гнилые, и нет денег на ремонт! А потом закроют зал как аварийный, и куда я детей дену? Какой тут рынок!
– Вы совершенно правильно говорите, – согласился Манжетов. – Мы тоже, и в этом вина наша, чиновников, работаем по старинке. На образование направляются огромные средства, а где они? Где эффект? Я вам поясню на примитивном примере. Скажем, вот ваши соревнования по настольному теннису. В них должны принять участие сто человек. На каждого человека отпускается рубль. А на соревнование пришли только пятьдесят человек. То есть пятьдесят рублей улетели в трубу! А на эти деньги можно было бы отремонтировать ваш зал.
– Да у меня никогда меньше заявленного числа участников не бывает! – возмутился Каравайский.
– Это просто пример, он не относится лично к вам, – поморщился Манжетов. – Я всего лишь объяснил схему финансирования образования, в результате которой деньги попросту улетучиваются в никуда. Но в применении этой схемы вина не ваша, педагогов, а наша – администраторов. И наш департамент начал реформирование этой схемы, да и всей системы муниципального образования. Создан проект, и пока ещё это только проект, подчёркиваю, новой схемы финансирования. Суть её заключается в том, что от финансирования заявленных мероприятий мы переходим к финансированию по результатам. Соревновалось у вас пятьдесят человек – пятьдесят рублей и будет выделено. А другие пятьдесят рублей пойдут на ремонт. Мне кажется, это абсолютно разумная схема.
– А более конкретно? – спросил Костёрыч.
– Говорю более конкретно. – Манжетов сделал успокаивающий жест. – С будущего учебного года финансирование учреждений образования будет осуществляться по подушевому принципу. Сколько у вас детей – столько денег и будет выделено. Скажем, всем школам на летний ремонт выделяется по пятьдесят тысяч рублей. Но в одной школе пятьсот учеников, а в другой полторы тысячи. Согласно новому принципу, и это справедливо, одной школе будет выделено двадцать пять тысяч рублей, а другой – семьдесят пять. Если маленькая школа недовольна, пусть предоставляет педагогические услуги такого качества, что родители приведут в неё больше детей, и финансирование соответственно увеличится. Что поделать – рынок, конкуренция.
– Это вы про школу, а про нас? – спросил кто-то из педагогов.
– С учреждениями дополнительного образования ситуация та же самая. Если у педагога в кружке пять человек, то он и зарплату будет получать только за пятерых воспитанников. Не ставку, как раньше, а по факту. Если пятьдесят человек – то и зарплата будет в десять раз больше, чем у того, у кого всего пятеро. Если вы профессионал, у вас будет пятьдесят детей. А если вы, извините, от токарного станка – то вам, наверное, будет выгоднее вернуться к станку. Синекура отменяется.
Каравайский тотчас вскочил с места, хотя у него-то детей в кружках было не пятьдесят человек, а все пятьсот.
– Если всё на детей сведётся, то как же хозяйственные проблемы решать? – крикнул он. – У нас в Троельге два стола теннисные стоят, никому не нужные. Я думал: будут соревнования – я сгоняю туда машину, привезу их. Столов-то не хватает! А с подушевым финансированием как я машину пошлю? Пропадайте столы, да? Я про новые столы и не прошу уже – каждый сорок тысяч стоит! Так хоть эти дайте забрать!..
Манжетов откровенно ничего не понял.
– В Троельге у нас корпуса бывшего летнего лагеря, – пояснила Шкиляева. – Он сейчас не действует. А там теннисные столы.
– Знаете, это частный вопрос, – снова поморщился Манжетов. – Мы и решим его в частном порядке. При чём здесь наш разговор?
– Моржов… – прошептала Роза, всё ещё колдующая над кроссвордом. – Персонаж поэмы «Витязь в тигровой шкуре» – кто?
– Витязь, – не думая, шепнул Моржов. – Или тигр. Или шкура.
– Подушевое финансирование убьёт дополнительное образование, – сказал Костёрыч. – Мы ведь не школа, посещение которой обязательно. У нас – и производственные риски и избирательность действия…
– Давайте не будем заниматься демагогией, – мягко осадил Костёрыча Манжетов.
Моржов снова поглядел на Миленочку Чунжину. Она отложила брошюру и привалилась плечом к стене, скрестив руки на груди. Она смотрела на Манжетова как-то устало и укоризненно, словно хотела показать, что с этим человеком она не имеет ничего общего.
– А как вы собираетесь контролировать количество воспитанников? – не унялся Костёрыч. – Проверками?
– Вы же сами знаете, и это всем известно, как проверки действуют на нервы педагогам, – улыбнулся Манжетов. – Нет, мы не будем стоять над каждым учителем. Для контроля вводится система сертификации школьников. В мае, и это уже сделано, во все школы были разосланы сертификаты, и они сейчас находятся у каждого классного руководителя. Сертификат выглядит вот так… – Манжетов снова залез в чемоданчик и достал сертификат, издалека напоминающий диплом о высшем образовании. Манжетов развернул сертификат и показал его педсовету. – Свой сертификат, а он выдаётся каждому подростку по первому его требованию, школьник приносит руководителю кружка, в котором желает заниматься. Учёт будет вестись по количеству сертификатов у педагога. Всё очень просто.
– А если ребёнок желает заниматься в двух кружках? – спросили из зала.
– Вот с этим, конечно, проблема, – согласился Манжетов. – И мы опять возвращаемся к вопросу рынка. Ребёнок может посещать сколько угодно кружков. Сертификат – это его право на бесплатные занятия в одном кружке. В одном! Всё-таки наше образование – не самая богатая отрасль народного хозяйства. Во все остальные кружки, и размеры платы сейчас обсуждаются в департаменте, ребёнок может ходить на коммерческой основе. Конечно, плата будет разумная, сопоставимая с низкой покупательной способностью населения. Но сертификат – это гарантия бесплатности любого кружка для любого ребёнка. Зарплата педагогу будет начисляться исходя из количества сертификатов. А от платных детей, и это согласно закону о предпринимательской деятельности, – процент.
Гомон обсуждения пополз по рядам педагогов. Манжетов пережидал. Моржову это было безразлично – он же не педагог. Роза тоже была методистом и потому не отрывалась от кроссворда.
– А соревнования? – крикнул Каравайский, снова вставая. – Затраты на них будут заложены в подушевое финансирование или нет? Соревнования – это главное! Я понимаю – краеведение, – Каравайский вдруг указал пальцем на Костёрыча. – Там всё ясно: кто-то больше родной край любит, кто-то меньше. А в настольном теннисе только соревнование определяет уровень подготовки!
– Всё будет заложено, – подтвердил Манжетов, глядя на Каравайского остекленевшими глазами.
Моржов подумал, что уже, в общем, настало время покурить. Он навалился на спинку своего стула и вытянул ноги под другой стул, который стоял впереди.
– Более того, коллеги! – Манжетов похлопал ладонью по столешнице, призывая педагогов к вниманию. – Мы в департаменте, и решение уже принято, рассмотрели все учебные учреждения нашего города и наметили сделать ваш «Родник» испытательной площадкой для реформирования муниципального образования в целом. В вашем учреждении, и оно единственное, которое работает летом без каникул, самый высокий в городе процент педагогов высшей категории. Думаю, вам самое место именно на переднем крае педагогической реформы. Наступающее лето необходимо сделать временем накопления опыта, чтобы с осени вводить новый порядок по всему городу. Я думаю, для этого лета вашим девизом должны стать слова «инновации», «модернизация» и «оптимизация».
Эти страшные слова породили опасливый гул.
– Скачаю из Интернета кучу всякой хрени и раздам всем педагогам, – не поднимая голову от кроссворда, зло сказала Розка Моржову. – Вот и все инновации. Испугали бабу членом.
– Да потише вы, что же такое! – оглядываясь, крикнула Шкиляева в зал.
– А почему с нами никто не посоветовался, превращая нас в экспериментальную площадку? – спросил Костёрыч.
– Константин Егорович, дайте же Александру Львовичу слово сказать! – рявкнула Шкиляева.
– А вот вы и высказывайте своё мнение! – тотчас ответил Манжетов. – По вашим замечаниям департамент будет корректировать процесс модернизации учреждений образования. Если все будут отмалчиваться, и это ещё одно свидетельство косности, несовременности нашего мышления, то и реформа опять забуксует. Сколько бы вы ни обижались на начальство, но ведь именно власть инициирует реформы – а инициатив с мест как не было, так и нет!..
– Под терминами «модернизация» и «оптимизация» обычно скрывается тривиальный процесс сокращения кадров! – дрогнув голосом, громко сказал Костёрыч.
Шум голосов заполнил зал, словно зал зарос звуковым кустарником. Шкиляева поднялась с места, развернулась лицом к педагогам и застыла. От её ледяного взора гам потихоньку пригибался, пригибался и наконец улёгся совсем, как трава, побитая заморозком. Моржов посучил ногами и немного сполз вниз по стулу. Со стороны казалось, что он уменьшился в росте. Роза изумлённо покосилась на Моржова, но промолчала.
– Неправильно понимаете! – возразил Костёрычу Манжетов. – Департамент не собирается закрывать кружки в принудительном порядке. Но сертификация позволит определить нерентабельные структуры. Эти структуры мы будем переводить на базу школ. Подчёркиваю: никого увольнять не будут, сокращения не будет. Но невостребованные кружки, в которых занимаются по три-пять человек, и это и есть оптимизация образования, пусть переходят в школы, где для них подберут подходящее время и помещения. Надеюсь, никто не будет спорить, что, например, компьютерная грамотность в наше время важнее навыков кройки и шитья у трёх-пяти девочек. Не обижайтесь, коллеги. Решение жёсткое, но всё в ваших руках.
– А как вы собираетесь отслеживать процесс, если весь контроль будет только за сертификатами? – не унялся Костёрыч.
– Через методическую службу. Методисты нашего департамента за лето подготовят новые требования к программам работы кружков, чтобы кружки были действительно инструментом дополнительного образования, а не посиделками с чаепитием…
Розка посмотрела на Моржова, который почти лежал спиной на сиденье стула, и шёпотом спросила:
– Моржов, ты куда полез?
– Курить хочу, – тихо ответил Моржов.
– Во главе угла должно стоять сбережение поколения, а не хобби педагогов или нежелание что-либо менять! – античным трибуном гремел Манжетов. – Извините, что говорю резко, но я верю в вашу гражданскую совесть!
Моржов встал на четвереньки и пополз к выходу из зала. Роза в ужасе прикрыла глаза ладонью. Педагоги смотрели на Манжетова, разгорячённого пафосом, а Манжетов не видел Моржова за спинками стульев. Моржов юркнул из зала в вестибюль.
Вестибюль был пуст, если не считать молоденькой пухлой девушки, которая рассматривала на стенах детские рисунки. Девушка оглянулась на стук моржовских коленей и эротично приоткрыла рот. Моржов поднялся, отряхивая штаны.
– Это нервное, – пояснил он девушке.
Моржов подвинул ногой кирпич, который держал дверь открытой, высек зажигалкой огонь и закурил. Дом пионеров размещался в бывшем особняке бывшего купца Забиякина. Костёрыч как-то рассказывал Моржову, что купец Забиякин за свой счёт замостил набережную реки Талки вдоль Водорезной улицы под Семиколоколенной горой, и городской магистрат дозволил купцу поставить здесь дом. Забиякин втиснул особняк на склоне, отступив от линии застройки, а от роскошного портика скатил к Водорезной улице парадную лестницу с гипсовыми вазонами. Теперь эту лестницу поперёк пересекал забор из сетки-рабицы, интеллигентно выкрашенный в зелёный цвет. Площадку перекрывали лёгкие сварные воротца, всегда запертые на амбарный замок, да ещё и петли их были обмотаны ржавой цепью.
Через главный вход в Дом пионеров никто не ходил. Кому охота спускаться с горы по Кремлёвскому спуску, топать по Водорезной улице вдоль длинного ряда гаражей городской пожарки и подниматься обратно по лестнице? В Дом пионеров все ходили с бульвара Конармии, где очень удачно сохранились кирпично-кудрявые ворота Георгиевской часовни. В этой часовне был фамильный склеп Забиякиных. После революции склеп то ли выкопали, то ли закопали, а часовню снесли нафиг. Тропинку от её ворот до заднего входа в Дом пионеров заасфальтировали, и всё получилось так, будто сам Забиякин распланировал это ещё в позапрошлом веке.
Бульвар Конармии поднимался по круче Семиколоколенной горы, отделённый от склона чугунной оградой. Склон был укреплён стеной из тёмного дикого камня, и кружева ограды оторочили её гребень. Между бульваром и задним фасадом Дома пионеров образовалась яма, замкнутая глухим брандмауэром пожарных гаражей – некогда каретным двором Забиякина. В этой яме, всегда тенистой и какой-то интимной, купец насадил парк и воздвиг ротонду. Завистливое предание, излагаемое Костёрычем, гласило, что здесь Забиякин розгами учил уму-разуму дворовых девок. Это обстоятельство всегда подвигало молодых сотрудниц Дома пионеров на некие педагогические размышления, которые сопровождались натянутыми улыбками. Но ротонды давно уже не было, а парк из юного стал старым, и его кроны из-за ограды вздыбились над бульваром Конармии выше всех светофоров.
С задней стороны особняка Забиякина тоже имелся портик, но поскромнее – двухколонный. Вдоль всего здания тянулась открытая галерея с балюстрадой. Невысокое утреннее солнце переливалось за листвой огромных тополей. Сквозь тополиный шелест с бульвара доносился стук женских каблучков, фырканье пролетавших машин, клокотанье изношенного автобусного движка на тяжёлом подъёме. Моржов облокотился на балюстраду, покрытую старческими пятнами птичьего помёта. За его спиной над дверями блестело косноязычием стекло торжественной вывески: «Муниципальное учреждение дополнительного образования “Родник” города Ковязин». Тополя качались под ветерком с Талки, солнце мерцало за светофорами, и в глубине алого стекла колыхались причудливые зелёные блики.
Моржов безмолвно гордился, что в одиночку раскрыл тайну забиякинского поместья, хотя и не был краеведом, как Костёрыч. Моржов понял, что коварный сладострастник Забиякин отомстил новым хозяевам жизни. Название этой мести Моржов сократил до ПНН: Проклятие Неискоренимой Непристойности. Моржов в этом парке сумел вычитать краткий и беспощадный смысловой ряд ПНН: уединение, наказуемые девки, бульвар, задний вход… Моржов сначала не поверил своей проницательности, но отвернулся – и взгляд его ударил в красную от стыда табличку, на которой знамённым золотом пылала скрытая аббревиатура: «МУДО».
Моржов щурился от солнечных вспышек и от наслаждения. Его не смущало то, от чего Костёрыч тихо бы содрогнулся. Месть Забиякина вызывала в Моржове злорадное удовлетворение, словно бы Шкиляева на педсовете читала мораль о ценностных установках современного педагога, а в стопку методичек на её столе по недосмотру затесался бы «Плейбой»… МУДО – оно и есть МУДО, размышлял Моржов, и нечего тут деликатничать. Что там за тёрки у Шкиляевой с Манжетовым? Что за словесный блуд? Значит, опять решили что-нибудь продать.
Моржов сдвинулся по галерее к углу здания и опустил взгляд. С марта всё осталось по-прежнему… Этот угол он брал для своей левой пластины из серии «Городские углы». Выкрошенный руст фундамента, рыхлая жёлтая штукатурка стены, исцарапанный, но всё равно по-женски соблазнительный точёный изгиб балясины, тупой брус перил, а сбоку прислонён разбухший от сырости дощатый поддон, и всё это наискосок перечёркнуто безвольной мятой нитью телефонного провода-воздушки, что свесился с крыши… Из-под угла отчаянно топорщился куст – словно завопил от боли, когда его прищемило зданием. Во всей этой фактуре была такая энергетика, такая прочность временного, нелепого, халтурного и случайного…
Моржов тихонько поднял взгляд. С этого места он обнаружил ещё один секрет ПНН, нагипнотизированный купцом Забиякиным. Тополя парка были посажены так, что от края галерейки наискосок к подпорной стене протянулась узенькая аллея. Эдакое зелёное ущелье меж изогнутых тополиных ветвей. Взгляд, разгоняясь, скользил вдоль неё и сквозь чугунное кружево ограды бульвара снизу попадал под юбки студенток, которые шли вверх по бульвару к педтехникуму. Тёплый ветерок с Талки развевал юбчонки, и студентки хлопали себя по бёдрам, по задам, сдувая подолы, как воздушные шарики. Забиякинское воспитание дворовых девок лукавым эхом отзывалось в заполошных шлепках ничего не подозревающих студенток. Увидел бы Манжетов этот неистребимый архетип педагогики – может, и не полез бы со своими инновациями, модернизациями, оптимизациями…
Впрочем, разве педагогика была нужна Манжетову? То, что требовалось Манжетову, то, что торжествовало в этом мире, Моржов без смущения считал просто ДП – Дешёвым Порно. Ведь что есть Дешёвое Порно? Это публичная и профессиональная долбёжка друг друга за небольшие деньги, но с удовольствием, к тому же без любви, без артистизма и даже без декораций. Поэтому ПНН, проклятие купца Забиякина, правильнее было бы называть ДП(ПНН). ДП по отношению к простому ПНН было неким ленинизмом по отношению к марксизму.
(Моржов любил для простоты запоминания важные вещи аббревиатурить. Эти аббревиатуры были его личной иконографией, а в любой иконографии зашифрована система мира.)
Моржов длинно сплюнул. Не хотелось думать про Манжетова. Ноги потные ему в рот, дохлых чертей ему три кадушки. Вот плюнуть бы так же на всю мораль, на весь формализм и посвятить высокое искусство закрашивания пластин единственной теме, которая всегда и для всех интересна: теме тёплого ветра, который внезапно раздул на девушке юбку.
Нет, это не похабно – разве может быть похабен ветер? Это сердечно, мило и с любовью к процессу – потому что результата нет. Какой здесь может быть результат?.. В живописи это было бы так увлекательно: круглые ляжки – по-весеннему ещё незагорелые, телесно-свежие; прозрачная тень подола; ткань, пронизанная солнцем; перетекание нюансов, рефлексов, оттенков мягкого цвета и света; изгиб форм, мгновенность ракурса, быстротечность перелива; зыбкость и трепетность проницаемой драпировки…
А-а!.. Моржов старчески закряхтел и щёлкнул с пальца окурок куда-то подальше за поддон. Не выйдет. Ничего не выйдет. И дело не в морали. Что есть его пластины? Не пейзаж, не интерьер, не натюрморт. Он выбросил из пластин объём. Просто вывел его за скобки изображения. Он писал только поверхность реальных вещей. Не фактуру, в которой всегда заложена её история, а значит – судьба. Не энергетику вещей и их пространственное сопряжение. Он затруднялся сформулировать, что же он делал. Вот, к примеру, взять арабскую вязь. Он не знает ни слова и ни буквы по-арабски. Он даже не помнит, как арабы пишут – то ли справа налево, то ли сверху вниз, то ли снаружи внутрь… Но он может нарисовать строчку, неотличимую от подлинной арабской вязи. Для араба эта строчка будет абсурдом, а для зрителя, не знающего арабского, – она будет арабской вязью. Стилизация без причины и содержания. Речь инопланетянина. Ёмкость для смысла, но не сам смысл.
Моржов на своих пластинах изображал поверхности, но не абстрактные, а реальные. С закрашиванием пластин его жизнь обретала редкостное удовольствие, потому что стала сплошным захватывающим поиском подходящих стыков бытия. И Моржов не числил свои пластины ни по разряду реализма, ни по разряду концептуального искусства. Ну их к бесу, эти разряды. Он делает просто декор – декор для стиля хай-тек. Он изначально нацеливался на хай-тек больше – в него и попал. Ему рассказали, что со «Староарбатской биеннале» его пластины уехали в какие-то компьютерные офисы и промышленные рекреации. Все его проданные циклы до единого – и «Городские углы», и «Рельсы и шпалы», и «Изгибы», и «Еловые стволы». А вот салоны, музеи и частные коллекционеры интереса к пластинам не проявили. Ну что ж, правильно. Не для них и делалось. Рукотворная и жеманная среда художественно организованного микрокосма отвергала Моржова, а техногенные и функциональные площади хай-тека прямо-таки намагничивали пластины на себя.
Но ПНН, проклятие купца Забиякина, действовало и на Моржова, хотя вовсе не Моржов экспроприировал забиякинскую усадьбу. Разве это пристойно художнику: не мочь нарисовать то, что хочется? А пластины как жанр не годились для цикла «Ветер и юбки». Изображать девчоночьи попки плоскостями, без объёма, – это извращение. На это были способны лишь накокаиненные французы, погрязшие в бытовой телесности. Моржов же был закодирован, к тому же судьба, забрасывая его, промахнулась на сто лет. И пресыщение бытовой телесностью без денег, квартиры, среды (и собственно носителей бытовой телесности) в городе Ковязине стояло под вопросом. Ладно хоть, что времена изменились и за потуги пожить на виртуальных Елисейских Полях уже не грозили реальными Енисейскими.
Да и вообще… Объём – это всегда смысл. Органично писать со смыслом и без объёма умели только древнерусские иконописцы. Так что пластины Моржова в некотором роде были антииконами. Моржов не хотел никакого смысла. Только поверхность. Только поверхность. Глубины не надо. В глубине и больно, и стыдно – и непристойно. У Костёрыча, к примеру, была большая совесть, чтобы читать глубину. Он сидел в архиве, листая папки с расстрельными делами бывшего повара купца Забиякина, бывшего конюха купца Забиякина, бывшей экономки купца Забиякина, читал весь этот ужас, выныривал обратно в МУДО и здесь учил детей плаванью в глубинах. А Моржов туда, в глубину, не хотел – ему это было как провалиться в воду под лёд. Но без глубины цикл «Ветер и юбки» не нарисуешь, потому что в городе Ковязине женщины оголяются ради воды, а не ради живописи.
И было ещё одно безрадостное соображение. Оно заключалось в другом смысловом ряду: попка – это юбка; юбка – это купол; купол – это небо. Что же оказывается в сакральном зените?.. Может, с точки зрения повсеместных устремлений так оно и есть, сколько бы Шкиляева не долдонила про целевые установки педагога, но данный кластер потребностей обслуживало другое искусство. Оно распространялось в разном виде – от гламурного глянца до заезженной видеокассеты. И в этом лучезарном спектре цикл «Ветер и юбки» выглядел бы очень и очень пошло. А пошлости Моржов боялся больше всего на свете.
За дверями вдруг послышался гомон голосов, стук стульев – это закончился педсовет. Моржов оглянулся. Толпа педагогов повалила на выход. Из толпы плечом вперёд выдвинулся Щёкин. Он держал руки в карманах, а губами жевал незажжённую сигарету.
– Полфунта огня! – сумрачно потребовал он у Моржова, наваливаясь боком на балюстраду. – Срочно!
Прикурив, он сосредоточенно выпустил дым, вдруг вынул изо рта сигарету, свесился за перила и длинно, смачно сплюнул в газон, словно его на педсовете вытошнило.
– Знаешь анекдот про жадную слепую девочку? – спросил он, не поворачиваясь к Моржову.
– Не знаю, – сказал Моржов.
Щёкин саркастически усмехнулся, глядя на парк.
– Лето, блин!.. – с ненавистью произнёс он. – Ждёшь его, ждёшь, а на хрена, спрашивается? Чем лучше-то? Жара – шары вылезают. Комарьё кругом. А вчера купаться на Талку пошёл на пляж за водозабором – так холод сучий. В брюхе всё так и сжалось, аж трусы в зад всосало…
Моржов уже давно привык к апокалиптическому мировоззрению Щёкина.
– Ладно – жара, – Щёкин почесал поясницу, – так ещё и по улице не пройти… Зимой смотришь: любо-дорого! Все, блин, в ватниках, в валенках, глаза стеклянные, сопли к нижней губе примёрзли. А летом девки точно вытаяли. Ходят как голые. Выкатят всё что есть, и шпарят, будто так и положено. Куда отвернуться – и не угадаешь. На каждой секса по семь кило. На хрена в таком виде в общественном месте появляться? Люди же волнуются! Куда менты смотрят? Если мужиков полупьяных забирают в трезвяк, пусть тогда и баб полуголых забирают в публичный дом! Требую поправок в Административный кодекс! О чём наша Дума думает? Только даром народную кровь пьёт!
– Всё у тебя какие-то конские решения, – заметил Моржов.
– А ты чего другое предложишь? – ощетинился Щёкин. – Они зачем так одеваются? Чтобы их все хотели? Я хочу! Почему тогда не дают?
– Потому что у тебя денег мало.
– Они и с деньгами не дадут, – Щёкин горько вздохнул. – К тому же на мне что, написано, что ли, что у меня пистолей нет, как у д’Артаньяна?
– Написано, – подтвердил Моржов.
Щёкин презрительно скривился.
– Ой, я тебя умоляю!.. – простонал он. – Ни на ком ничего не написано, что за дресс-код да фейс-контроль, честное слово! Ты как приподнялся, так сразу таким москвидоном стал – тьфу! – Щёкин снова плюнул в газон. – Заведи себе костюм с галстуком и ходи, как молодой менеджер! Открой офис, купи ноутбук, возьми кредит на десять тысяч, запишись в фитнес-клуб, завтракай мандарином. Кто чего спросит тебя – говори всем, что очень занят и сможешь подъехать только полвосьмого!
– Ты чего сегодня такой злой? – не выдержал Моржов.
– А чего радоваться? Шкиляиха меня с июня в отпуск не отпустила!
– Ну, сходишь в поход со своими упырями.
– Куда, блин, в поход!.. Поход она мне ещё в апреле запретила! Говорит, департамент потребовал, чтобы у всех детей была прививка от этого долбанного прыщевого энцефалита. Что, раньше-то не могли сказать? Прививку осенью положено ставить, а весной её только повторяют!.. Да мои упыри и не пошли бы в больницу.
– Почему? – удивился Моржов. – Цапнет клещ – мозги же зависнут…
– Ну и кто заметит? – Щёкин от презренья дёрнул плечами. – Обломился поход!.. А чего, Шкиляихе-то проще, меньше геморроя – и всё. Я и думал: поеду, блин, в июне в Нижнее-Задолгое, буду бухать весь отпуск.
– Это что за Нижнее-Задолгое?
– Деревня. Вообще где-то за краем географии. Местные – одни космонавты. Раз в неделю автолавка приезжает, привозит стеклоочиститель. Вся деревня сразу в космос стартует. В Нижнем-Задолгом у Светки бабка жила, померла в прошлом году. От неё хибара на берегу Талки осталась.
– А Светка с Михаилом?
– Михаила я бы взял, а Светка мне там нафиг нужна? Ей и здесь хорошо. У неё гости через день.
– Какие гости?
– Инопланетяне, – сказал Щёкин. – Приземляются на своих аппаратах ей прямо в голову. Я с ней уже неделю не разговариваю – она с инопланетянами общается. Нашла у меня на воротнике рубахи какой-то длинный волос, схватила его, положила на подоконник. Я с упырями задержусь – она меня прямо на пороге этим волосом по лбу бьёт: «Опять у любовницы пропадал?» Какая, блин, на хрен, любовница?! Мне вообще никто не давал!..
– Никогда? – спросил Моржов.
– Никогда, – согласился Щёкин. – Я рыцарь без траха и порока.
Моржов тяжело вздохнул и снова закурил.
– Щекандер, прекрати разлагаться, – с чувством сказал он. – Ты почему такой пессимист?
– Я не пессимист, я реалист, – злобно ответил Щёкин.
– Нет, ты пессимист.
Щёкин немного подумал и так же злобно ответил:
– Пессимист и реалист – это одно и то же.
Моржов в бессилии возвёл глаза к солнечному небу и помолчал, словно прочитал в уме молитву.
– Ты анекдот хотел рассказать про жадную слепую девочку, – напомнил он Щёкину.
– Да он не смешной, – буркнул Щёкин, совсем упавший духом. – Пошли лучше пожрём куда-нибудь…
– Погоди – докурю. – Моржов показал ему сигарету.
– Ну, докуривай быстрее! Работай щеками-то!
Заложив руки за спину, Моржов задумчиво ходил вдоль витрин и стендов своего выставочного зала, раздумывая о новой концепции экспозиции. Перемены потребовала Шкиляева. До мая действовала выставка «Люби родной край». В мае Шкиляева где-то узнала, что нынешний год, оказывается, объявлен ЮНЕСКО Годом гор (может, конечно, и не ЮНЕСКО, а ООН, или ФИДЕ, или вообще какими-нибудь Тиграми освобождения Тамил Илам). Моржов тотчас получил директиву: переоборудовать экспозицию под тему «Год гор».
На витринах и стендах демонстрировались произведения детского творчества: вышивки, меховые игрушки, поделки из природного материала, модели, макеты, разные там икебаны-оригами-макраме. То, что было поуродливее, действительно сделали дети. Но Шкиляева требовала выставлять только красивое, поэтому самые уродливые поделки лежали в подсобке в шкафу, за стенкой которого Моржов хранил свои пластины, а на витринах присутствовали в основном изделия педагогов.
Костёрыч сидел у раскрытого окна и курил душераздирающую сигарету «Прима», стряхивая пепел в консервную банку на подоконнике. Костёрыч никогда не пользовался более приличными сигаретами Моржова. «Не стоит привыкать, Борис Данилович», – виновато пояснял он Моржову, отказываясь от протянутой пачки.
Моржов присел на корточки перед массивной тумбой, разглядывая подробный и дотошный макет Спасского собора. Макет был сотворён краеведческим кружком Костёрыча.
– Константин Егорыч, каких детей написать на этикетку в авторы? – спросил Моржов и вытащил из заднего кармана брюк маленький, как у официантки, блокнот.
Костёрыч мягко улыбнулся.
– Вы же всех моих мальчишек знаете, – сказал он. – Всех шестерых и пишите.
– А у Женьки как фамилия?
– Сачков.
– А разве Вадик Пинягин трудился над макетом? Он же в больнице полгода лежал.
– Ну и что. Пишите-пишите. Он не обидится.
– Так перед другими нечестно. Другие обидятся.
– Эх, Борис Данилович, не работали вы с детьми, – вздохнул Костёрыч. – Это для вас этикетка – фиксация авторства. А для них эти подписи – словно бы свидетельство того, что этот макет подарили именно им. Дети не видят особенной разницы между производством и обладанием. Чего они сами сделали – тем, значит, и владеют. И от подарков отказываться не умеют. Можете написать на этикетке хоть всех шестиклассников Ковязина – никто из них не возразит.
Моржов хмыкнул, покосившись на Костёрыча. Костёрыч, улыбаясь, ввинтил окурок в банку. «Почему мужчина, попадающий в школу учителем, сразу отращивает бороду и начинает носить свитер вместо пиджака?» – подумал Моржов, разглядывая Костёрыча. В марте в МУДО награждали победителей конкурса «Учитель года». Среди победителей было три мужика – словно три Костёрыча: все с бородами, в очках и в свитерах.
– А если дети считают макет своим, они не хотят забрать его себе? – спросил Моржов.
– Хотят, – подтвердил Костёрыч. – Но в их возрасте уже появляется тщеславие. И для них большее удовольствие заключается в том, что все другие видят, какой игрушкой они владеют. Поэтому поделки и остаются в кружках.
– Я думал, профессия галериста сродни просветителю, – ухмыльнулся Моржов, – а оказывается – пиарщику.
– Натура человеческая эгоистична насквозь, – кивнул Костёрыч. – Особенно – детская. И наше дело – облагораживать и развивать, а не уродовать и отсекать. Кстати, Борис Данилович, у макета трактора надо сменить этикетку. Трактор у меня другая группа делала, старшая: Васенины Серёжа и Саша и Андрюша Телегин. Это Роза Дамировна перепутала авторов.
Моржов внёс в блокнот бисерную запись.
– А прежние владельцы не рассердятся? – ехидно спросил он. – Получается, вы их подарок другим передариваете.
Костёрыч засмеялся так, что его борода растопырилась веером.
– Ничего-ничего, – заверил он. – Играть с трактором им всё равно не приходится, так что жадничать они не станут. Я им скажу, что это – настоящий бескорыстный поступок, они ещё гордиться будут.
– Какая-то у вас двуличность воспитания, – провокационно заметил Моржов.
– Это просто игра, Борис Данилович! – тотчас обиделся Костёрыч. – Все эти взрослые выставки – для детей игра! У неё для взрослых одни правила, для детей – другие!
– «Дети и собаки кушают отдельно», – процитировал Моржов старое застольное правило.
– Двуличие – это когда я поправляю детские поделки, потому что Галине Николаевне они кажутся недостаточно мастерскими, – добавил Костёрыч. – Но так подходить нельзя. У детей – всё творчество, даже огород, раскопанный под картошку.
Моржов взял стул, поставил его посреди зала, сел и скрестил руки на груди, вдумчиво оглядывая экспозицию. Как «Люби родной край» переделать в «Год гор»?
Половину экспозиции составляли поделки краеведческого кружка Костёрыча. Моржов реально представлял, сколько труда, времени и кропотливости Костёрыча ушло на все эти макеты храмов и пароходов, на гербарии, коллекции окаменелостей, ржавых амбарных замков, угольных утюгов и расписных прялок. Сколько денег потратил Костёрыч на поездки с детьми по деревням и лесам окрестностей Ковязина. Сколько денег Костёрыч угрохал на клей, картон, краску…
Костёрыч снова закурил, глядя в раскрытое окошко. Выставочный зал помещался в угловой и самой возвышенной части здания. Окна смотрели поверх поворота Водорезной улицы, поверх искрящейся Талки, поверх шиферных крыш заречного района. Отсюда открывался вид на весь среднерусский окоём, что от бетонных башен дальнего элеватора разъехался полями и перелесками сразу вглубь и во все стороны света.
Благодаря любопытству Розки Моржов знал весь несложный жизненный путь Костёрыча: детство в Ковязине, школа, областной пединститут, Дом пионеров, Дом пионеров, Дом пионеров, а затем – МУДО, МУДО, МУДО. Вот и всё. У Костёрыча от первой жены был сын, примерно ровесник Моржова. Сына звали Роман. Первая жена ушла от Костёрыча по причине его полной житейской бесперспективности. Сын Роман Костёрыча презирал. Сейчас он жил где-то в областном центре и процветал на стезе какой-то дистрибуции. Вторую жену Костёрыча Моржов видел несколько раз. Это была маленькая и тихая женщина с красивым и усталым лицом. Она работала в Сбербанке важной начальницей, получала раз в десять больше Костёрыча и, по существу, содержала Костёрыча, его кружок в МУДО и всё краеведение города Ковязина. Моржов не мог понять: то ли жена безумно жалела Костёрыча, то ли боготворила его. Детей у них не было.
Моржов никогда не пытался представить Костёрыча с его женой так, как он во время педсовета моментально представил Манжетова с Миленой Чунжиной. В Костёрыче было какое-то безусловное право на тайну, на уединение, на интимность его отношений с женщиной. У Костёрыча эти отношения так же органично требовали своего отделения от повседневной жизни, как у купца Забиякина – публичности.
Здесь, в выставочном зале, у Забиякина была спальня. Главное помещение его особняка. Городской магистрат крепко пожалел, что разрешил Забиякину вымостить набережную Талки, потому что участок Водорезной улицы в пределах слышимости от забиякинского особняка стал запретен для барышень, гимназистов и воспитанников ремесленного училища. Здесь невинный юношеский слух в любой момент мог быть уязвлён страстным кошачьим воплем, что исторгали наложницы Забиякина.
Впрочем, изнутри, из спальни, всё выглядело не столь уж дико. Конечно, Забиякин был развратником. Но в его сладострастии не было подлости, низости и похабства. Видимо, поэтому Забиякин и не прятался от города, а свою спальню поместил в той части здания, которая наиболее заметна с улицы. Спальня была щедро освещена окнами (которые весьма сокращали экспозиционную площадь выставочного зала). Забиякинский приют греха разительно отличался от тех приютов, куда заносило Моржова, – от сумрачных и тесных полуподвальных саун ковязинского района под названием Багдад.
В спальне Забиякина было светло и просторно. Летом окна стояли настежь – как сейчас. Мирные среднерусские окоёмы окружали спальню, как море окружает яхту. И всё, что Забиякин творил на этой яхте, словно бы включалось в контекст пространства и становилось естественным. Окоём реабилитировал Забиякина, и нелепо было упрекать могучего купца развратом. Вокруг его города русалочьей косой обвилась Талка, а треугольники полей за волнующимися рощами были как девичья нагота за отдутым купальным полотенцем. Покатые холмы Колымагиных гор со всеми складками своих потаённых лощин, сейчас открытых солнцу, лежали как обессиленная любовница, забывшая о стыде. Раздутые облака громоздились над миром наплывом женственных изгибов, напряжённых от страсти до горячего сферического сияния.
Костёрыч рассказывал, что для наиболее одарённых красавиц Забиякин вызывал из губернии живописца, и тот запечатлевал разнеженных дев среди сугробов шёлковых постелей. Эти полотна украшали стены спальни. После революции чекисты прикладами сбили с карнизов круглозадых гипсовых амуров и пышногрудых нимф, а картины растащили по своим квартирам – возможно, вместе с девами. Стены завесили лозунгами и плакатами. В некотором смысле это тоже была смена экспозиции. Моржов встал со стула и прошёлся вдоль витрин.
– Константин Егорыч, какое отношение к горам может иметь этот аэроплан? – спросил Моржов и качнул рукой растопыренную кордовую модель самолёта, висевшую на лесках.
– Аэроплан?.. – задумчиво переспросил Костёрыч. – Н-ну… У нас в тридцатых годах на Чуланской горе, ближе к лесу, был учебный аэродром Осоавиахима.
– Пойдёт, – согласился Моржов и внёс информацию в блокнотик.
На заре своей псевдотрудовой деятельности в Доме пионеров Моржов думал, что смена экспозиции выставочного зала – это, собственно, и есть смена экспозиции. Точно так же, как поделки детей – это то, что дети сделали своими руками. Потом ситуация прояснилась. После первой же своей смены экспозиции Моржов получил от Шкиляевой такой разнос, что по инерции чуть не улетел с работы за профнепригодность. Шкиляева велела восстановить всё что было и вернуть на витрины и стенды красивые поделки, а ту мазню, стряпню и фигню, что выставил Моржов, раздать обратно педагогам для доведения до товарного вида. Моржов не стал спорить, потому что спорить не любил, да и вообще он не затем затесался в МУДО. И вскоре Моржов уже овладел философией процесса смены экспозиции.
– А Спасский собор к Году гор как можно присоседить?
Костёрыч посмотрел на Моржова с мягким укором.
– Он же на Семиколоколенной горе стоит…
Процесс смены экспозиции в МУДО шёл в три этапа. Первый этап – какая-нибудь новость, ошарашившая Шкиляеву. Например, тысячелетие переселения адвентистов в Урарту. Узнав новость, Шкиляева с оттягом секла Розку за ротозейство; Розка же поспешно скачивала из Интернета подходящую статью из «Вокруг света» и сообщала Моржову название новой выставки. Второй этап – перестановка экспонатов. Моржов перевешивал модель аэроплана из правого переднего угла в левый задний; собрание расписных прялок перетаскивал к другой стене; стенд с вышитыми картинками на тему русских народных сказок переносил к окну; тумбу с макетом Спасского собора выволакивал на середину зала. Третьим этапом был творческий совет с Костёрычем. Костёрыч придумывал, какое отношение может иметь тот или иной макет к событию, увековечиваемому Шкиляевой посредством новой выставки. Например, пластилиновый тираннозавр – к юбилею Пушкина. Затем Моржов на принтере распечатывал новые этикетки для экспонатов, и экспозиция торжественно открывалась при непременном участии одного и того же репортёра городского радио с диктофоном, обмотанным изолентой.
Моржов внимательно разглядывал большой и дробно-тщательный макет морского сухогруза.
– Константин Егорыч, а пароход как можно пристегнуть к горам? – спросил он.
– Вы невнимательны, Борис Данилович, – улыбнулся Костёрыч. – Посмотрите на название.
Моржов присел, прочёл название сухогруза: «Пятигорск» – и в досаде шлёпнул себя по лбу.
Хлопнула отшибленная дверь, и в зал длинными спортивными шагами вбежал настольный теннисист Каравайский. Через плечо назад он кричал кому-то в вестибюль:
– Да идиотизм всё это! Зачем нужно?..
Моржов усмехнулся, достал и выставил пачку сигарет. Каравайский, пробегая мимо, выхватил сигарету, долетел до Костёрыча и обрушился на стул.
– Чем бабы думают, а? – вставив сигарету, сквозь зубы спросил он и потянулся прикурить к сигарете в бороде Костёрыча – словно решил поцеловаться с Костёрычем. Возбуждённо затянувшись, он вдруг оглянулся и снова крикнул в раскрытую дверь:
– И не пойду я никуда!..
Костёрыч привычно закрыл глаза. Каравайский, всё ещё глядя на дверь, злобно выдул дым углом рта – прямо в лицо Костёрычу.
– Маразм! – яростно заявил он. – Какие сертификаты? У меня сотня детей, мне их разместить негде, а они с сертификатами!..
В МУДО Каравайский считался главным резонёром. Он орал на всех педсоветах, особенно в присутствии начальства, а Шкиляева потакала ему, чтобы он не драл глотку. Вот и допотакалась. У Каравайского и так уже были две с половиной ставки, но он хотел ещё. И он бы потянул ещё, потому что в своих кружках, не мудрствуя, ввёл армейский принцип: с оравами младших детей занимались старшие дети, а сам Каравайский гонял шарик только с наиболее преданными воспитанниками – или с кандидатами в чемпионы.
Каравайский со стахановским упорством шёл к максимальному увеличению своей зарплаты путём поголовного и принудительного привлечения всех школьников города к занятию настольным теннисом. Остановить Каравайского Шкиляева не могла. Конечно, лично Каравайскому она не дала бы десять ставок, но Каравайский был многодетным отцом, и он оформил бы на ставки всех своих наследников. Предел распространению настольного тенниса в Ковязине могла положить лишь неумолимая объективная причина. Например, отсутствие помещений. Все прочие доводы Шкиляевой Каравайский вдребезги разбивал кубками, которые его воспитанники привозили с разных концов мира от Сыктывкара до Мадагаскара.
– Я знаю, для чего всё это! – Каравайский нервно забарабанил пальцами по подоконнику. – Они нас выжить хотят! Закрыть! Повод ищут! Внедрят сертификаты – и будет видно, что в кружки приходят только по пять-десять человек вместо двадцати-тридцати по спискам!
Костёрыч согласно кивнул. У него-то как раз и занималось по пять-десять человек. Кому нужно краеведение? В Ковязине были востребованы только бокс, футбол и айкидо.
– Может, это и правильно? – задумчиво спросил Костёрыч. – Ведь действительно, наше дополнительное образование – это способ заработка на хобби… И люди здесь – не от педагогики…
– А от чего ещё? – вскинулся Каравайский.
– От токарного станка, – лукаво напомнил Моржов слова Манжетова.
Каравайский закипел. Среди педагогов МУДО он был, пожалуй, единственным, кто пришёл сюда именно от станка. Причём, кажется, как раз от токарного.
Жизненный путь Каравайского был чуть сложнее, чем у Костёрыча: школа, ПТУ, армия, завод, завод, завод… Но в обеденные перерывы – пинг-понг. Сначала Каравайский победил свою бригаду, потом – цех, потом – вообще всех, кто нашёлся. Потом в заводском Доме культуры ему предложили вести секцию настольного тенниса. Каравайский согласился – ему нужны были шабашки, чтобы кормить своё семейство. Потом шабашки стали приносить больший доход, чем работа, и Каравайский уволился с завода. А потом началась новая эпоха, и тонущий завод сбросил балласт социалки – то есть Дом культуры. В Дом культуры въехал автосалон. Каравайский катапультировался в МУДО и переключился на детей.
– А какая педагогика тебе нужна? – Каравайский развернулся на Моржова. Костёрыч закрыл глаза, и Каравайский углом рта выдул ему в лицо сигаретный дым. – Мало ли кто откуда происходит! Да хоть с Марса! Главное – результат! Моя Наташка Ландышева – бронзовый призёр России: это плохая педагогика, да? Тот хмырь из департамента сам же говорил, что у нас больше всего педагогов высшей категории!
– И кто эти педагоги? – спросил Костёрыч. – Директор, завучи, половина методистов… Из тех, кто реально работает с детьми, а не с бумажками, только вы да я.
– Но по ведомости они есть? Есть! – сказал Моржов. – Значит, всё нормально.
– Правильно, Борька! – согласился Каравайский.
– А это уже обман и фикция, – печально ответил Костёрыч.
Каравайский вдруг вскочил и нырнул в окно, словно от стыда решил выброситься. Его поджарый, энергичный зад агрессивно дёрнулся, и с улицы донёсся крик:
– Вы чего там делаете? Днище прорвало, да? Ну-ка вали отсюда! Живо, я сказал!..
Каравайский приземлился обратно на стул:
– Пива надуются, и в наши кусты!.. – пробурчал он. – Алкаши!
– Действительно, наверное, мы социально не нужны, – задумчиво признал Костёрыч. – Не востребованы обществом. Александр Львович правильно говорил.
– Такое уже было в отечественной литературе, – возразил Моржов. – Гнилая интеллигентская рефлексия о сермяжной правде жизни. Ну, не нужны, и что из того? Щёкин, к примеру, желает никогда нигде не работать и за это получать очень много денег. Он желает жить на Ямайке, желает быть всё время пьяным, сидеть под пальмами в одних трусах в шезлонге, курить сигару, смотреть на океан, и чтобы его ублажали островитянки. Он говорит об этом прямо и честно. Но ведь всё равно работает – и любит свою работу.
– Дмитрий Александрович всегда предельно конкретен в формулировках, – улыбнулся Костёрыч.
– А кто работать будет, если все на море поедут? – гневно закричал Каравайский.
Костёрыч зажмурился, и Каравайский углом рта пыхнул на него дымом сигареты.
– Я это к тому, – аккуратно пояснил Моржов Каравайскому, – что никто не хочет вкалывать, и дети тоже не хотят. Они желают весь день играть на компьютере и чтоб каждый вечер по телеку показывали новую серию какой-нибудь ерунды. Так что же? Распустим школы, если детям учиться неохота? Кое-какие вещи нужно навязывать априори.
– Правильно! – Каравайский щёлкнул окурок в окно. – Думаешь, Константин Егорыч, дети у меня просто так теннисом увлеклись, да? Прочитали объявление на дверях у школы – и пришли? Как бы не так! Я каждый год полсентября по школам бегаю! Иду к физруку, говорю: проводим соревнование класса по настольному теннису! Все обязаны участвовать. А после этого кое-кто уже и приходит ко мне, и друзей приводит! Вот как увлекать-то надо. А одной моралью ничего не добьёшься. «Люби свой край», «Люби свой край» – да кто придёт-то? За шкирку надо!
– Нет уж, побережём шкирку для настольного тенниса, – негромко ответил Костёрыч.
– Потому и разгонят нас, что не хотите детей за шкирку волочить! – заявил Каравайский. – Вон бабы наши зубами за свои стулья держатся! С них пример берите! Три года назад в Доме пионеров было восемьдесят педагогов, а все нынешние начальницы вели кружки вязанья на спицах. А сейчас педагогов осталось двадцать четыре, зато все бабы теперь уже с высшей категорией и в администрации! Это я понимаю! Поувольнялись те, кто зубами цепляться не умеет, а кто умеет – нормально живут.
– Это не для меня, – покачал головой Костёрыч. – Да ведь и не для вас, Михаил Петрович.
– Понятно, я в администрацию не полезу. Но у меня и так без проблем: детей навалом, категория есть! С какого хрена меня увольнять? Я ведь не за оклад, а за дело душой болею!
Моржов знал, что Каравайский действительно своё дело любит не меньше зарплаты. Успех Каравайского был в том, что его любовь к делу всегда равнялась зарплате, а беда Костёрыча – что для него эти вещи были принципиально несопоставимы.
– Да ведь я не о деньгах говорю, – поморщился Костёрыч. – Деньги – лишь способ вынудить нас, педагогов, уйти с работы, чтобы потом прикрыть учреждение. Это понятно. Я говорю о том, что всё равно мы плохие педагоги, а потому не востребованы… Только, Борис Данилович, не надо цитировать Ильфа и Петрова.
Сидя на стуле посреди зала, Моржов закинул ногу на ногу и закурил, стряхивая пепел на паркет.
– Может быть, вы и плохие педагоги, – согласился Моржов. – Я не вас лично имею в виду, Константин Егорыч, и не вас, Михал Петрович. Вообще – педагогов дополнительного образования. Да. Может быть, они – плохие. Но вряд ли в школе педагоги лучше.
– В школе, конечно, с образованием, зато у меня дело, которому я могу научить! – крикнул Каравайский. – И хорошо учу!
– А нужное ли это дело? – робко спросил Костёрыч.
– Настольный теннис?! – тотчас озверел Каравайский. – Настольный теннис развивает физически и умственно, реакция, гибкость, здоровый образ жизни, дух состязания, воля к победе!..
– Нет-нет, боже упаси! – испугался Костёрыч. – Я не про настольный теннис, не про него!.. Я вообще. Александр Львович верно ведь сказал: заработок на хобби. А хобби – это не жизнь. И оно у всех разное. У кого-то – нужное, как настольный теннис. А у кого-то – бесполезное, вроде филателии, например. Собирать марки или нет – личное дело каждого, но государство не обязано финансировать хобби.
– Пусть государство финансирует то, что важно обществу, – веско сказал Моржов, уверенный, что Костёрыч важен обществу, потому что лично ему он нравился.
– Знаете, почему некоторые направления становятся общественно значимыми? – спросил Костёрыч. – Потому что ими никто не занимается. Вот для примера… Общественно значимая работа – мусорщик. Если бы все жители города свои пакеты с мусором сразу на свалку выносили за шестой километр, то и мусорщик не был бы общественно значим.
– И к чему вы это? – не понял Моржов.
– К тому, что кружки общественно значимых направлений по умолчанию не будут иметь нужного количества детей. Априори, как вы говорите. Мы нерентабельны ни в финансовом, ни в духовном смысле. – Костёрыч словно чеканил свои безнадёжные выводы. – Есть определённый процент людей, бесполезных гуманитариев, «гуманитариев ни о чём», для которых в провинции единственное убежище – система дополнительного образования. Будь я краеведом в Москве, я бы нашёл себе место и без вытягивания денег из государства. Книги бы издавал про Москву, экскурсии бы водил, был бы научным сотрудником при музее или раритеты бы собирал для антикварного магазина… Но в Ковязине у меня одна ниша: Дом пионеров. Да, я занимаюсь нужным делом. Но стоимость его нужности ниже прожиточного минимума. Поэтому я веду кружок в МУДО. А МУДО, видимо, хотят закрыть, потому что здесь все такие же, как я.
Рабочий стол Шкиляевой был загромождён ворохом бумаг, проложенных копиркой, кипами методичек и папок, письменными приборами, дыроколами, телефонами. К шкиляевскому столу примыкал длинный стол для заседаний. Его лакированная пустота словно подчёркивала безделье сидевших. Моржов от скуки щёлкал зажигалкой, разглядывая огонёк. Каравайский, поставив свой стул вполоборота – словно ему требовалась взлётная полоса для немедленного старта, – нетерпеливо дёргал ляжкой. Костёрыч деликатно читал книгу, обёрнутую газетой. Милена Чунжина с отсутствующим видом смотрела в открытое окно, из которого прямо в кабинет всовывались ветки акации. Розка Идрисова играла в игрушку на сотовом телефоне. Щёкин нагло разглядывал вырез Розкиной блузки. В стороне, на углу стола, стеснительно притулилась полненькая девушка с древнерусской золотой косой. Эту девушку Моржов ещё не знал. Точнее, он её видел всего лишь второй раз в жизни. Первый раз был, когда она стояла в вестибюле МУДО, а Моржов на четвереньках выполз с педсовета.
По-хозяйски хлопнув дверью, в кабинет стремительно влетела Шкиляева. Она пронеслась за спиной Моржова, обдав густым запахом косметики, уселась на свой стул, схватила телефонную трубку и принялась тыкать пальцем в кнопки. Костёрыч вежливо закрыл книгу, Розка с сожалением спрятала телефон, а Каравайский перестал дёргать ляжкой и подался вперёд, собираясь орать.
– Елена Аркадьевна? – заговорила в трубку Шкиляева и остановила Каравайского, выставив растопыренную ладонь. – Это из «Родника»… Да. Да. Всё уже привезли… Да!.. А сколько?.. Только к четвергу… Нет, раньше нельзя. Хорошо, после двух.
Шкиляева положила трубку и обвела присутствующих таким взглядом, словно хотела сказать: «Ну что, голуби, доигрались?»
– Так, ситуация на лето у нас изменилась, – деловито пояснила она, не утруждая себя приветствием. – Я вас всех вот зачем вызвала… Уж не могу понять, Роза Дамировна, что там у вас с вашим Интернетом, только американцы откуда-то узнали о нашем лагере в Троельге и едут на смену!
От неожиданного известия все педагоги немного ошалели, даже Моржов. При чём здесь Интернет? Кому на смену едут американцы? И какие американцы вообще? Все, что ли?
– Простите, Галина Николаевна, вы о чём? – спросил Костёрыч.
– Поясняю! – негодуя на тупость, Шкиляева раздражённо захлопнула на столе какой-то раскрытый журнал. – Городской департамент образования нашу Троельгу прорекламировал! И какие-то американцы пожелали приехать. Целая группа. Всё уже!.. – Шкиляева развела руками. – Деньги они оплатили, перечисление прошло! Седьмого числа явятся!
– Ну и что? – не понял наивный Костёрыч.
– Как дети, удивляюсь вам, Константин Егорыч! – вспылила Шкиляева. – Вы что, не знаете, что Троельга уже пять лет как не работает? Мы её с баланса уже который год спихиваем, а город не берёт! Там уж развалилось всё, наверное. Роза Дамировна, как Троельга в Интернет попала?
– А я откуда знаю? – изумилась Розка. – Я-то про эту Троельгу в первый раз слышу!
– Ничего не понимаю… – обескураженно прошипела Шкиляева.
– Какие американцы?! – вдруг заорал Каравайский, наконец сообразивший, что к чему.
– Да вон, Софья Ивановна в курсе… – Шкиляева кивнула на русокосую девушку. – Это наш новый сотрудник. Опёнкина. После педучилища, да?
– У меня вместо диплома летняя практика у вас, – тихо сказала девушка, краснея.
Все педагоги повернулись на Софью Ивановну. Моржову девушка очень понравилась. Она была пухленькая и уютная, как альков. Моржов почувствовал, что Щёкин от симпатии к девушке даже увеличился в размерах.
– Что там такое случилось, Сонечка? – стараясь не напугать девушку, ласково спросил Костёрыч.
– На сайте районного департамента образования была реклама летних детских лагерей, – робко пояснила Соня. – Там и ваш лагерь был – Троельга. Какие-то американцы его выбрали. Прислали факс и уже оплатили одну смену для своей группы. Седьмого числа заезд. В департаменте не знали, что этот лагерь у вас закрыт… А меня сюда на лето работать направили. Если смогу, то осенью меня возьмут на ставку…
– Да в Троельге всё развалилось уже, наверное! – закричал Каравайский. – Я давно уже говорил, что надо оттуда столы теннисные вывезти, а мне «нет машины», «нет машины»!..
Соня опустила голову и съёжилась, будто ожидала, что её сейчас будут бить. Розка смотрела на Соню с какой-то плотоядной улыбкой, а Милена – с жалостью и снисхождением.
– Феличата!.. – едва слышно запел воодушевлённый Соней Щёкин и со значением покосился на Моржова. – Трататата-тата-та, тата-татата… Феличата!..
– Погоди петь, – шепнул Щёкину Моржов. – Сейчас Шкиляиха какую-нибудь блуду пообещает.
– А что, Галина Николаевна, нельзя написать иностранцам, что с лагерем вышла ошибка, и деньги обратно им перечислить? – рассудительно спросил Костёрыч.
Шкиляева потеряла дар речи и только всплеснула руками.
– В-вы сами-то понимаете, как это будет в-выглядеть?.. – еле выговорила она.
– Как? – спокойно поинтересовался Костёрыч.
Шкиляева отвернулась и некоторое время смотрела в окно, словно взглядом излучила излишнюю энергию.
– Д-детский сад! – с чувством произнесла она.
– Америка в нас ракету запустит, – едва разборчиво пробурчал Щёкин и ещё менее разборчиво добавил: – Шкиляевой в зад…
Розка, расслышав, уронила взгляд себе на колени, сжала губы и надула щёки, чтобы не прыснуть.
– К нам что, часто американцы приезжают, да?! – повернувшись к Костёрычу, гневно закричал Каравайский так, будто Костёрыч что-то у него отнял.
Моржов понимал, что для Шкиляевой поступить вопреки приказу начальства всё равно что застрелиться. А признаться в своей ошибке – хуже, чем при всём районном департаменте образования выступить у шеста в стрип-шоу.
– В общем, я и собрала вас здесь, чтобы сказать, что этим летом Троельга у нас должна работать, – подвела итог Шкиляева. – Департамент уже послал туда строительную бригаду. Всякие там постельные принадлежности завхоз уже собирает. С питанием определяемся. Должна быть обычная смена – дети там, воспитатели. Мы не можем ударить в грязь лицом.
– Если машина пошла, надо договориться, чтобы теннисные столы вывезли! – вскинулся Каравайский.
– Куда вывозить? – осадила его Шкиляева. – Вы там на них с американцами в теннис играть будете!
– В какой теннис?! – изумился Каравайский.
– Я вас, педагогов, для чего собрала-то? Чтобы вы готовили своих детей ехать в Троельгу на первую смену!
Брови Моржова сами собой полезли на лоб. Ему с какими-то детьми ехать в какую-то Троельгу?..
– Ехать?.. – поразилась Розка. – За город?..
– Конечно! – бурно подтвердила Шкиляева. – Что, американцы приедут в детский лагерь – а наших детей там нет?.. Должны быть две наших группы!
– Постойте-постойте, – забеспокоился Костёрыч. – То есть, получается, мы должны собирать своих детей в загородный лагерь?
– Ну разумеется!
– Вот и блуда! – убито шепнул Щёкин Моржову.
– Так нельзя, Галина Николаевна! – возмутился Костёрыч. – Нужно ведь заранее предупреждать! Сейчас-то как это сделать? Дети на каникулы выходят, кружки распущены.
– Как распущены?! – подскочила Шкиляева, будто впервые узнала о летних каникулах. – Кто вам позволил распускать кружки? У нас не школа, мы и летом работаем!
– Вы же знаете, как это делается, – упорствовал Костёрыч. – Организуется городской лагерь. Кто-то из педагогов – воспитатели, а остальные ведут по два-три занятия в неделю для всех детей лагеря сразу. Это же обычная практика. Многолетняя! – уточнил Костёрыч. – И департамент про это знает, никакой крамолы!
Шкиляева подумала, переводя взгляд с педагога на педагога.
– Городской лагерь – городским лагерем, а здесь загородный! – заявила она. – Те дети из ваших кружков, которые записались в городской лагерь, пускай ездят в загородный. Троельга – это же рядом, две остановки на электричке.
– А билеты? – не сдавался Костёрыч.
– Билеты… Пусть билеты сохранят, в конце лета мы через бухгалтерию проведём оплату. Получится бесплатный проезд. Детям-то ведь всё равно, в городе или за городом лагерь, если можно дома ночевать!
– Я не думаю, что городской лагерь и Троельга для них будет одно и то же, – усомнился Костёрыч.
– Нечего демагогию разводить! – обозлилась Шкиляева. – Деваться нам всё равно некуда. Лагерь должен быть! Кто не желает подчиняться – может уволиться, но сначала два месяца обязан отработать! Департамент ввиду срочности и так пошёл вам на уступку. Разрешено в одну группу набирать всего пятнадцать человек, а не тридцать, как в городе, и на группу иметь двух руководителей. Одна группа – Константин Егорович и Милена Дмитриевна. Другая группа – Михаил Петрович и Дмитрий Александрович.
Дмитрий Александрович – это Щёкин. За долгие годы знакомства Моржов всё как-то не мог привыкнуть, что у Щёкина есть человеческие имя и отчество.
– Я не могу в Троельгу! – тотчас заорал Каравайский и заелозил ногами под столом. – Вы что? У меня в июне зональное первенство! Какая Троельга?
– Я тоже не могу, – возмущённо добавила Милена Дмитриевна. – Мне ребёнка просто не с кем оставить…
– Возьмите с собой, это же природа! Полезно.
– Я… – заикнулась Милена.
– Я два года их готовил! – снова заорал Каравайский вскакивая. – Всё насмарку, да? Коту под хвост?
– Американцы… – начала было Шкиляева.
– Какие американцы? Американцы везде! А у меня первенство зоны! Отборочный тур на Россию! Вы что, не понимаете?
– А почему для вас особые условия? – уже оборонялась Шкиляева.
– Для меня? Не для меня! Для детей! Не для себя стараюсь! Для зоны! Обычные условия, как по всей стране! Год занимаешься – первенство! И не надо отдельных условий! Так справимся! – грохотал Каравайский, нависая над Шкиляевой.
– Все поедут… – заикнулась Шкиляева.
– Да жалуйтесь сколько хотите! – Каравайский пинком придвинул свой стул к столу. – Я тоже в департамент жаловаться пойду! У меня в шестой школе зал арендован на июнь! Сертификаты им ещё подавай!..
Каравайский промчался к выходу и за собой жахнул дверью об косяк. Шкиляева снова подпрыгнула на стуле. Повисло молчание. Моржов незаметно поглядел на Щёкина, на Розку с Миленой, на Костёрыча – и вдруг идея с Троельгой ему начала нравиться. А почему бы и вправду не провести месячишко за городом, да ещё и с приятными людьми, да ещё и с девками такими симпатичными?..
– Почему Михаилу Петровичу можно не ехать в Троельгу, а я обязана? – негромко спросила Милена.
Шкиляева перевела на неё пустой взгляд. Все педагоги тоже посмотрели на Милену. И Моржов посмотрел.
В лице Милены был какой-то калмыцкий, монгольский оттенок, сейчас усиленный косым шафрановым светом из окна: удлинённые глаза; чуть-чуть тяжеловатое, степное лицо и скулы чуть-чуть острее славянских; большой и неяркий рот… В общем, эхо Золотой Орды. Татаро-монголы – русские голы. В лицо Милены самой природой был заложен уклон к выражению страсти: глаза словно повело закрыться, широкий вырез ноздрей подчёркивал сбивающееся дыхание, а выпуклость скул намекала на впалые щёки, когда для поцелуя слегка приоткрыты губы. Моржов ощутил, что его явно тянет к Милене. Не просто как к симпатичной женщине, а именно к Милене как таковой. А может быть, это была жажда исторического реванша.
– Я, кстати, тоже мать-одиночка, – добавила Роза то ли для Шкиляевой, то ли для Милены. – У меня Иришке тоже пять лет.
Шкиляева молча собрала бумаги на столе в несколько стопок.
– В общем, давайте без демагогии, – сказала она, забыв, что уже призывала к этому. – Надо ехать – значит надо. Это не моя прихоть. Американцы!.. Две группы по пятнадцать человек… А вместо Михаила Петровича тогда поедет Светлана… э-э…
– Софья Ивановна, – подсказал Щёкин.
– Да, – кивнула Шкиляева. – Вам же нужна педагогическая практика, Софья Ивановна? – Шкиляева посмотрела на Соню, которая съёжилась ещё больше. – В Троельге будет отличная практика. Природа… – Шкиляева задумчиво потрясла раскрытой ладонью, подыскивая, чего замечательного ещё есть в Троельге.
Моржов увидел, как Щёкин, сохраняя спокойствие верхней части тела, нижней частью начал пританцовывать на стуле. Получалось, что он с Сонечкой оказывался на одной группе. Углом рта Щёкин шёпотом спросил у Моржова:
– Не знаешь, там комнаты для вожатых общие или как?..
– Вы какой кружок хотели? – спросила Шкиляева у Сони.
– Экологический, – тихо сказала Соня.
– Ну и отлично! – оживилась Шкиляева. – Там всё равно надо будет территорию убирать. Будете защищать природу!
– А мне зачем природа? – строптиво сказала Милена. – У меня кружок английского языка.
– Ну, вот и будете говорить там с американцами по-английски, – тотчас объяснила Шкиляева.
– А у меня вообще кружка нет! – Роза поискала поддержки у Моржова. – И у Мор… у Бориса Даниловича тоже нету!.. Мы ведь методисты! Где нам детей взять?
– А вас-то и поставим на американцев. – Шкиляева посмотрела на Розу как на дуру. – У вас же в анкетах записано, что в вузах вы изучали английский. А Милена Дмитриевна вам поможет.
Моржов посмотрел на Розку. Розка сидела с видом глубокого недовольства, полуприкрыв глаза. Но из-под ресниц она стрельнула взглядом в Моржова, и Моржов почувствовал в этом взгляде тёмное, многообещающее тепло.
– Есть ещё какие возражения? – Шкиляева повертела головой.
– Конечно, все планы рушатся… – сказал Костёрыч. – Но надо – так надо. Чего уж тут не понять.
– Надеюсь, с двух кружков вы наберёте группы в пятнадцать человек, – желчно добавила Шкиляева. – Предупреждаю: этот лагерь будет на контроле департамента! Детей чтоб ни на одного меньше, и все чтобы с сертификатами!
– Вот она – блуда! – убеждённо шепнул Щёкин Моржову.
Глава 2
Ковязин
Он и на работу летом приходил вовремя только потому, что любил утром пить кофе в этом шапито.
Никто в Ковязине не знал, чем ознаменовалась девятая пятилетка, но в её честь была названа главная площадь города. Площадь, как половичок на балконе, лежала на почти отвесном выступе Семиколоколенной горы. Костёрыч рассказывал, что до революции площадь называлась Крестопоклонной, потому что здесь над долиной Талки стоял огромный чугунный Поклонный крест в честь спасения российского императора то ли от бомбы народовольца, то ли от сабли самурая, то ли от каменного топора троглодита. Потом крест, разумеется, снесли, на его постамент водрузили высокий четырёхгранный гранитный столб, а на столб нахлобучили огромную голову Ленина, выкрашенную жёлтой масляной краской. Издалека этот памятник напоминал лампочку, тлевшую вполнакала. Народ называл памятник просто и без пиетета: «Череп». Так и говорили: «Встретимся у Черепа», «Бухал под Черепом», «Гастроном – это за Черепом и налево».
Летом возле Черепа раскидывался цыганский табор цветастых сезонных кафе. Моржову нравилось заворачивать сюда по пути на работу. Это придавало начинающемуся дню оттенок респектабельной буржуазности. Да и вообще было приятно посидеть с чашкой кофе в одиночестве, на верхотуре, в прохладе, пока полотнища потолков ещё яркие, влажные после ночного дождя и не провисают, продавленные тяжестью полуденной жары, как оттянутые коленки на трико дачника.
В этом кафе за стойкой всегда стоял очень красивый юноша-таджик в тюбетейке и девчоночьем фартучке с кружевами. По-русски он почти не говорил и только виновато улыбался.
– Кофе есть? – спросил Моржов, доставая деньги.
В юношу был вмонтирован фотоэлемент, и без зрелища денег юноша не включался.
– С-сь… – тихо сказал юноша. Это означало «есть».
Он бросил в пластиковую чашечку ложку растворимого кофе и налил кипяток из электрического чайника.
– А сахар? – спросил Моржов.
Юноша улыбался и молчал. Моржов некоторое время смотрел на него поверх стойки, словно поверх хребта Алатау.
– Н-н-т сахар… – выдохнул юноша.
– Тогда сдачу, – упорствовал Моржов.
Но юноша уже выключился. С деньгами он работал только на вход. Моржов забрал свою чашку, отвернулся от улыбающегося манекена и ушёл за дальний столик.
На площади, квакая сигнализацией, парковались легковушки, сновали люди, разгружались автобусы, похожие на медные самовары. С одной стороны площадь ограждала высокая и массивная аркада старого Гостиного двора. Торговля была самым прочным завоеванием человечества, и за полтора века ни один режим не смог приспособить Гостиный двор под какую-либо иную функцию. Моржов видел, как в пролётах арок тоненькие девочки-продавщицы развешивают по верёвкам, как бельё на просушку, плечики со спортивными и джинсовыми костюмами. С другой стороны площадь замыкало длинное и высокое здание городского магистрата – всё в пилястрах и гирляндах, всё в гипсовой бижутерии, словно ярмарка в День урожая. Дальняя половина площади была отдана летнему рынку: там громоздились тесные ряды палаток, будто шкафы в библиотеке, а между палатками осторожно перемещались полотняные фургоны «Газелей». Хлопали дверцы, бренчали поддоны, слышались гортанные кавказские голоса. На обочине суеты, заложив руки за спину, скульптурной группой стояли и смотрели на рынок три серых милиционера. Один из них чуть подёргивал ляжкой, отчего на бедре эрективно вздрагивала подвешенная дубинка.
Рынок расползся бы на всю площадь, но с ближней стороны его ограничивала линия развесистых фонарей, похожих на ветвистые канделябры, а с дальней стороны – бетонный забор вокруг огромной фигурной коробки Спасского собора. Подразумевалось, что сейчас собор реставрируется. В его пустых окнах и вправду изредка мелькали какие-то люди, но, скорее всего, это были бомжи, не имевшие к реставрации прямого отношения. Полая, дырявая громада собора вздымалась из-за бетонных плит, как тяжёлый и многоструйный кирпичный фонтан. В ракурсе от Черепа ступенчатая колокольня собора каскадом низвергалась на вздутый бок купола. В сквозных проёмах светового барабана краснело утреннее солнце, словно заключённое в собор, как канарейка в клетку. Мерцающая тень собора накрывала половину площади.
Жить приходилось в сатире, а душе хотелось эпоса, потому Моржов смотрел не на рынок, а на просторы, распахнутые перед обрывом Крестопоклонной площади. По днищу этих просторов распластался уездный город Ковязин.
…В Москве к Моржову относились с уважением, но с оттенком сочувствия и удивления. Мол, боже мой, в такой заднице человек живёт!.. А Моржов не считал город Ковязин задницей. Он даже гордился городом Ковязиным. Но не так, как краевед Костёрыч. В гордости Костёрыча всегда была обида. Костёрыч находил какой-нибудь старинный кованый гвоздь и трясся: в Ковязине гвозди начали ковать с квадратной шляпкой на семь лет раньше, чем в Москве на Патриаршем подворье!.. А потом сравнивал статусы городов и чувствовал себя, в общем, оплёванным. Гордость Костёрыча всегда была обращена восторгом в прошлое и укором в современность. Будущее же представлялось лишь реставрацией, вроде возрождения Спасского собора, которому пока что, кроме бомжей, гордиться было нечем. А Моржов считал, что деликатный человек от своего великого прошлого должен испытывать некую неловкость. Лучше бы его и не было, этого великого прошлого, чтобы неловкость не затрудняла отношения с окружающими. Костёрыч был деликатным человеком, и поэтому Моржов его любил. Костёрыч за девками не гонялся, и неловкость ему не мешала жить. А Моржову мешала.
Всё это органично подводило к тому, что Моржов был патриотом, как и Костёрыч, но гордился не прошлым городом Ковязиным, а будущим. Нет, городской муниципалитет не собирался строить на Талке новый космодром, президент не планировал превратить Ковязин в офшор, месторождений алмазов под городской пожаркой здесь тоже пока не нашли, и археологи сомневались, что Ковязин является родиной человечества, в связи с чем здесь можно было бы организовать крупнейший в Евразии Диснейленд. Но Моржов печёнками чуял, что город Ковязин – это олицетворённое будущее. Придёт время, и все города станут как Ковязин, поэтому сейчас Ковязин – впереди планеты всей. Замечательный повод для гордости.
Моржов с края Крестопоклонной площади любовно оглядывал родные горизонты. Прозрачное пространство раскатилось от Семиколоколенной горы во все стороны, но одесную плоские земные глади таяли где-то в зыбком мрении окоёма, а ошуюю чёрство коробились невысокими Колымагиными горами. Городишко лежал на дне долины разводьями зелёной пены, а вокруг него прямоугольными заплатами были наляпаны тёмные поля. Вдали, куда уже не дотягивались корни просёлочных дорог, поля замшели лесами. Небо перекрывало весь объём без единой подпорки, да ещё и развесило люстры облаков.
Острожек боярина Ковязи был построен при Великом князе Горохе там, где равнины вклинились в дремучие урманы гор долиной реки Талки. Моржов точно не знал: то ли здесь татаро-монголы нападали на каких-нибудь древлян, и древляне сматывались в чащи, прикрывшись со спины крепостью, то ли какие-то печенеги спускались со склонов и нападали на русские деревни, а Ковязя перекрыл печенегам кислород. Но спустя сколько-то веков на месте острожка вырос пузатый деревянный кремль, а вокруг рассыпались посады и слободки.
Талка причудливо извивалась среди таких же кривых улиц города. Четырежды её пересекали мосты – все разные, как на выставке: стальной железнодорожный гребень, плоская бетонная доска, подвесная лента, изогнутая томно, как шезлонг, и старинная бревенчатая громада, вся косая и растопорщенная, с мусором, что в половодье застрял между зубами. После половодья вода в реке уже прояснилась, потемнела, и сквозь её темноту на солнце желтели отмели, которые в середине лета обрастут густыми зелёными плавнями. Ковязинский кремль стоял здесь, над Талкой, на Семиколоколенной горе. Гора получила своё название за то, что с её вершины, по преданию, было видно семь городских колоколен. Сейчас их осталось только три, если не считать колокольню Спасского собора.
Одна – приземистая, древняя, похожая на толстый заточенный карандаш – виднелась сразу под горой. Здешний мелкопоместно-дворянский район спускался по скату горы разнокалиберными ступеньками усадеб и флигелей. Красные железные крыши особняков словно вспенили мягкий слив проулков бурунами старых лип и тополей. В окрестных тупичках ещё уцелели крылечки с двумя колоннами, полукруглые окна во фронтонах, кованые балконы и ограды из кирпичных столбов с кружевными решётками. После революции этот район получил демонстративное название Пролетарский, а попросту – Пролёт.
Вторая колокольня находилась подальше – в районе, который назывался Багдад. Багдад был чистой воды трущобой. В церкви располагалась котельная. Умельцы-работяги снесли шатёр и протянули сквозь колокольню дымовую трубу. Зимой – в отопительный сезон – колокольня имела весьма дикий вид: крутым углом кровли притвора она, как крейсер, рассекала хаос закопчённых брандмауэров, выщербленных кирпичных карнизов, обезглавленных электриками тополей и чёрных чердачных вышек, заплатанных ржавым железом. Сквозь дыру в затылке из колокольни валил смоляной дым, и хвост его порой хлестал по барским профилям Пролёта. Ещё Багдад был знаменит своими тонированными «Жигулями», глядевшими из подворотен, как крысы из нор. Почему район назывался Багдадом, Моржов не знал.
Банным Логом кирпично-дощатый Багдад отделялся от сельских кварталов пригорода, который назывался Ковыряловкой. Сленг здесь был ни при чём: деревня Ковырялово под городом Ковязиным значилась в летописях ещё во времена палеозоя. Ковыряловка считалась хоть и не престижным, но и не плохим местом. Её добротные бревенчатые дома были покрыты тёсом и покрашены, окошки повязаны узорчатыми платочками наличников, ворота усадеб культурно прикрыты кровлями, возле колонок хозяева заботливо намывали свои «Москвичи» и «Запорожцы», а пожилые женщины ездили в магазины на велосипедах «без рам».
С величием Чингисхана Моржов перевёл взгляд на другую сторону города. За Семиколоколенной горой на речке Пряжке, притоке Талки, блестел Пряжский пруд, подрезанный набережной с фонарями. Широкая плотина пруда и вправду напоминала ремень, который туго перепоясал водоём, а чугунный мост – пряжку на ремне. По плотине проходил бульвар Конармии. Дальше он мельчал, превращаясь в улицу Красных Конников, и лез в гору. Гора называлась Чуланской, потому что, как все считали, здесь располагались чуланы. Костёрыч как-то сказал Моржову, что подобное объяснение – народная этимология и просто бред. «Чулан» – это искажённое татарское «Чукман» или «Чулган». Щёкин тотчас добавил, что в древности на этой горе стояла золотоордынская столица – стобашенный город Чурбан-Базар, где пересекались Великий Шёлковый и Северный морской пути. Этот город в своём «Хождении за три моря» описал Марко Поло.
Спустя какой-то срок после Марко Поло на Чуланской горе заложили соцпосёлок. Под социализмом в данном случае имелась в виду поквартальная централизация коммунального хозяйства. Чуланскую гору освободили от особняков и лачуг и застроили двухэтажными типовыми квартальчиками, где в подвале каждого четвёртого дома находилась своя кочегарка. Кварталы до сих пор сохраняли некую претензию на уют. Правда, уют казался слегка озлобленным от вековых куч угля во дворах и от грязных труб кочегарок, безобразно надставленных над крышами. В Чулане наиболее престижным средством транспорта почему-то считался мотороллер с кузовом. В кузове обязательно стоял помятый алюминиевый бидон, а назад торчал пучок реек; на конце самой длинной рейки болталась красная тряпочка.
Чулан, Пряжский пруд, Семиколоколенная гора с Черепом и Крестопоклонной площадью, Пролёт, Багдад, Банный Лог и Ковыряловка находились на правом берегу Талки. Левый берег до революции занимали городские покосы. Здесь стояло только несколько деревушек. В одной из них, в бане у какого-то чеботаря, ковязинские подпольщики устроили типографию, где печатали листовки и прокламации. После революции покосы застроили одинаковыми двухэтажными бараками. Главную улицу назвали Прокламационной. Поскольку выговорить такое название никто не мог, прижился упрощённый вариант – Прокол. Прокол до сих пор оставался барачным, но время таинственно облагородило его.
Широкие песчаные улицы обросли деревьями, причём каждый ствол был заключён в оградку, чтобы не обглодали козы. Во дворах сами собою нагромоздились сараи и дровяники. В них потихоньку появились собственные постоянные жители, которых давно уже не гнали вон, а признали за равных – и даже привлекали их на субботники на общих основаниях. Моржов нежно гладил взглядом зелёные волны Прокола и его патриархальные телеграфные столбы из просмолённых брёвен. Снизу столбы были подпёрты крепкими укосинами, а сверху их перечёркивали двойные перекладины. Вдали за Проколом в ряд вздымались круглые башни элеваторов.
Длинная череда председателей Ковязинского райисполкома мечтала воздвигнуть на Проколе Новый город. Целый город не получился, но вот солидный кусок всё же удался. Теперь среди топей Прокола плавал белый, рафинадный айсберг многоэтажного микрорайона. Назывался он вообще не по-человечески: «микрорайон какого-то там пленума ЦК КПСС». В обиходе его звали просто Пленум. Хотя он являлся самым молодым районом Ковязина, он обветшал прежде всех прочих. Тротуары здесь истоптались и были заменены дощатыми выстилками. Краткосрочные ремонты водоводов оказались вечными, и земляные кучи возле траншей заросли травой, а теплотрассы прошли прямо по земле, воспитанно поднимаясь прямоугольными порталами над проезжей частью дорог. Облицовочные плитки кое-где со стен домов осыпались, словно бы запросто и напрямик заявив, что по одёжке лишь встречают, а Пленум встретился с Ковязиным уже давно. Самые хозяйственные жильцы превратили челюсти голых балконов в хрупкие и прекрасные аквариумы самодельных лоджий.
За Пленумом простиралось Заречное кладбище, которое так и не успели превратить в Парк культуры и отдыха. Посреди кладбища стояла Успенская церковь. Её построили исторически бесчисленные выходцы из Вологодской губернии в своём северном стиле. Купола Успенской церкви были не древнерусскими «шеломами», натянутыми до бровей окошек-прозоров, как резиновые шапочки купальщиков, а эдакими шарами на ножках. Богохульнику Моржову северный стиль всегда казался каким-то слегка балаганным, будто некие скоморохи крутили на пальцах мячи, а рядом торчал колпак Петрушки. Впрочем, сейчас балаган приуныл, как заброшенные карусели, и Петрушка проржавел, а мячики почернели и сдулись. Кладбище заросло деревьями и травой, и только один край его усиленно эксплуатировался, заголённый до белёсого суглинка. Было в этом что-то неприличное: запустение на одном конце и прожорливость на другом. Словно проститутка продемонстрировала бурную страсть, а потом сразу встала и ушла, даже не попрощавшись.
Левобережная часть Ковязина завершалась горой Пикет. Раньше на горе стояла караулка, откуда лесообъездчики следили за пожарами: отсюда и «пикет». Теперь Пикет был вежливо, но твёрдо отгорожен от Ковязина высоченной стеной. За стеной склоны горы располосовали аккуратнейшими террасами, на которых, как воробьи на проводах, вразброс сидели причудливые терема и дворцы. Моржов всё собирался купить какую-нибудь подзорную трубу, чтобы рассмотреть в подробностях их шкатулочную, игрушечную кристаллографию, да никак не мог вспомнить об этом вовремя. А сходить на Пикет пешком он не мог, потому что туда пеших не пускали.
Ничего не было интересного в городе Ковязине. Ни старины, ни особенного уродства. Родом из Ковязина не происходил ни один академик, ни один композитор, ни один революционер, ни один Герой Советского Союза. Из ковязинцев выше всех взлетел только Ганибек Оганесян, при Хрущёве – замминистра тяжёлого машиностроения. Высокие особы посетили город лишь в лице Александра II, который на ковязинской ямской станции сказал кучеру: «Гони до следующей». В моржовских резюме для буклетов выставок составители обычно писали: «Художник живёт в провинциальном городе Вязники». А Моржову нравилось, что его город такой простой и незнаменитый. Он считал, что большая непуганая рыба может водиться лишь в таких никому не известных озёрах. Не то чтобы Моржов собирался пугать или ловить эту рыбу, нет. Просто приятно жить на берегу озера, зная, что в нём водится большая непуганая рыба. Да и забиякинское ПНН здесь так обытовлялось, что делалось почти незаметным, вроде, скажем, привычки соседа по коммуналке выходить на общую кухню в несвежих трусах.
Моржов нежно смотрел на город Ковязин с высокого края Крестопоклонной площади. Над городом, над долиной плыли многокупольные облака, позолочённые солнцем и оттого словно ставшие православными. Восемьдесят тысяч человек под ними жили тихо и плоско, как пиксели на экране монитора. Реял триколор над муниципалитетом, на рынке хрипло рыдал шансон, голубь топтался по голове Ленина. «Наше будущее, – думал Моржов, – это демократия плюс пикселизация всей страны».
Моржов где-то прочитал, что мысль мужчины возвращается к теме секса в среднем раз в сорок пять секунд. Авторы этого исследования, безусловно, верили в человека, точнее в мужчину, и такая вера вызывала в Моржове искреннее уважение. Но жизненный опыт Моржова опровергал это заключение. Во-первых, как постоянно убеждался Моржов, движущаяся мысль встречалась в головах человеков (мужчин) достаточно редко. А во-вторых, сам Моржов, к примеру, думал на эту тему всегда, а раз в сорок пять секунд отвлекался на второстепенное – на живопись, скажем, на МУДО или на Бога. А вот Щёкин совсем никогда не отвлекался.
Маньяком Моржов себя не считал. Маньяк – существо конкретное. Нечто вроде автомобиля с оторванным колесом, который то и дело сворачивает и опрокидывается в кювет. Маньяк думает о своей мании. А Моржов не думал о бабах – он бабами думал обо всём. И мужчины, мысль которых возвращалась к теме секса реже, чем раз в сорок пять секунд, представлялись Моржову подозрительными. О чём тогда вообще они думают? Может, государственный переворот хотят устроить? Их надо изолировать и лечить впечатлениями.
Моржов не видел причин для самоограничения. Быт у него худо-бедно устроен, деньги есть, жены нет. Пластинам мысли о девках не мешают. Он закодировался, и весь могучий поток жизненной энергии, что раньше улетал в пробоину алкоголизма, теперь остаётся в нём, как огонь, мерцающий в сосуде. О чём ещё ему думать? Об иномарках или о путешествиях в Барселону? Наплевать на них. А вовсе не думать Моржов уже не умел.
Моржов и сейчас думал о девках, конкретнее – о Миленочке Чунжиной. От выхода из МУДО Моржов прошагал вслед за ней до ворот и здесь остановился. Налево от ворот городской пейзаж обламывался – углом загибался вниз по склону Семиколоколенной горы. Летний день был уже пропечён, как сдоба, но вечер его ещё не пережарил, когда слева вдали – за Талкой и за башнями элеватора – повисает смуглая мгла пылящих полей, а распаренный Пряжский пруд с отражением солнца становится похож на горячую глазунью. Милена же уходила направо – вверх по бульвару Конармии. Моржов пропустил пешехода и пошёл за Миленой.
Подмягший асфальт делал шаги вкрадчивыми, будто Моржов, как хищник, крался за жертвой. Но Милена не была жертвой, а Моржов не был хищником. Он бы и не пошёл за Миленой, если бы не Шкиляева. Как-то же он обходился весь учебный год без форсирования знакомства с симпатичной сотрудницей, полагаясь на судьбу. Но если уж Шкиляева приговорила его и Милену к заточению в Троельге, то волей-неволей отношения всё равно завяжутся. Завязавшись, они всё равно перейдут в неформальные. Перейдя в неформальные, они (по теории, по плану и по надежде) всё равно скатятся до интимных. Так что знакомство здесь и сейчас – это просто экономия времени, которое пригодится в Троельге для более содержательного наполнения.
Милена была на высоких и тонких каблуках, в узкой тёмной юбке до колен и в белой блузке, ослепительной на солнце. Моржову даже догонять Милену не хотелось – так приятно было смотреть на неё сзади. Это в публичной речи какого-нибудь комментатора дефиле уместно культурное выражение «покачивает бёдрами». Ни хрена не бёдрами покачивала Милена. На бульваре Конармии на каблуках бёдрами докачаешься так, что сковырнёшься через чугунную ограду в яму забиякинского парка, вот и всё. Моржов закурил, размышляя об изображении ходьбы.
Изображать ходьбу механически – покачиванием бёдер – значит работать совершенно дилетантски, без мастерства. Так можно делать лишь в театре теней с картонными силуэтами. А Моржов изобразил бы ходьбу скульптурным мерцанием. Шаг – и под юбкой лепятся напряжённые округлости опорной ноги. Другой шаг – и прежний объём меркнет, а выявляется зеркальный ему. И вот такой перелив объёмов гипнотически подчинён природным ритмам человека – ритму сердцебиения, ритму толчков соития. Любоваться идущей женщиной и не захотеть её казалось Моржову чем-то противоестественным, хотя академик Павлов со своими дурацкими собаками опошлил всё что смог.
Это женщины пусть убеждают себя, что высокий каблук им нужен для зрительного удлинения ноги и придания силуэту большей стройности. А мужчины знают, что высокий каблук заставляет женское тело работать на максимуме своей скульптурной выразительности, высвечивая формы сквозь одежду. И для мужчин высокий женский каблук нужен затем, чтобы не хотелось обгонять женщину. Чтобы хотелось даже пропустить женщину вперёд, как требуют нормы галантности.
Милена шла перед Моржовым по бульвару Конармии – будто кто-то нёс перед Моржовым фужер с вином. Моржов щурился. Если мимо пролетала машина, хвост горячего ветра стегал по Моржову и по Милене. Блузка прилипала к спине Милены и мгновенно делалась прозрачной. Моржов даже издалека видел полоску лифчика, перечеркнувшую спину Милены по лопаткам. Вот этого Моржов уже не понимал. Чтобы захотеть Милену, ему всего уже было достаточно. Зачем же намекать столь навязчиво? Такой перебор становится похожим на откровенное предложение. Не потому ли Милена так скованна? Всё-таки неловко…
Наверняка Щёкин тотчас бы забухтел: «Какого хрена такую прозрачную блузку носить? Ты хочешь, чтобы все видели твой лифчик? Так надень его поверх блузки! Тебе он вообще зачем нужен? Ты хочешь, чтобы все мужики мечтали его снять с тебя, да? Я тоже мечтаю, чтобы все бабы хотели сорвать с меня трусы! Давай я выйду шляться по городу в прозрачных штанах, и пусть все видят мои красные семейники в синий горошек! Тебе понравится, а? Всё строим из себя невинных девочек, которые не понимают, что своими трусами и лифчиками всех провоцируют!»
Призрак Щёкина едва-едва не материализовался возле Милены, и Моржов поспешил вперёд, чтобы оттеснить его и не ставить Милену в трудное положение.
– Кажется, нам по пути? – спросил Моржов, догоняя Милену.
Милена удивлённо оглянулась. На темени у неё кокошником сидели тёмные очки.
– А, это вы… – сказала она и блёкло улыбнулась. – А вам куда?
– Куда прикажете, – радушно ответил Моржов.
Послать его подальше ей вежливость не позволит, и теперь в любом варианте им придётся прогуляться вместе.
– Мне на рынок, – предупредила Милена, словно рынок был дамским туалетом, куда мужчинам вход воспрещён.
– Давайте я угадаю про вас кое-что, – предложил Моржов.
Милена чуть смутилась. Видимо, про неё можно было угадать много всего разнообразного, и не всё из этого предназначалось Моржову. «Великий шаг человечества – это маленький шаг человека», – говаривал астронавт Армстронг, ступая на Луну. Моржов понимал, что Милене сейчас, как Армстронгу, предстоит сделать маленький шажок, который, впрочем, для него – для Моржова – будет означать очень многое: режим одобренного сближения или же разнообразные тернии. Но Моржов умышленно придерживался стратегии доведения таких шагов до максимальной микроскопичности, чтобы партнёр делал их незаметно для себя. Или же, если замечал, считал их столь ничтожными, что не видел в них ничего опасного.
– Что ж, угадайте. – Милена сделала требуемый шаг и улыбнулась уже поярче.
– Вам забирать ребёнка из садика после пяти, – сказал Моржов. – А времени – четыре часа. Вот вы и решили убить лишний час на рынке. Но пополнить запас стирального порошка или колготок вам пока не требуется.
Моржов опять-таки умышленно зацепил быт Милены, в который его никто не приглашал. Но для сближения требовалось приоткрыть створки раковины официальности – так сказать, интимизировать контакт. Хотя, конечно, имелся риск прослыть бестактным. Поэтому Моржов продолжил сразу:
– Давайте лучше вместе убьём этот час где-нибудь в кафе. Мне тоже нужно на встречу только после пяти.
Моржов соврал легко. Во-первых, факт обоюдной необходимости убить время и сближал, и переводил ситуацию в состояние вынужденности, то есть снимал чувство вины, которое для Милены на самом деле было запретом на хождение в кафе с кем-либо, кроме любовника, – то есть Манжетова. А во-вторых, мотивировка некой «встречей» подспудно будила в Милене ревность – «по сравнению с кем это я менее важна?».
– Н-ну, не знаю, – заколебалась Милена.
– Пойдёмте вон туда. – Моржов деликатно указал пальцем на переулок, чтобы Милена отвернулась от него и смогла преодолеть стеснение. – Вон, на светофоре перейдём…
Они остановились у пустого перекрёстка, над которым воспалённо рдел перегревшийся светофор. Две бабы обогнули их и попёрли по зебре через дорогу на красный свет, переваливаясь, как утки. Моржов чуть придержал Милену за локоток, демонстрируя свою законопослушность – как бы невербально заверяя Милену, что не выйдет за рамки дозволенного.
– У вас мальчик или девочка? – спросил Моржов, чтобы отвлечь Милену от светофора.
– Мальчик. Пять лет, – ответила Милена.
Огонь светофора бессильно свалился с красного на зелёный.
– Теперь пойдёмте, – бодро сказал Моржов и ладонью как бы невзначай, понуждая, коснулся спины Милены.
Под ладонью медицински-конкретно прощупывался лифчик. Милена, конечно, тоже почувствовала, что Моржову, так сказать, всё стало известно. Безлично-бесполый стиль контакта сыпался по кирпичикам. Моржов видел, что скулы Милены чуть покраснели. Она слишком расслабилась, поверив мнимому законопослушанию Моржова, а потому и поплатилась нарушением границы. Теперь для сохранения статус-кво ей приходилось признавать дозволенность пребывания Моржова на этой территории.
– Как зовут? – прежним тоном спросил Моржов.
– С-саша, – с трудом сообразила Милена, о ком речь.
Они свернули с бульвара в переулок. Здесь в тени застоялся зной, пропахший асфальтом, – словно торт по ошибке вместо шоколада пропитали мазутом. Старинные двухэтажные дома, слепленные друг с другом торцами, походили на тесные ряды пирожных в витрине кондитерской. Какие-то пирожные были свеженькие, с фигурными кружевами крема, а какие-то подсохли и зачерствели. Автомобильного движения по переулку не было. Пара приземистых иномарок стояла у обочин. Машины были покатые, словно подтаявшие. На сухих клумбах зеленела реденькая травка. Непонятно было, откуда она взяла такой свежий цвет – словно искренний и влажный поцелуй. Поцелуй, пирожные, фужер – всё это было не для кафе, не для пластиковых стаканчиков растворимого кофе и не для юноши-таджика с его неизменным «Н-н-т сахар…». Требовался ресторан.
Ресторан имелся. Он занимал весь двухэтажный особняк и назывался «Бонапарт». Моржов давно обратил внимание на странную особенность своей судьбы, которая доводила все якобы случайные сравнения до логического финала. Вот пошла кулинарная линия: пейзаж похож на печенье с открошившимся углом, старые особнячки – на пирожные, день – на духовку… Финалом должен быть торт. Хуже, если это окажется какая-нибудь советская «стекляшка» – какой-нибудь ресторан «Юбилейный» вроде стопы чёрствых вафель, промазанных сгущёнкой. А лучше всего – торт «Наполеон». Как сейчас.
Моржов считал: для предсказателя грядущего главное – уловить начало серии сравнений, чтобы, экстраполировав её принцип в ближайшее будущее, узнать, какое развитие настоящего это будущее согласно допустить ввиду органичности текущему моменту. Вероятность того или иного события, по мнению Моржова, определялась стилистикой события, а не причинно-следственными связями. Реализуется то продолжение уже имеющегося явления, которое соответствует его стилистике наиболее полно. И в данном случае художественное восприятие мира оказывалось куда более точным орудием прогноза, чем логика предшествующих событий. В этом Моржов видел великую социальную и воспитательную функцию искусства. На этом держалась его теория ДП(ПНН). В общем, судьба строилась на сравнениях, сходствах и ассоциациях.
Ресторан «Бонапарт» был лучшим и самым одиозным заведением города Ковязина. Хотя неистовый корсиканец никакого отношения к Ковязину не имел: просто для оформления интерьеров никто ещё пока не придумал ничего помпезнее, чем идея империи.
– Давайте сюда заглянем, – предложил Моржов Милене и с трудом вытянул на себя массивную дверь с бронзовой ручкой.
– Вы уверены? – спросила Милена, сразу сделавшись отчуждённой. «Бонапарт» был заведением не её уровня – несмотря на всю её красоту, и уж тем более не уровня Моржова.
– Уверен, – с усмешкой сказал Моржов.
Он усмехался не от собственной тайной состоятельности, а от того, что Милена согласилась померить его и себя именно этой меркой. То есть узнать, по карману ли она Моржову. Если бы речь шла про ум или про душу, то надо было идти в библиотеку или в церковь. Но похоже, что умом или душой Милена себя не измеряла.
Милена пожала плечами и вошла в открытую дверь.
В полутёмном вестибюле Моржов едва успел разглядеть чучело медведя, как сразу появился бритоголовый охранник в безупречном костюме.
– Что вас интересует? – вежливо спросил он.
– Вы уже официант? – вопросом ответил Моржов.
Ладно – Милена, она была одета прилично. Но сам Моржов стоял перед охранником в джинсах, кроссовках и потной майке.
– Вы хотите в ресторан? – уточнял охранник. Он отказывался верить, что Моржов зашёл в его заведение осознанно.
Моржов, проклиная вынужденно-пижонский жест, полез в карман, вытащил деньги и развернул перед носом охранника веер пятисоток.
– На мороженку хватит? – спросил он.
Охранник понимающе усмехнулся и кивнул: «Ладно, валяй».
– На второй этаж, в малый зал, – пояснил он.
Моржов взял Милену под локоток и повёл вверх по лестнице.
Малый зал назывался малым, видимо, не из-за площади, а из-за высоты. Посетителей не было. Сборчато-приспущенные шторы, как паруса, взятые на рифы, отсекали солнечное сияние окон. С простенков на зал склонялись массивные тёмные портреты российских императоров. Пышные люстры развесили хрустальные подолы. За дальним столиком сидели и обедали три поварихи в белых халатах. Вообще-то им тут было не место, и они заняли только половину столика, словно намекая на некоторую эфемерность своего присутствия, на которое поэтому можно и не обращать внимания. Три одинаковых официанта в жилетках, похожие на скворцов, тесной группой стояли в углу зала и смотрели футбол по телевизору, что торчал под потолком, как скворечник.
Моржов отодвинул Милене стул, а сам уселся напротив, бросив на скатерть пачку сигарет и зажигалку. В Моржове тяжело бултыхалось раздражение. Обидно было не то, что охранник не хотел впускать его в майке. Хотя майка – не водолазный скафандр и на улице – май. По майке охранник судил о финансовом статусе клиента. На поверхностный взгляд, майка свидетельствовала о моржовской неплатёжеспособности. В этом-то и заключалось унижение. Поглядев на майку, охранник решил, что Моржов не просто нищий, а ещё и придурок, который не может соразмерить свой статус со статусом заведения. Когда Моржова считала идиотом Шкиляева, это было нормально, потому что Шкиляева – начальница и ей так положено. Но охранник-то не был Моржову начальником. Он мог счесть Моржова нищим, а счёл – придурком. И никакие извинения (в форме признания и пропуска) Моржова не утешали. Охранник, безусловно, подлежал расстрелу на месте.
Над столиком вырос официант. Покосившись на моржовские сигареты, будто на дохлую мышь, официант выложил две кожаные папки с меню. Милена меланхолично раскрыла свою папку. Моржов увидел, что меню напечатано по-английски. Видимо, от англичан в городе Ковязине отбою не было, особенно в ресторане «Бонапарт». Бегло просматривая перечень блюд, Милена листала толстые цветные страницы. Она выглядела очень естественно (благо Моржов знал, что Милена преподаёт английский), и моржовское раздражение опять забултыхалось. Не будь Милены, Моржов бы сейчас закочевряжился и потребовал меню с картинками.
– Два кофе эспрессо, большие чашки, и два мороженых обычных сливочных с шоколадом и лимонным сиропом, – сказал Моржов, не дожидаясь выбора Милены. Это была его маленькая месть за то, что он выглядел болваном, а Милена – его жертвой. Милену требовалось немножечко нагнуть.
Официант хладнокровно забрал у Милены меню и ушёл, размахивая папками.
– Как-то странно здесь… – растерянно сказала Милена.
Моржов откинулся на спинку стула и закурил, любуясь Миленой. Милена была женщиной для изысканного вкуса, когда требуется уже не лощёная «модель человека» (это со своей формулировочкой беззвучной вспышкой появился и исчез Щёкин), а что-то такое – с тонким отголоском, с экзотической отдушкой из дикорастущих трав. Чтобы сквозь гламур, химический и несъедобный, как парфюмерия, посредством иного и непривычного чувствовалось живое и настоящее. Увидев Милену Чунжину в первый раз, Моржов и внимания на неё не обратил. Но только потом – в памяти – её образ раскрылся точно цветок.
– Как вам это местечко? – спросил Моржов у Милены, не собираясь слушать ответ.
Милена смущённо улыбнулась. Было в ней что-то слабое, анемичное. И голос-то у неё был какой-то неровный, звучный лишь на горловых гласных. Такой голос проявляет силу только при любовном стоне (в способности Милены на любовный крик Моржов сомневался). Похоже, что и саму Милену можно было понять и увидеть лишь в интиме, а в обычной жизни были только статусы, амбиции, обязанности… Милена словно бы провоцировала на близость, но не вилянием зада и выпячиванием грудей, как Розка, а именно своей слабостью, за которой мерещилась покорность. Моржову не нужно было и мерцоида вызывать, чтобы представить, как он раздевает Милену и укладывает на спину, преодолевая тихое сопротивление.
Моржов подключился обратно к реальности. Милена рассказывала, как она с сыном ходит в какое-то кафе. Видимо, Милена сравнивала то кафе с рестораном «Бонапарт». Моржов кивнул в знак того, что внимательно слушает и сочувствует.
Подошёл официант и поставил на столик две чашки кофе. Большая чашка была размером с ноготь большого пальца.
– Зла не хватает, – сказал Моржов и вылил в рот всю чашку. – У них, похоже, размер понтов обратно пропорционален порции…
Официант, будто вспомнив, вернулся и поменял пепельницу.
– А как вы попали на работу в Дом пионеров? – спросил Моржов, задавая Милене новую тему.
…Моржов опять не слушал, а думал про кабак, про Милену и про себя. Он затащил Милену сюда для того, чтобы ступить на дорожку сближения. Финишем должна была стать капитуляция Милены. Милена это понимала – не дура же. Потому и согласилась зайти сюда, чтобы узнать, даёт ли ей Моржов гарантии безопасности. Была бы у них любовь – Милена и не спросила бы про гарантии. А сейчас спрашивала, вот Моржов и развернул перед ней ресторан: смотри, я приличный человек, и в захваченной крепости я не устрою погрома. Но ресторан почему-то демонстрировал совсем иное: он порождал сомнение в способности Моржова осуществить осаду и одержать победу. Общепит, блин.
Что означают осада и победа? Они означают признание физического превосходства осаждающего. Сколько бы ни визжали феминистки, техника соития всё равно подразумевала, образно говоря, одного сверху, а другого снизу. И дело не в «Камасутре», а в изначальной отформатированности природы, когда один заточен под нападение и победу, а другой – под приятие нападения и капитуляцию. Моржов считал, что так и нужно, потому что так лучше. Но фиги приглашать девушку в ресторан, чтобы провести осаду и одержать победу, если в фойе стоит эта обезьяна? Она ведь, ежели чаво, предназначена вообще для победы над всеми. И у клиента пропадает интерес, так как его подруге дали понять, что в этом квартале он не самый сильный. Моржов с досадой чувствовал себя Золушкой, которой туфелька оказалась велика. Надо было всё-таки идти в библиотеку…
– …языковая среда, – тем временем говорила Милена. – Нельзя терять квалификацию. Нужна практика. Или хотя бы – повторение.
Подошёл официант и сменил чистую пепельницу на чистую.
– Вас, наверное, возмутило, что Шкиляева на американцев поставила Розу, хотя Роза английского не знает, – подбросил полешко Моржов.
– Знаете, нет, – сказала Милена с отсутствующим видом и повела плечиком, словно отстраняла что-то досадное или докучное. От движения плеча блузка обтянула одну грудь, проявив контур лифчика. Грудки у Милены были небольшие, как у девушки. Даже и не верилось, что Милена сравнительно недавно кормила младенца. – Мне до Дома пионеров нет никакого дела.
– Я видел по вашему лицу, что поездка в Троельгу вам глубоко не нравится, – возразил Моржов.
– Не нравится, – согласилась Милена. – Она разрушает мои планы. Я рассчитывала в июне заняться частными уроками. Как раз выпускники сдают экзамены, готовятся поступать… В июне – самый спрос на частные уроки.
– И хорош ли заработок с таких уроков? – спросил Моржов.
– Куда больше, чем в Доме пионеров, – непроницаемо ответила Милена.
– Почему же тогда вам совсем не уволиться?
Снова подошёл официант и поменял пепельницы. Моржов ещё и одной сигареты выкурить не успел, а ему уже поставили третью посудину. Может, челяди «Бонапарта» лучше поторопиться с мороженым?.. Моржов оглянулся на официантов под телевизором. Официанты злобно смотрели на Моржова. Моржов отвернулся.
Милена расценила эту паузу как подозрение в своей честности.
– У меня ещё не получается зарабатывать одними уроками, – строго сказала она. – Очень сложно искать желающих. Такое ощущение, что иностранные языки в Ковязине никому не нужны.
– Странно, – неискренне удивился Моржов. – Весь Пикет застроен особняками… Что, дети с Пикета не собираются никуда поступать? Или знаний из школы им достаточно?
Милена задумчиво помешала кофе ложечкой.
– Я не хочу преподавать на Пикете, – сказала она.
– Почему?
– Просто не хочу.
– А вы уже пробовали?
– Да, – совсем сухо призналась Милена.
Моржов понял. Чего ж тут не понять? Живёт в своём домике на Пикете какой-нибудь дядечка лет сорока. Самый сенокос. У дядечки – дочка-абитуриентка. К дочке ходит симпатичная молоденькая училка английского. Незамужняя. Нуждающаяся. Сначала – «хау ду ю ду», потом английский чай в гостиной, потом рюмка бренди, потом дочка идёт заниматься домашними заданиями к себе наверх… Это если кратчайшим способом. Можно и посложней: например, довезти до дома, пригласить на пикник…
Официант наконец-то принёс мороженое. В хрустальных бокалах лежало по три шарика, облитых лимонным соком. Композицию оплетал шоколадный серпантин, а сверху пыжилась роскошная роза – плод долгих творческих терзаний ресторанного Данилы-мастера.
– Это чудо на «Сотби» надо, а не в рот… – пробурчал Моржов, извлекая из салфетки десертную ложечку.
Официант деревянно развернулся и ушёл, будто его оскорбили. В ресторане отчётливо запахло дуэлью.
«Все оч-чень гордые», – подумал Моржов и про официанта, и про Милену. Прислуживать они рады, а служить им тошно.
– Съесть такое мороженое – всё равно что сделать омлет из яиц Фаберже, – сказал Моржов.
Милена улыбнулась и ковырнула ложечкой белый шарик.
Моржов смотрел, как Милена ест мороженое, и думал разные циничные мысли. Почему богатей с Пикета должен платить Милене за уроки английского большие деньги? Он заплатит Милене, сколько та попросит, только если Милена станет его любовницей. А нефиг быть красивой и напрашиваться в дом.
Богатею сколько угодно можно говорить о морали и нравственности, о высоких ценах и низких доходах, о том, что Милена – мать-одиночка, бюджетница, что она не так воспитана, что любит другого и вообще девственница: всё бесполезно. И не потому, что богатей – сволочь. Моржов ставил на место богатея себя: да, Милене надо помочь. Она педагог, у неё ребёнок и всё такое. Он может ей помочь. Денег ему не жалко. Но он всё равно не будет помогать, если Милена не ляжет с ним в постель. Точно так же, как пресловутый богатей с Пикета. В чём же дело?
Эту ситуацию Моржов называл несколько милитаристски – КВ: Кризис Вербальности. Суть его была в том, что слово потеряло способность становиться Делом. Формулируя наукообразно, язык перестал быть транслятором ценностей. Остался просто средством коммуникации. Теперь в каждой фразе приходилось искать подтекст, а для объяснения разговора требовался литературовед. Да и сам Моржов до кодирования общался фифти-фифти с человеком – и сразу с его мерцоидом. Иначе и не поймёшь ни хрена, о чём речь. Дипломатия, блин. Библейский дефолт.
Но факт-то оставался фактом, и Слово обесценилось. На что оно нужно, если оно может обозначать всё что угодно? Если в качестве фигового листка оно прикрывает откровенный срам? Все виртуальные понятия выпали из упаковки, а упаковка превратилась в пустую и жухлую кожуру. И разразился Кризис Вербальности. «Мать-одиночка», «низкие доходы» – это всё шум ветра в чужом лесу. В этих словах уже нет смысла, как в разных «инновациях» и «оптимизациях» – мертворождённых монстриках Манжетова.
Впрочем, КВ распахал не всё пространство. Остались укрепрайоны, уцелевшие от ковровых бомбардировок Кризиса, – некие «группы товарищей». Человеческая конфигурация этих групп определялась особым фактором. Его Моржов назвал ОБЖ: Обмен Биологическими Жидкостями. Понятно, что имелись в виду жизнетворные жидкости, а не разные там плевки-сопли. Честно говоря, таких жидкостей Моржов мог назвать только три: кровь, материнское молоко и сперма. Круг людей, объединённых ОБЖ, и образовывал укрепрайон – зону, неподвластную КВ.
Богатей, готовый платить Милене за уроки английского лишь через постель, таким образом впускал Милену в свой круг ОБЖ, потому что Кризис Вербальности – это ещё и океан одиночества. Выдёргивать из него людей получалось тогда, когда люди соглашались хвататься за спасательный круг ОБЖ. И только там, внутри круга ОБЖ, Милена могла ожидать не только высокой ставки за урок, но и всей прочей помощи, которую один человек должен оказывать другому.
– Вы думаете, найдёте желающих изучать английский язык среди простых смертных Ковязина? – осторожно спросил Моржов у Милены. – И чтобы платили по вашим расценкам?
Милена улыбнулась несколько покровительственно.
– Найду, – заверила она. – Я самостоятельная женщина и сумею обеспечить себя и своего сына.
Пьяный Щёкин как-то признавался Моржову, что хочет написать знаменитый американский супербестселлер под названием «Как заработать миллион многолетним непосильным каторжным трудом». И Моржову стало жаль Милену со всей её хрупкой стойкостью. Эта стойкость приведёт Милену либо к отчаянью и огульной обиде на всех, либо к авторству щёкинского супербестселлера. Но в любом случае на этом пути судьба Милены утратит зыбкое и неуловимое тепло немотивированного счастья. Лучшее, что можно сделать для Милены, – это не денег ей дать, а обмануть её. Включить её в круг ОБЖ так, чтобы она того не заметила и внутри этого круга, убережённая от КВ, продолжала верить в свою наивную правоту.
– Я думаю, что вы неправы, Милена, – ещё осторожнее сказал Моржов. – Это какой-то глянцевый принцип, который в Ковязине не работает.
– Не вы один так думаете, – многозначительно ответила Милена.
Моржов ухмыльнулся: наверняка то же самое Милене уже говорил Манжетов. Видимо, Милена посчитала, что если разные люди столь неоднократно сомневались в её силах, значит такие сомнения шаблонны и банальны. Следовательно – ошибочны. И это Милену вдохновляло.
– Я неплохо знаю язык. – Милена словно шлёпала Моржова. – Такие знания сейчас востребованы обществом. Страна у нас свободная. Энергии у меня хватает. Я не вижу причин, по которым я могу остаться в нищете.
Милена обаятельно улыбнулась и поднялась из-за стола, вытирая пальцы салфеткой. Она посмотрела по сторонам. Официантов не было ни одного, подсказать было некому.
– Туалет, похоже, вон там, – кивнул Моржов.
Он смотрел вслед Милене, всё так же любуясь её фигуркой, но сейчас ему уже не хотелось представлять, как в туалете, нагнувшись, Милена будет приспускать или задирать свою тесную юбку. Что-то больно много его сегодня учили и воспитывали. И охранник, и официант, и сама Милена… Моржов криво растёкся по стулу и вставил в рот сигарету.
Красивая женщина Милена, милая и слабая – ну и оставалась бы такой. Зачем она забила голову этими слоганами? Словно на машине заляпала номер грязью – ни черта не поймёшь. Милена хочет выгодно продать свои навыки. А с чего она решила, что её навыки стоят дорого? Милена не такой уж и великий специалист в английском. Знания её на уровне вуза – и без единой поездки на практику в англоязычную страну. С таким багажом можно найти педагога и подешевле.
Хорошие деньги платят лишь за штучный товар. А штучный товар Милены – это не английский язык, а её красота, молодость, нежность. И не надо считать, что всё делается механически: урок в домашнем классе, отработка в папиной спальне, зарплата – и «до завтра!». Для таких автоматизированных отношений существуют специально подготовленные дамы. Никто не будет принуждать или шантажировать Милену, что за глупости? Но Милена нужна не для языка, а для настоящего романтического романа, для голливудства. Моржов не видел несправедливости такого положения дел. Да, под видом уроков английского Милену наймут для игры в любовное увлечение. Это, конечно, аморально. Но разве сама Милена не провоцирует аморальность, когда под видом эксклюзива – своих познаний в языке – собирается впарить ширпотреб?
Моржов не верил, что богатеи свинее бедняков. Одни других стоили. И если грехов было поровну, то глупо было ожидать неравенства в благодати. Моржов вообще считал, что умный богатей не наймёт Милену даже в том случае, если она назначит разумную цену. Не наймёт, чтобы не искушать себя возможностью влюблённости, на которую он, скорее всего, не получит ответа. Милене не светило ничего. Именно потому, что она была красивой.
Моржов выпрямился, принимая более приличное положение. Он не думал, что Милена потерпит крах со своими планами – и пропадёт. Не пропадёт. Её номер слишком заляпан, чтобы она осталась сама собой и сгинула. Вся интрига заключалась в том, какое оправдание Милена придумает для своего согласия на ОБЖ.
В этом согласии Моржов не сомневался. В общем-то, исходя из сплетен, ОБЖ у Милены уже имел место – с Манжетовым. Чем, интересно знать, Милена его объясняла? Наверное, любовью. Сказать самой себе правду – значит отказаться от благ. Объяснение обычной женской капитуляцией перед напором мужчины – унизительно для такой самостоятельной женщины, которой в свободной стране хватит энергии самой обеспечить себя и своего сына, потому что её навыки востребованы обществом. Вот только вопрос: а что Манжетов даёт Милене в награду за ОБЖ? Если ничего – то моржовские умопостроения низвергаются во прах.
…Но почему всегда приходится обманывать человека, чтобы сделать ему же лучше? Моржов ухмыльнулся. Потому что правда слишком цинична, а все очень и очень гордые. И нет более сподручного способа ссадить женщину с облаков на землю, чем заставить женщину взять деньги.
Моржов быстро посчитал в уме стоимость кофе и мороженого. Вышло где-то рублей четыреста. Моржов вытащил из кармана телефон.
Когда Милена появилась в зале, Моржов орал в мёртвую трубку:
– Да!.. Да!.. Ну хорошо, хорошо!.. Ладно, я говорю!.. Мчусь!
Он встал из-за стола и отодвинул Милене стул, усаживая.
– Простите, ради бога, Миленочка, – виновато сказал он. – Меня сей момент требуют!..
– Да и мне пора, – согласилась Милена.
– Этих официантов шиш дождёшься… Вы заплатите, пожалуйста… Не обижайтесь на меня: очень важное дело!
Моржов положил на стол пятисотку. Сдачу Милене волей-неволей придётся взять себе. Понятно, что потом она просто не вспомнит про сдачу, а потому и не отдаст. На сто рублей, конечно, женщину не купишь, но щепетильность поломается. А щепетильность – единственная преграда между желанием и правдой. Милена удивлённо подняла брови и приоткрыла рот, чтобы возразить, но Моржов уже нагнулся над её плечом.
– Буду вам очень-очень благодарен! – интимно и горячо прошептал он и благородно – лёгким касанием губ – поцеловал Милену за ушком.
Моржовская общага стояла в дальнем конце Пряжского лога наискосок над прудом. Это было хмурое трёхэтажное здание из нечистоплотного кирпича. Над его входом гостеприимно простирался огромный бетонный козырёк – неуместно-дружественный, вроде жокейской шапочки на труженике скотобойни. Общагу выстроили на склоне так, что с фасада она казалась даже четырёхэтажной, но с тыла окна первого этажа смотрели прямо в заросшие клумбы, словно коровы в ящики с сеном.
Комната Моржова была как раз на первом этаже с тыльной стороны и своей застеклённой мордой утыкалась в куст акации. Жильцы общаги не жаловали такие комнаты, а Моржов жаловал. Кроме самоуверенности, воровать у него было нечего, зато ночью сквозь окно можно было перемещаться на свободу и обратно, минуя придирчивую вахту, а также перемещать заинтересованных в этом процессе лиц, оберегающих своё инкогнито.
Стола в комнате Моржова не было. Вместо стола громоздился подрамник с ещё голой пластиной. Блуждая по комнате, Моржов часто всматривался в её пустую и белую пластиковую плоскость, будто в зеркало. Нет, даже не в зеркало. Это поглядывание напоминало ситуацию, когда он ведёт к себе девушку и девушка согласилась «только-только», ещё не понимая, что согласилась «уже», а он по пути украдкой рассматривает девушку и одним лишь чувством, без изображения, предвосхищает всё то, чем девушка сможет поразить его в сумерках. Точнее говоря, такое поглядывание было чем-то вроде попытки бессознательного вызова мерцоида картины. Впрочем, сейчас Моржов сидел на табуретке возле широкого подоконника, пил кофе «три в одном» и любовался утренним пейзажем.
За спиной общаги на склоне уцелел клок выродившегося, одичавшего сквера. Из молодого бурьяна прибоем вздымалась запущенная шпалера акаций. По склону сверху вниз сползала массивная кирпичная ограда, некогда оштукатуренная, а ныне живописно облупившаяся. Руины напоминали вымышленный пейзаж романтизма, в котором античность несколько сдрейфовала в сторону стилистики треста «Ковязингражданстройпроект». Здоровенный ломоть кирпичной ограды откололся от фундамента и был подпёрт длинными тонкими брёвнами, сухими и серыми. За щербатым краем стены зиял огненный майский простор Пряжского пруда. На дальнем берегу мятой ковригой лежала Чуланская гора, поверху растрескавшаяся кварталами соцпосёлка. Через пруд соцпосёлок выглядел весьма уютно, словно бы там действительно построили социализм, но мешали трубы кочегарок – будто какая-то ведьма, пожелав сглазить, наколотила в картинку ржавых гвоздей.
Моржов пил кофе, смотрел на ограду, подпёртую брёвнами, и размышлял, что крепче: кирпич или бревно? Вроде бы, конечно, кирпич. Но что здесь чего подпирает?.. Этот философский обрывок ландшафта часто наводил Моржова на мысль заняться изучением Дао. Вот стал бы он даосистом и сидел бы неделями возле этого окна, как старый самурай в своём Саду камней, размышлял бы о бренности, подпирающей вечность. Или о слабости, которая сильнее силы. Или о живом, которое долговечнее мёртвого. Или о сиюминутном, вроде увлечения симпатичной девчонкой, в жертву которой легко принести всю вселенную… Но уж нет! Буддистам ни хрена не надо, и за девчонками пусть гоняются неугомонные христиане (у мусульман и так всё есть – для них Аллах всегда вовремя подсуетится).
Моржов вдруг отпрянул от подоконника, едва не расплескав кофе: к окну внезапно прилипла физиономия, размазавшаяся по стеклу, как пластилиновая. Моржов чертыхнулся. Это был Лёнчик Каликин.
– Бузди! – сказал он из-за стекла.
Моржов поставил чашку, поднялся и открыл створку окна. Весёлый Лёнчик отлип от стекла, пролез в проём и спрыгнул на пол в комнату. За собой он волочил пустую пластмассовую канистру.
Лёнчик был единственным и ненаглядным сыном комендантши общежития, которая за взятку и поселила здесь Моржова. Лёнчику шёл восемнадцатый годок. До пятнадцатого он худо-бедно прооколачивался в школе, а потом поступил в учагу и полностью переключился на личную жизнь, появляясь в стенах учаги только в дни выдачи стипендии, чтобы собрать дань. Переход Лёнчика с курса на курс и покупка различных контрольных и курсовых работ (а также потребности растущего организма Лёнчика) стоили жильцам общежития необременительных, но регулярных взносов в фонд содержания помещений. Фондом управляла комендантша.
Лёнчик бросил канистру Моржову на кровать и прошёлся по комнате, остановился напротив подрамника с пластиной.
– Новую картину рисуешь? – спросил он. – И чё, много платят за картину?
– Много, – сказал Моржов.
– Ну сколько? Штуку, короче, платят?
– Рублей или баксов?
– А чё, и в баксах платят?
– В баксах платят в один слой, рублями – в четыре.
– Это как? – удивился Лёнчик.
– Сколько бумажек по сто долларов всю пластину закроют в один слой – столько и дают. А рублями – в четыре слоя.
Лёнчик что-то прикинул в уме.
– Даже если косарями, всё равно дешевле выходит, – сказал он.
– Потому и беру в баксах.
Лёнчик почесал нос, скептически глядя на пластину.
– У меня у одного чёрта знакомого отец на мебельной фабрике работает. – Лёнчик повалился на кровать, хотя ноги в кроссовках всё же оставил на полу. – Короче, у них такие здоровые листы бывают, облицовочные. Давай я тебе такой лист принесу, ты на нём картину нарисуешь, а потом деньги пополам распилим. Тебе всяко больше достанется, чем за эту картину. Размер-то маленький.
– В Москве тоже не дураки, – возразил Моржов.
Лёнчик, улыбаясь, положил на кровать и ноги. Моржов встал, вытащил из-под головы Лёнчика подушку, шлёпнул ею Лёнчика по роже и скинул с кровати. Пока Моржов отряхивал покрывало, Лёнчик уселся на его табуретку и допил кофе.
– Короче, я в учаге шакала одного знаю, он тоже хорошо рисует, – сказал Лёнчик, закуривая. – Если я его припашу, будешь его картины продавать?
– Не сам ведь я продаю, – ответил Моржов. – Продают другие, кто умеет. А у меня берут по блату. У твоего шакала блата нет… Ты чего ко мне с канистрой заявился?
– Мать за водой на родник послала. Я у тебя перекантуюсь с полчасика, потом из-под крана воды налью и отдам ей.
– Понятно, – кивнул Моржов.
– Мать солёных огурцов с молоком нажрётся, потом продрищется и стонет: «Экология хреновая!» Гоняет меня, блин, на родник за чистой водой. Сама бы и шла, если надо.
Моржов усмехнулся. Ситуация была отечественная, знакомая до умиления. Моржов называл это ТТУ – Титанический Точечный Удар. Это когда всё идёт вкривь и вкось, но поправлять и чинить каждую детальку неохота. Требуется «чудо-оружие». Выбирается какое-нибудь левое обстоятельство, которое хоть как-нибудь годится для объяснения причин неудач. По этому обстоятельству и наносится сокрушительный удар всеми имеющимися силами. Моржов мог назвать уже довольно много видов ТТУ: а) сбрить бороды; б) напасть на Японию; в) расстрелять всех «врагов народа»; г) объявить сухой закон; д) ввести сертификаты в дополнительном образовании. Согласно теории, после Титанического Точечного Удара всё должно наладиться само собой. В худшем случае борьба с последствиями ТТУ отвлечёт от нужд насущных, что тоже уже неплохо. И в таком аспекте родниковая вода оказывалась отличной панацеей от безмужья, безденежья и сына-шпанюги. Пока рассудок поглощён поиском благотворных изменений в организме, вызванных промывкой организма экологически чистым продуктом, всё прочее становится несущественно.
– Слушай, Борька, а где ты деньги хранишь? – улыбаясь, напрямую спросил Лёнчик.
– На карточке, – ухмыльнулся Моржов.
– Покажи, – предложил Лёнчик.
– Жопу полижи, – доступно Лёнчику ответил Моржов.
Лёнчик заржал.
– Тебя всё равно скоро выселят отсюда, – заявил он.
– С какого это хрена? – разозлился Моржов. – Я твоей матери заплатил? Заплатил. Ты на чьи деньги бухал целый месяц?
– Дак ремонт на первом этаже делать будут, – пояснил Лёнчик. – Весь июнь, короче. Весь этаж и выселят.
Моржов подумал, что теперь его переезд в Троельгу неизбежен вдвойне. Слава богу, что этим американцам приспичило отдохнуть в России. Заграница, как всегда, помогла.
– Ну, пока ремонт – съеду. А потом вернусь, – сказал Моржов.
– А если мать твою комнату заселит?
– Ещё лучше. Вернусь – а тут уже три бабы готовы. Я давно твоей матери предлагал, чтобы она меня куда-нибудь к бабам поселила, а не отдельно.
Лёнчик снова заржал.
– Ты знаешь бабу, которая прямо над тобой живёт? – Лёнчик ткнул пальцем в потолок. – Надька зовут.
– Видел.
– Ничо ведь баба на морду, а? Отличница, всё такое. Последний курс. Слышал, сегодня ночью она орала?
– Не слышал, – осторожно сказал Моржов.
– Я ей, короче, целку порвал.
– И где это она об тебя целкой зацепилась?
– На набережной. Сначала выпили по чуть-чуть, потом проводил её домой. Она, короче, сама и пригласила.
Лёнчик Каликин, весело и победно глядя на Моржова, дунул дымом в открытое окошко, в куст акации, молодо и ярко зеленеющий в солнечном блеске.
Моржов залюбовался Лёнчиком. Короче, вот она – весна человечества, открытая чувственность в чистом виде. Лёнчик был очень красив. Красив какой-то отважной, комсомольской красотой: светлые волосы сыпались на высокий лоб, но при всей мужественности лица губы Лёнчика были свежие, как у девушки, а глаза – глубокие и нежные тёплым ореховым сумраком.
– Тебе сотовый телефон нужен? – спросил Лёнчик. – Отдам за пятихатку. Я его у одного чёрта взял.
«Взял» – значит отнял или спёр.
– У меня есть сотник, – отклонил предложение Моржов.
Лёнчик подумал, и глаза его опасливо сверкнули. Он привстал, выглянул в окошко и потом шёпотом предложил:
– А пэ-эм хочешь?
– Что такое пэ-эм? – не понял Моржов.
– Ну, пэ-эм. Ствол, короче. Настоящий.
Моржов понял не сразу. Ему вообще не нравился этот плебейски-брутальный способ наименования. Если пистолет – значит, ствол. Если вертолёт – значит, борт. Стадо – значит, сто голов. Эскадрон – двести сабель. Взвод – тридцать штыков. В таком контексте совсем иначе воспринимались выражения типа «члены партии».
– Откуда у тебя «Макаров»? – сдержанно удивился Моржов.
ПМ так запросто у чёрта какого-нибудь не возьмёшь.
– Говорить-то нельзя, – осадил Моржова Лёнчик и тотчас сказал: – Сергач толкает, а я принесу. Тебе самому он не продаст.
Сергач – это Валера Сергачёв, известный в Ковязине персонаж. Вот раньше были враги народа. Они народу бескорыстно вредили, народ их выдавал властям, власти их сажали в тюрьму. А Валера Сергачёв был другом народа. Он народу корыстно помогал, за это народ молчал о нём в тряпочку, а власти Валеру покрывали. Даже не то чтобы покрывали – Сергач и сам в определённой степени был представителем властей: инспектором ковязинского батальона дорожно-постовой службы. Через ДПС он и имел все связи и в ментовке, и в прокуратуре. Этот пистолет небось был у какого-нибудь следака каким-нибудь вещественным доказательством в деле, которое внезапно перестало нуждаться в вещественных доказательствах. Пистолет поступил в свободное обращение.
Моржов размышлял, глядя в ясное лицо Каликина. Если ехать в Троельгу, в эту неизвестную ему пьяную деревню, да ещё с американцами, да ещё и с тремя отечественными девицами… Костёрыч, Щёкин – не защита. ПМ – защита.
– Возьму, – согласился Моржов. – Только учти, Каликин, я ведь могу и застрелить кого-нибудь. Например, тебя.
– Там патронов мало, всего обойма, – хохотнул Лёнчик.
– Можно подумать, тебя застрелить – так три ленты пулемётные нужны.
От моржовской общаги до Крестопоклонной площади можно было дойти по улице Маршала Рокоссовского. Никто не знал, какое отношение Рокоссовский имел к Ковязину. Но ближе к центру, когда из-за крыш и труб двухэтажных купеческих особняков начинала вздыматься дырявая и щербатая громада Спасского собора, складывалось впечатление, что Рокоссовский здесь всё-таки как-то в тему…
Улицу Рокоссовского поверху пересекали многочисленные рекламные растяжки, словно лозунги первомайской демонстрации.
Перед здоровенным ангаром металлорынка висела первая растяжка: «Нержавеющие стали!». Знак восклицания, видимо, означал радость тех анонимов, которые раньше были ржавеющими, а вот теперь справились со своим недостатком. Моржов тоже порадовался, что они наконец-то стали неподвластны коррозии.
«Бутилированная вода», – читал Моржов дальше… Нету в русском языке глагола «бутилировать». Есть выражение «разливать в бутылки». Но «разлить в бутылки» – это просто взять и разлить, а «бутилировать воду» – значит произвести над водой некое облагораживающее действо. По улице Маршала Рокоссовского Моржов шагал к площади под Черепом в Гостиный двор, чтобы тоже произвести над собой некое облагораживающее действо – штанировать задницу.
«Варим гаражи», – читал Моржов следующую растяжку.
Вообще-то, конечно, задница Моржова была уже достаточно штанирована, но Моржова не удовлетворяло целеполагание собственной штанации. Штанация была ориентирована на МУДО, на улицу города, на комнату общаги. Пребывание задницы в Троельге выпало из пакета вариантов штанации. Приходилось спешно развивать базовые фонды.
Обогнув бетонный угол ограды вокруг собора, Моржов прочёл последнюю бессмысленно-ликующую растяжку: «Мы открылись!». Эту растяжку повесили ещё зимой – после перестройки старинного Гостиного двора под современный гипермаркет. Видимо, когда сеть гипермаркетов разорится, эту растяжку легко можно будет скорректировать на «Мы накрылись!».
Превращение Гостиного двора в гипермаркет практически никак не сказалось на его облике. Насколько знал Моржов, таково было условие областного комитета по охране памятников, когда решался вопрос о передаче исторического здания в долгосрочную аренду сети гипермаркетов «Анкор».
«Анкор» ничего не изуродовал, только перекрыл пирамидальной стеклянной кровлей квадратное пространство внутри торгового каре. Похоже, что архитектору сети «Анкор» не давали покоя лавры того китайца, что водрузил стеклянную пирамиду перед самим Лувром. Впрочем, снаружи эта кровля, как подсознание, не просматривалась.
Из новшеств на себя обращал внимание большой плазменный экран, изящно помещённый во фронтон туда, где раньше красовался гипсовый герб города Ковязина. Моржов, конечно, понимал, что есть какие-то причины, чтобы называть такой экран плазменным. Но после фантастики, прочитанной до девятого класса, термин «плазма» ассоциировался у Моржова со звёздами, протуберанцами, фотонолётами, а уж никак не с телевизором, даже очень большим. Наверное, авторы этого термина считали его словечком интеллектронной, постиндустриальной цивилизации, а Моржов всё никак не мог переварить эту напыщенность. Выражение «плазменный экран» было для него такой же кентавромахией, как «лазерная клизма». Впрочем, в каком-то смысле плазменный экран и был лазерной клизмой.
Обычно на экране крутили рекламные ролики поставщиков «Анкора». Это вызывало страшный гнев продавцов соседнего рынка-толкучки. «Конкуренцыя, ёбтыть!» – негодующе поясняли они. В той своей части, которая выходила на фасад гипермаркета, рынок галдел особенно оголтело. Но сейчас на экране показывали переписанное с телека интервью Наташи де Горже – владелицы сети «Анкор». Внешне Наташа немного походила на Милену Чунжину. Моржов приближался к Гостиному двору, с удовольствием разглядывая эту де Горже. Он бы не отказался, чтобы она была «де Морже».
Наташе было года двадцать два. Как в таком возрасте она исхитрилась сколотить империю из гипермаркетов, Моржов не знал. Самому ему в двадцать два года не всегда хватало денег даже на опохмелку. У Моржова было несколько предположений об источниках Наташиных богатств, но все они характеризовали скорее самого Моржова. А Наташа выглядела и вела себя как маленькая девочка, которая никак не могла погрузиться в пучину грехопадения до тех глубин, которые воображал себе Моржов.
– Сеть «Анкор» состоит уже из четырнадцати предприятий формата жёсткого дискаунтера, разнесённых по всей области, – пискляво рассказывала Наташа на всю Крестопоклонную площадь. – Хотя, конечно, наибольшая их концентрация – в областном центре. Если говорить о нашем самопозиционировании, то можно выделить два смысла нашей сети. Мой общественный долг как руководителя – донести идею, концепцию, философию сети «Анкор», которая ныне имеет лидирующие позиции в продовольственном ритейле региона. Именно эти ценности исповедует менеджмент компании…
«Вы, значит, не торгуете!.. – осенённо обратился Моржов к Наташе. – Вы ценности исповедуете!.. А-а!..»
У стеклянных самораздвижных дверей Гостиного двора Моржов вдруг увидел Соню Опёнкину – ту пухленькую девушку, которую Шкиляева запланировала упечь в Троельгу вместе с ним и со всеми прочими. Наташа де Горже вмиг превратилась в абстракцию. Моржов косо взбежал к Соне по ступенькам.
– Сонечка, здра-авствуйте! – ласково пропел он.
Соня оглянулась и стеснительно заулыбалась.
– Ждёте кого? – Моржов чуть наклонился к ней.
Соня засмеялась и прикрылась ладошкой.
– Я дверей… Ну, боюсь, – сказала она. – Не могу понять, типа как они открываются… Вот врежусь лбом в стекло…
– Не врежешься, – заверил Моржов, сразу переходя на «ты», потому что сейчас Сонечка не отразит его форсированной интимизации общения. Моржов под локоток повлёк Соню к дверям. – Там в подвале специально обученный человек сидит, – ворковал он по пути, – а здесь в полу щёлка. Человек смотрит в щёлку и видит, что идёт симпатичная девушка. Он сразу на кнопку жмёт, чтобы дверь открылась. Так что в-в-в… тебе ничего не грозит. Тем более, ты со мной!
Моржов выпятил грудь, двери послушно разъехались, и Моржов сделал длинный журавлиный шаг в магазин.
– Ну вот, мы и попали! – объявил он, заводя Соню в холл. Словно от избытка чувств, вызванных победой, он слегка приобнял Соню. Сонечка смеялась. Моржов поглядел на неё и понял, что Соня, как кошка, вызывает желание постоянно тискать её.
– Вам куда? – лучезарно спросил Моржов и чуть не отвесил сам себе подзатыльник, потому что опять соскочил на «вы».
– Да я как бы сумку хотела купить… Ну, чтобы ехать в этот лагерь, – беспомощно призналась Соня.
Моржов многозначительно поднял палец.
– Я знаю здесь одно местечко, – таинственно сообщил он, – особый отдел. Только для избранных. Называется «Сто тысяч любых сумок для Сонечки». Предлагаю обмен.
– Какой? – смущённо-кокетливо спросила Соня.
– Я иду с тобой за сумкой, а потом ты идёшь со мной…
– Куда? – тихо спросила Соня.
– Я не могу говорить об этом с девушкой без сумки. Пускай девушка хоть без всего будет, особенно если она так же хороша собой, как ты. – Моржов отступил на шаг и волнистыми линиями обрисовал в пространстве пышные очертания Сонечки. – Но девушке без сумки сказать не могу. Извини – принципы.
Моржов уже неоднократно убеждался: наивные девочки города Ковязина считали, что если человек в очках, значит, он приличен и безопасен. Значит, с ним можно заигрывать весьма фривольно. На излишне крутых виражах флирта таких девушек обычно и выбрасывало из колеи в постель к Моржову.
Моржов повёл Соню по залам гипермаркета, положив руку ей на талию. Ладонь словно невзначай съезжала с вертикали талии и останавливалась на крутом изгибе попы. Народу в залах толклось много, и потому для мужчины вполне уместным казалось держать руку на талии девушки – это выглядело как круг-оберег. Поскольку зад у Сонечки оказывался значительно шире талии, моржовской руке даже полагалось спуститься на ягодицу, чтобы увеличить диаметр этого охранного круга. В глубине рассудка (явно, впрочем, мелковатой глубине) Соня, конечно, поняла, что её как-то уж очень быстро взяли за булку, но не трепыхалась, а смущённо покорилась.
Евроремонт в Гостином дворе поднялся только до начала сводов старинного потолка, а дальше ограничился люминесцентными нервюрами по рёбрам арок. Сверху свисали яркие флажки с надписями «Скидка 15 %!», «Скидка 30 %!», «Скидка 50 %!». Похоже, Наташа де Горже решила облагодетельствовать весь сектор клиентуры среднего достатка. Количество флажков было как на крейсере «Аврора» в день Седьмого ноября. В толпе мелькали юноши-продавцы и девушки-продавщицы в жёлто-зелёной униформе и в бейсболках. Они не стояли за прилавками, а активно общались с клиентами, словно старые добрые друзья. Девушки даже дарили детям жёлто-зелёные шарики. В сочетании с вызывающе мёртвыми манекенами всё это выглядело как-то уж очень грозно.
С экранов на простенках пищала сама Наташа:
– Положение нашей компании я бы оценила как стабильно успешное. Работая в формате жёсткого дискаунтера, мы получили хороший экономический эффект, склоняя поставщиков к изменению закупочных процессов и ассортиментной матрицы на получение наименьшей закупочной цены. Нам интересно работать креативно, выстраивать новые логистические процессы и апробировать новационные подходы в сегменте потребителей среднего уровня. Эскизный проект региональной экспансии «Анкора» был построен с учётом мировой практики деятельности дискаунтеров как в направлении потенциального клиента, так и в направлении потенциального оператора…
Под щебет Наташи Моржов и Соня свернули в отдел сумок. Гомон голосов и шарканье шагов чуть отдалились. Жёлто-зелёный молодой человек, улыбаясь и склонив голову, уже спешил к Соне.
– Как вам помочь? – спросил он.
– Мы сами, – отрезал Моржов, поворачиваясь к стеллажам. – По стране из края в край ходит мальчик Помогай… – пробормотал он стишок времён советско-китайской дружбы.
– Состоявшийся бренд позволяет нам проводить политику операторских тендеров, а это для нас понижает естественный барьер – финансовые возможности населения, – из-за стойки с сумками уверяла Наташа де Горже. – Для других региональных предприятий мелкой розницы наша политика неприемлема в силу слишком высоких для них рисков, а мы уже можем позволить себе конкуренцию ещё и по принципам качественности и системности…
– Я вон там посмотрю, можно? – спросила Соня, которую магнитом притягивали дамские сумочки.
Моржов кивнул, деловито выворачивая объёмистый баул и разглядывая швы.
– А что вы скажете о непрофильных направлениях деятельности сети? – врезался в Наташину речь голос журналиста.
– Надо глядеть правде в лицо. То, что в условиях рынка считается непрофильным, в общественном плане имеет доминирующее значение, – не умолкала Наташа. – Пусть конкуренты и расценивают подобную деятельность «Анкора» как косвенный промоушн, но рядовой потребитель относится иначе. У нас иной принцип оптимизации активов, нежели принято среди обычных сетевиков. Начнём с того, что наши якорные арендаторы – это муниципалитеты. А они являются таковыми в силу бюджетных дефицитов, препятствующих самоопределению культурных и исторических объектов…
Моржов положил баул на место и взял другой. «Может, Соне лучше взять с собой рюкзак, а не сумку? – подумал Моржов. – Нет, спортивная сумка – удобнее. Да и женственнее».
– У нас особое отношение и к персоналу, – вещала отовсюду Наташа де Горже. – Продавцы проходят курсы специальной подготовки, где их учат не только разбираться в товаре, но и общаться с людьми, находить контакт с любым человеком. Наш продавец не отделён от клиента прилавком, как Китайской стеной. По сути, наши продавцы не продают – они помогают сделать покупку…
Моржов оглянулся. Соня стояла возле дальнего стеллажа. На её плече уже висела какая-то сумочка. Поправляя на плече Сони ремешок, перед Соней суетился мальчик Помогай. Он даже чуть приседал от усердия – казалось, что он хочет поцеловать Сонечку прямо в наливную грудь. Соня имела всё тот же смиренно-покорный, смущённый – и очень довольный вид. Она стояла перед продавцом, словно обнажённая – перед симпатичным холостым доктором. И стыдно – и сладко; и делу польза – и безопасно. Поодаль кругами ходил другой жёлто-зелёный Помогай, которому, видимо, тоже было что поведать Соне о дамских сумочках.
Моржов устало опустил выбранный баул на стеллаж.
– Нет, эта модель вам не подойдёт, – критическим тоном говорил продавец и всё двигал на Соне ремешок, кончиками пальцев невесомо касаясь упругих Сонечкиных выпуклостей и округлостей. – Я хотел бы узнать, к какому стилю вы подбираете аксессуар? Молодёжный, джинсовый, раскованный стиль унисекс позволит вам сохранить свободу общения. Для него требуется что-либо изящное и небрежное, быть может, несколько грубоватое. Но вы – девушка изящная, и это вам пойдёт.
Соня была девушкой вовсе не изящной, а откровенно и даже с перебором чувственной. Но молодой человек уже знал, что любой девушке приятно, когда её называют изящной. Соня млела.
– Может быть, вы предпочитаете джинс, но с подчёркиванием пола – джинс сексапил? Это уже акцентировка самостоятельности, независимости, даже некоторого вызова. Тогда требуется нечто вызывающее, броское: длинный узкий ремень, остроугольная форма… Но без вычурности, без накладок, клёпок, блеска…
– Может быть, девушка предпочитает офисный стиль? – авторитетно подключился второй Помогай. – Деловой, сдержанный. С вашими яркими формами вам больше подойдёт брючный костюм строгого, но не глухого цвета. Тогда и сумочка…
Соня даже приоткрыла рот, внимая продавцам. Она послушно глядела на себя в зеркало так удивлённо, словно видела себя в первый раз. Моржов не выдержал. Эти фраеры не сумки продавали – они учили жить. Но сюда, в этот магазин, пусть это даже и гипермаркет, он, Моржов, пришёл за штанами, а Соня – за сумкой, а вовсе не за смыслом жизни. Моржов плечом вклинился между Помогаями и Соней.
– Ребята, достаточно, всем спасибо, – сказал он, бесцеремонно снимая с Сони очередную сумочку, и не смог удержаться от сдачи: – За сумкой мы съездим в бутик, там специалисты. Пошли, Сонечка.
Моржов расплатился за баул и вывел Соню из отдела за руку, словно нашкодившую девочку. Он поднял баул, сжав обе его ручки в кулаке, и показал Соне так, что его кулак оказался напротив её носа.
– Хорошая штука, – весомо сказал Моржов. – Тебе как раз.
– А это… ну, деньги? – растерялась Соня.
– Дарю, – недобро ответил Моржов.
Ничего не объясняя, он снова по-хозяйски взял Соню за попу и повлёк рядом с собой. Мысли его вдруг приобрели какое-то ожесточённое направление.
Чего он хочет? Да ничего особенного. Ему понравилась эта наивная толстушечка, и он хочет с ней потрахаться. Желательно далеко не раз. Без принуждения, без лечения мозгов, без унижения. Потрахаться, не трахнув самое ценное, что в ней есть, – её душу. Наверняка в Троельге его мечты и воплотятся. Чем же он недоволен? Тем, что всё равно хочется трахнуть душу.
Вот были бы они любовниками… Что бы тогда Соня ответила на вопрос подружки: «Кто он, твой Моржов?» А ничего бы не ответила. Смутилась бы, плечами пожала. Какой-то там художник, какие-то картины в Москве продаёт – что-то несерьёзное, несолидное. Практически одна стыдобища. Всякие там Галери д’Кольж и капеллы Поццо и Бьянко, где выставлялись моржовские пластины, для Сони значили не больше, чем индекс Доу-Джонса для Марфы Посадницы. Ах, если бы Соня могла сказать подружкам: мой бойфренд работает в «Анкоре» Помогаем – аж в отделе кожгалантереи! О-о-о!..
Кругом, блин, одни помощники, подумал Моржов. Что за мир, где вся обслуга стала руководителями? Моржов огляделся: везде мелькали жёлто-зелёные Помогаи. И девочки, и мальчики – все были симпатягами. Наверное, и умницами тоже. Вряд ли Наташа де Горже берёт на работу идиотов. Такое количество приятной молодёжи… И это в заштатном, банальном, алкогольном и наркоманском городе Ковязине! Это же сливки города. Молодые, красивые, непьющие, умные. Но почему все они – Помогаи?
Моржов догадался, что попросту завидует. Он-то думал, что поселился в общаге, как кот в мышином питомнике. Но лучшие девки оказались здесь. Кто там, в общаге? Серые мышки, скромные зажатые зубрилки из окрестных сёл… А красавицы – тут: все в коротких зелёных юбочках, разлетающихся над свежими ляжками. Моржов подумал, что он наивно гордился собственным развратом, а истинный-то разврат – вот он, хотя возможно, что здешние мальчики даже не прикасаются к здешним девочкам.
Ну, взял он Соню за булку, и что? Неужели сейчас в примерочной, где он станет выбирать себе штаны, Соня ему отдастся? Нет, конечно. Для этого надо везти её в Троельгу. А вот этому Помогаю она отдастся хоть где и хоть когда. Потому что Помогай сначала её мозги трахнул, а дальше Соне за честь будет, если он соизволит и все остальные её места посетить. Моржов был и умнее, и интереснее, и опытнее этого Помогая – и богаче тоже, но ему с Соней придётся куда сложней, чем Помогаю. А трахать мозги, чтобы открыть себе путь к прочим секретам, он не мог, потому что мозги у Сони были несовершеннолетние и трахать их было грехом. «Малых сих» Моржов не соблазнял.
– Команда «Анкора» подбирает площадки на скрещениях транспортных и человеческих потоков, и в силу исторических причин нас и муниципалитеты буквально «прижимает» друг к другу, – неостановимо чирикала в телевизоре Наташа де Горже. «Не отказался бы я, чтобы меня к тебе прижало», – мрачно подумал Моржов. – Зачастую муниципалитеты становятся даже нашими внешними соинвесторами. И нам это выгоднее, чем банковские кредиты. Получается, что мы выступаем с муниципалитетами единым фронтом, и в достижении собственных целей нам не приходится перепозиционировать объекты, а наоборот – возвращать устаревшим структурам их изначальный смысл, модернизированный с учётом современных систем функционирования. В этом, на мой взгляд, и кроется успешность и востребованность предприятий «Анкора». Новое предприятие в райцентре Ковязин – ярчайший пример нашего сотрудничества на благо жителей города…
– Житель города решил купить себе штаны! – заводя Соню в отсек с одеждой, объявил Моржов и Соне, и девочке-продавщице.
И Соня, и продавщица несколько оторопели.
Моржов провёл ладонью по ряду висящих штанов, сунул руку вглубь и вытащил держалку, на которой болталось что-то неопределимое. Моржов сдёрнул штаны с прищепок, приложил к себе и повернулся к Соне в фас.
– Красиво? – с вызовом спросил он.
Сонечка не знала, что ответить.
– Померяем! – бодро заявил Моржов.
Он откинул шторку примерочной, затащил за собой Соню и задёрнул шторку.
– Закрой глаза, – велел он Соне.
Соня, похоже, закрыла бы глаза и без приказа.
Моржов проворно спустил джинсы и остался в одних трусах, на которых по белому полю были нарисованы бледно-синие трахающиеся крокодильчики.
– Держи! – Моржов сунул джинсы Сонечке в руки и полез ногой в новые штаны.
Одна нога прошла свободно, а другая вдруг за что-то зацепилась – это большой палец попал в загиб подвёрнутой внутрь штанины. Но Моржов переодевался так стремительно, что уже не мог остановить движение, не мог сбалансировать себя. На мгновение он, согнувшись, застыл на одной ноге, держа на весу штаны, в которых заклинило вторую ногу. Потом его начало неудержимо клонить вперёд. Изрыгая нечеловеческие проклятия, Моржов башкой сорвал шторку и на одной ноге, не меняя позы, в спущенных штанах бешено запрыгал по магазину под изумлёнными взглядами продавщицы, Сони и Наташи де Горже.
– Сергач, у тебя девчонка найдётся?
– А это кто звонит? – недоверчиво спросил Сергач.
– Моржов. Не узнал, что ли?
– А-а, Борян… Тебе на сколько надо?
– Смотря какую. Если как в январе, тогда минуты на три.
– Всё мудишь? – засмеялся в телефоне Сергач. – Ладно, сейчас мой человечек привезёт. Тебе куда обычно, да?
– Куда обычно – что? И кому? Мне или ей?
– Пошёл на хер, – с удовольствием сказал Сергач и отключился.
Моржов сидел на скамейке во дворе районной бани. Заводить шлюшек в сауну он предпочитал со двора, чтоб не светиться. Двор был огорожен дощатым забором и засыпан утрамбованным шлаком. По кучам угля прыгали воробьи. Сбоку стоял полуразрушенный грузовик без передних колёс; в брылья его подпирали два чурбака. Ржавая и чёрная труба кочегарки, укреплённая двумя железными растяжками, торчала в красно-синее закатное небо. Заднюю стену бани покрывала дряблая, осыпающаяся штукатурка. Узкие потные окна понизу были закрашены, а из форточек валил пар и звучал шансон.
Моржов курил, ждал и слушал. «А девчонка хорошая всё надеялась, милая, что Алёшку отпустят хоть на пару минут. Но сказали конвойные: “Ты не стой здесь, красивая. Расстреляли парнишечку, он уже не придёт!”» Язык был родной, край отчий, а быт общий, но порою Моржов казался себе инопланетянином. Всё здесь было не по его мерке. Никак не выходило у Моржова ощущать себя мерой всех этих вещей… Если ему случалось поджидать шлюшку на улице зимней ночью, глядя на звёздное крошево над Ковязином, он особенно ярко чувствовал, что половой акт с незнакомой проституткой неуловимо родствен трансляции радиосигналов во вселенную наугад – по программе «SETI».
Хрустя шлаком, во двор бани завернула потрёпанная белая «Волга» с дочерна затонированными окнами. «Волга» принадлежала Сергачу. Она остановилась, словно рассматривала Моржова, а потом передние дверки открылись. С водительского места вылез Лёнчик Каликин, с другой стороны – какое-то чучелко с жутко намазанными огромными глазищами и в мини-юбке.
– Здорово! – протягивая руку, весело крикнул Лёнчик. – Алёнка, иди сюда! Это Борька, мой дружбан.
Чучелко неуверенно приблизилось, проваливаясь тонкими каблуками в шлак.
Моржов молча протянул деньги.
– На два часа берёшь? – быстро пересчитав, уточнил Лёнчик и шлёпнул чучелко по заду: – Алёнка классная девка!..
Чучелко фыркнуло.
– Слышь, Алён, ты его по высшему сорту обслужи, – наставительно предупредил Лёнчик, запихивая деньги в карман джинсов. – Перед ним Сергач на цырлах ходит.
– Да поняла я… – кивнула Алёна и вдруг переполошилась: – Ты чего деньги себе забираешь? Сергач сказал, чтобы ты мне отдал!..
– Тебе зачем? – удивился Лёнчик и засмеялся. – Ты же потом домой пойдёшь.
– Лёнька, отдай! – возмутилась девчонка. – Я же знаю, ты всё просадишь! Иди тогда сам трахайся, если за меня берёшь!
– Ну-ну! – предостерёг шлюшку Лёнчик, приобнял и поцеловал в щёчку. – Давай не кобенься! Отдам я тебе завтра.
– Врёшь, – печально вздохнула девчонка и любяще поглядела на Лёнчика. – Сволочь ты, Каликин…
– Будешь обзываться – будешь пешком топать.
– Всё равно машина Сергача, а не твоя! – вслед Лёнчику крикнула девчонка. – Я Сергачу пожалуюсь!..
Лёнчик засмеялся, влез в машину и дал такой гудок, что Моржов и девчонка подпрыгнули на месте.
– Козёл! – обиженно сказала девчонка без всякой злости, повернулась и привычно пошла к дверям.
Сауна располагалась в подвале, куда вёл узкий коридор со ступеньками. Девчонка держалась за стены обеими руками. Моржов молча шагал сзади, глядя, как слева направо залихватски болтается собранный почти на макушке конский хвост этой Алёны. Кобылки, распаляя жеребцов, так же задирают хвосты.
Алёна с трудом вытянула на себя толстую дверь сауны, без остановки прошла сквозь раздевалку и уселась на лавочку возле стола. Облицованная жёлтым кафелем, сауна была совсем маленькой и тесной. Стеклянная дверка вела в парилку – нелепую и жутко неудобную; было ясно, что её соорудили просто из приличия. Душевая кабинка уступала размерами даже шкафу. Лишь деревянный стол был широким и просторным. Его построили размером примерно с кровать.
Глядя на Моржова, Алёна улеглась грудью на стол и вытянула руки. Жалобно надув губы, она спросила:
– А ты не можешь дать мне триста рублей?
– Могу, – усмехнулся Моржов и уселся рядом. – Дам потом.
– Тебя как зовут?
– Борис.
– Боренька, купи мне пива, а? – тотчас попросила Алёна.
– Ну вот блин! – удивился Моржов. – Я заплатил за время – и буду по ларькам гонять?
– Ну пожа-алуйста… – заканючила Алёна. – Мне пло-охо…
Моржов тяжело и недовольно вздохнул.
– Ладно, – согласился он. – Я схожу. Но чтоб когда я вернулся – ты уже раздетая была.
Он встал, вышел из сауны, поднялся по узкому коридору-лесенке, прошёл через тамбур и очутился в холле общественной бани, где располагался буфет. В буфете сидели и пили пиво потные, разморённые мужики, вышедшие сюда из парилок прямо голыми, только с полотенцами на бёдрах. Красивая, но немолодая продавщица буфета всё в жизни уже повидала, а потому эти мужики со своими бицепсами, татуировками и шерстью ей были безразличны, как тигрице огурцы. Моржов знал, что буфетчицу зовут Анжела. Моржов хотел взять банку пива, но потом одумался и взял сразу три бутылки.
Когда он вернулся, Алёна полусидела-полулежала на столе всё в той же позе, но теперь уже была туго обёрнута простынёй. Моржов со стуком выставил перед ней бутылки.
– Открой… – бессильно попросила Алёна, глядя на него снизу вверх своими огромными нарисованными глазищами.
Моржов сбил с бутылки пробку одним сокрушительным ударом горлышка по краю столешницы.
Алёна медленно распрямилась и взяла бутылку. Вставляя её горлышко в рот, она с коровьей выразительностью поглядела на Моржова, мимикой привычно намекая на одно из удовольствий, но в остановившемся взгляде читалась только жажда опохмелки.
Моржов присел рядом с Алёной, обнял её и не без труда приспустил простынь ей до живота. Грудки у Алёны были совсем ещё девчоночьи, небольшие, одновременно кругленькие и острые, но острые сами по себе, не от желания.
– Тебе сколько годочков, красавица? – спросил Моржов.
– Двадцать, – с вызовом ответила Алёна, поставив на стол почти пустую бутылку.
В том, что восемнадцать-то ей точно исполнилось, Моржов убедил себя почти сразу же – быстро, но неловко, словно бесформенную подушку запихал в чужую наволочку.
– А ты ничего, симпатичный, – сказала Алёна, оглядывая Моржова и улыбаясь. – А почему очки носишь? Зрение плохое, да? Наверное, много читаешь?
– Я очень добрый, – сердечно пояснил Моржов, – поэтому много плачу. Вот зрение и село. Полегчало тебе? – Он кивнул на бутылку.
– А что ты думаешь? Я не пьяная! – тотчас встопорщилась Алёна и отвернулась. – Нам Сергач вообще запрещает пить на работе!
Её грудка лежала в ладони Моржова, как птенец в гнезде. Свободной рукой Моржов повернул лицо Алёны к себе и велел:
– Дыхни!
Алёна закатила глаза – в знак своей покорности дурацкому требованию клиента – и дыхнула носом и в сторону. Пахло от Алёны девичьей свежестью и водкой. Моржов посмотрел на свою большую и тёмную ладонь на белой Алёнушкиной груди и почувствовал себя очень старым. Похоже, что отцовского в нём становилось уже больше, чем плейбойского. Сейчас ему хотелось взять эту дурочку за руку, отвести домой, уложить в постель и ещё посидеть рядом, покараулить, чтобы никуда не убежала и уснула.
Но Моржов отодвинул это желание в сторону, словно мешок с картошкой задвинул ногой под стол. Освободившись от Алёны, он принялся раздеваться.
– Где нахрюкалась-то? – спросил он, нагнувшись, чтобы стащить носки.
– Угощали, – туманно ответила Алёна. – Я целый день уже на работе… Чо, не железная ведь.
Моржов собрал свою одежду в ком и перекинул через стол на противоположную скамейку. Потом взял вторую бутылку и открыл об столешницу. Потом с натугой вытянул из-под Алёны её простыню. Животик у Алёны был едва-едва округлым. Алёна тотчас плотно сдвинула ноги.
Моржов положил ладонь ей на коленку, круглую, как яблоко, и покачал, расшевеливая. Алёна не желала раздвигать колени.
– Скромничать будем? – спросил Моржов.
– Не все же такие, как ты, – буркнула Алёна.
Моржов молча погладил её по щеке, по груди, по животу. Алёна отвернулась.
– Иди хоть в душ сходи, – недовольно сказала она.
Вообще-то Моржов позвонил Сергачу после того, как вышел из бани. Но спорить он не стал, а поднялся и ступил в душевую кабинку. Он пустил одну горячую воду – и всё равно хлынула ледяная, остывшая в трубах. Моржов напоказ обтёр себя руками, не сводя с Алёны взгляда. Она сидела за столом голенькая, сердитая и пьяная. Моржов изумлялся природе: с какой смелостью, с какой нежностью, с каким великим бесстыдством природа ваяла этих молоденьких девчонок. И какой же сивухой были наполнены эти чудесные амфоры.
– Чо ты смотришь на меня? – обиженно крикнула Алёна и отвернулась. Новый ракурс, как на кристалле, только расслоил её облик радугой спектра. А может, это вода попала в глаза.
Мокрый Моржов встряхнулся и опять присел рядом с девчонкой, погладил её по голове, легонько подкинул хвост.
– Не мочи причёску.
– Тогда давай сама начинай, – мягко приказал Моржов.
Алёна вылезла из-за стола и наклонилась над своей сумочкой. Задок её ещё не округлился по-женски, был младенчески-розовым. Моржов тотчас протянул руку и положил ладонь Алёне между ягодиц, но Алёна крутанула бёдрами.
– Ты чего как извращенец? – свирепо спросила она, повернулась и опустилась перед Моржовым на колени.
Распихав ноги Моржова локтями, она нагнулась, держа во рту презерватив, и вдруг распрямилась обратно, брезгливо отлепила презерватив от губ и сплюнула на пол.
– Блин, – сказала она. – Кончик откусила…
Она показала Моржову резиновое колечко и демонстративно просунула сквозь него палец.
– Что делать? – спросила она. – У меня другого нет. Давай, я тебя рукой?
Всё это слегка напомнило Моржову комедию.
– Рукой мы и сами можем, – ухмыльнулся он.
– Ну, сходи, купи новые…
Моржов молча встал, дотянулся до своих брюк и вытащил из кармана цветастую упаковку, которую благоразумно купил всё у той же у Анжелы ещё до звонка Сергачу. На такой мякине Моржов не проводился.
Хмуро спрятав взгляд, Алёна приняла другой презерватив. Моржов сел обратно, и Алёна продолжила дело. Поскольку рот у неё был занят, Моржов почувствовал, что отдыхает от риска услышать ещё какую-либо новость. Он безвозмездно любовался узенькими плечиками Алёны и её гладкой спинкой, которую забавно подметал болтающийся хвост.
– Хорош, а то перестараешься, – наконец остановил Алёну Моржов, взял её под мышки и поставил на ноги. – Садись на стол и ложись на спину…
В этой тесной сауне на полу было не разместиться. Алёна покорно залезла на стол, убрала бутылки и улеглась как покойница – правда, стыдливая покойница, потому что прикрылась руками. Ноги её смешно торчали в воздух, не уместившись на столешнице.
– Не так, – вкрадчиво возразил Моржов.
– Давай так, – ответила Алёна, глядя в потолок.
– Я ростом метр девяносто четыре, – сказал Моржов. – Ты чего? Я же гробанусь с этого стола.
– Другие не гробанулись, – зло возразила Алёна.
Моржова этот цирк начинал уже забавлять всерьёз. Он взял Алёну за щиколотки и подтянул к себе, чтобы край столешницы пришёлся ей под зад. Потом задрал девчонке ноги и развёл в стороны. Алёна по-прежнему закрывалась ладонями.
– Убери руки, – велел Моржов.
– Я стесняюсь! – огрызнулась Алёна.
Моржов в задумчивости потёр лоб её пяткой. Затем забрал в пятерню обе её щиколотки, загнув Алёну как гимнастку и свободной рукой сдвинул её ладони. Лоно у этой девчонки было гладко выбрито – округлое и свежее, как варёное яичко или, точнее, как персик, только складки припухли – сказался целый день работы. Моржов слегка навалился на Алёну, чувствуя, что входит туго и тяжко – как кол в плотную землю. «Распогодится небось», – понадеялся он. Но Алёна вдруг заорала – уже безо всякого стеснения.
– Чего не так? – рявкнул Моржов, раздёргивая в разные стороны ноги Алёны, чтобы увидеть её лицо.
– Больно! – заявила Алёна. – У тебя презер херовый!
– Нормальный! – начал злиться Моржов. – У той же Анжелы покупал, где и ты брала!
Он снова качнулся в Алёне, и она снова заорала.
– Мне больно! – повторила она. – Меня и так пёрли весь день!..
– Н-ну, блин, подруга!.. – в сердцах сказал Моржов и выдернулся наружу. – Переворачивайся на живот, может, сзади помягче пойдёт…
– Не буду я ни хера переворачиваться!
– Почему это не будешь?
– Да ты извращенец! Ты меня в жопу трахнешь!
– Да иди ты!.. – разозлился Моржов.
Алёна, видно, поняла, что перехватила лишку.
– Сходи к Анжеле за смазкой, – уже миролюбиво попросила она. – У меня кончилась, а у неё всегда есть…
– Ща! В таком виде и кинулся! Может, вообще Анжелу сюда позвать – пусть она за меня и потрахается?
Алёна опустила ноги и, морщась, села на столе.
– Дак позови, – сказала она. – Пусть она меня трахнет, если ты не можешь.
– Чего это я не могу? – изумился Моржов.
Алёна хмыкнула и отвернулась.
Моржов схватился за себя – как парашютист за кольцо парашюта. Парашют и вправду уже планировал косо.
Моржов гневно стащил презерватив и швырнул его на пол.
– Значит, снова ртом поработаешь, – угрюмо сказал он. – Рот, похоже, у тебя ещё не перетрудился.
– Не буду я тебе ничего делать, – отреклась Алёна.
– Ты «буду – не буду» и «хочу – не хочу» для мужа побереги, – посоветовал Моржов. – Деньги взяла? Взяла. А если желаешь постонать – сначала раком встань, чтобы по делу было.
– Не буду я раком вставать! Ты меня…
– Слышал, – оборвал Моржов. – Будешь грубить – дверь запру и без мыла вдую тебе по самые гланды.
– Хер ты вдуешь, – бесстрашно сказала Алёна. – У тебя стоит-то только по праздникам. Нашёл, чем пугать.
Моржов смотрел на эту девчонку – и вдруг ему стало невыносимо тоскливо. Да сдалась она ему… Позвонить Сергачу и заказать другую. А-а, неохота. Ничего неохота. Моржов отступил на шаг и внимательно оглядел Алёну с головы до ног. Маленькая, голенькая, отважная блядушка. Красивая, как огонёк на свечке.
Моржов достал из кармана брюк сигареты, развалился на скамейке, прислонившись спиной к стене, и закурил. Алёна всё стояла, опасливо ожидая его действий, а потом расслабилась, вытащила из кучи одежды свои трусики, напялила их и села на стол. Улыбаясь, она взяла со скамейки рядом с Моржовым бутылку пива, сама умело раскупорила её о край стола и начала пить.
– У меня мужик был, ему шестьдесят лет, у него лучше, чем у тебя, стояло, – сказала она.
– Не у всякого на тебя и встанет, – огрызнулся Моржов.
– А чо ты меня лажаешь? – усмехнулась Алёна. – Я же не виновата, что ты трахаться не умеешь.
Впервые с тех пор, как закодировался, Моржов почувствовал, что его гвоздят, как Кутузов – Бонапарта. Он просто не мог решить, что делать. Отругиваться – мальчишество, а в морду дать – так ведь девка же, хоть и сучка…
– У тебя жена есть? – вдруг спросила Алёна.
– Тебе-то что? Замуж за меня решила, чтобы «не хочу» да «не буду» говорить?
– Охота мне за тебя замуж, ага, – фыркнула Алёна. – Чо, нормальные мужики, что ли, кончились? Тебе только с недоёбу давать можно.
– Переёб недоёба не лучше, – только и нашёлся что сказать Моржов, роняя пепел себе на брюхо.
Алёна сидела на столе в одних трусиках, пила пиво и болтала ногами.
– Чо ты обиделся-то? – спросила она. – Сергачу будешь звонить, что у тебя не встало?
Моржову как по лбу ударило: «На хер я всё это слушаю?..» Он помнил свою кодировку. Этот разговор был тем же самым, только не по своей воле и не на то, что нужно. Надо сматываться!
Моржов встал, шагнул к своей одежде и принялся одеваться.
– Чо ты сразу бежать-то? – болтала Алёна. – Если хер не стоит, так и поговорить не хочешь?
– На хрена мне с тобой разговаривать? – ответил Моржов.
– Я тебе расскажу, как трахаться надо. Может, пригодится. Хотя тебе-то – нет…
В общем-то, для Моржова это было как пожар. Ещё чуть-чуть – и он уже не сможет погасить пламя памяти. Эта Алёна трахала его мозги так, что запомнится навеки. Отобьёт желание насовсем, перепугает до смерти. Так изнасилованные девочки потом не могут вернуться к соответствию со своей природой и захотеть мужчину – в любом мужчине им всегда мерещится ужас, боль, унижение и предательство. И не всякий даже любящий мужчина сможет своей нежностью растворить эту спёкшуюся, чёрствую кровь, коркой стянувшую часть души. Насчёт своей жизни Моржов не сомневался: ему такая нежная женщина не встретится.
– Ты пошёл уже, да? – спросила Алёна. – А триста рублей-то не дашь? Ты же обещал…
За исключением зефира в шоколаде, в мире больше не существовало вещи, об которую Моржов не смог бы открыть бутылку пива. Он шаркнул бутылкой по фонарному столбу, и пробка, звеня, покатилась по тротуару. Моржов сунул горлышко бутылки себе в рот, словно приставил подпорку к падающей Пизанской башне.
…Он поступил хитро: вернулся к себе в общагу и прошёл через вахту, где обстоятельно поговорил с вахтёршей о тонкостях ревматизма, затем громко хлопнул дверью своей комнаты. А в комнате он достал из-под матраса пистолет, сунул его за ремень и бесшумно вылез через окно в палисадник.
На улице давно стемнело. Моржов стоял за акациями с пивом и пистолетом и семантически чем-то походил на гипсового Павлика Морозова. Над акациями вразнобой горели окна общаги. За углом здания чернел Пряжский пруд, весь в лунной чешуе.
Моржов терпеть не мог всех этих страданий и обид, всех этих рефлексий и терзаний. Он просто не выносил себя в состоянии бурного душевного смятения. Ему претило лежать, молчать и терпеть, как тому спартанцу, у которого лисёнок пожирал потроха. Моржов предпочитал при первом же укусе растирать лисят подошвой по половице, а укус обезболивать и дезинфицировать. Пусть алкоголь выжжет все мысли и воспоминания.
Доктор, который заколдовал Моржова от пьянства, предупреждал о всяческих страшных последствиях выпивки: инсульт, инфаркт, паралич, импотенция. Инсульт и инфаркт Моржов отрицал как псевдонаучные угрозы; паралич представлялся ему чем-то незначительным вроде лёгкого ушиба; а вот импотенции, судя по всему, можно было уже не бояться – с ней и без выпивки проблем не имелось. И Моржов, выбравшись из сауны, купил пива.
Приобщившись к высокому искусству через «Староарбатскую биеннале», Моржов иногда размышлял о взаимоотношениях творчества и реальной жизни. Вот судьба: она строится по законам драматургии или всё же как попало? Моржов всё более склонялся к приоритету драматургии. Выстраивая свою судьбу, человек не имел иной инструкции, кроме той, которую настрочил Аристотель. (Кстати, строительство судьбы означало вкладывание своей субъективной воли в объективную жизнь, а это довольно сильно смахивало на половой акт.) Получалось, что воля есть мера художественности в жизни человека (а судьба есть половой акт с жизнью). И главными сюжетами художественности всегда были три вещи, прославленные ещё хиппи: секс, дрэгс, рок-н-ролл.
Секс у Моржова имелся только что (ну и пусть вместо блуда получилась блуда), дрэгса он купил по пути и купит снова сколько надо. Оставался рок. Вообще-то кодировка посадила рок на цепь, и теперь рок разве что при оплошности Моржова мог цапнуть хозяина за пятку. Но Ахилл из Моржова был хилый, поэтому рок оставался неудовлетворённым. А ему хотелось побегать на воле, поиграть с Моржовым в свою любимую игру – в орлянку. Моржов пожалел свой рок и решил нажраться – пустить рок погулять. Если рок, сидя на цепи, зачахнет, Моржов, пожалуй, действительно рискует схлопотать инсульт, инфаркт или паралич. Так что внезапное пьянство Моржова оказывалось не только субъективным мазохизмом – сублимацией Алёнушкиного свинства. Пьянству нашлось и объективное оправдание: самоспасение. Органичность сочетания объективного и субъективного вселяла в Моржова ощущение правильности избранного пути.
Стоя за акацией, Моржов вытащил из-под ремня ПМ и с натугой передёрнул затвор. Это был очень голливудский жест. Мало, мало в жизни голливудства, не хватает его народу. Недостаток голливудства приходилось компенсировать бессмысленными действиями – например, щёлканьем затвора. Так же, как своё фиаско с проституткой Моржов компенсировал образцовым фаллическим символом – пистолетом.
Моржов спрятал ПМ, вышел из-за угла общаги и пошагал по улочке вдоль пруда. Звёздная и неровная ночь была как горячая радужная тьма после самого сладкого любовного содрогания. Тёплая земля лежала, словно разворошённая постель: Семиколоколенная гора – как продавленная подушка, Чуланская гора – как отброшенное и смятое в ком одеяло. В изнеможении распростёрся Пряжский пруд; изгиб отражённого месяца казался вмятиной от женского колена. Природа повсюду растеряла любовные черты, будто захмелевшая девчонка, раздеваясь, раскидала по комнате свои вещи: фонари бульвара Конармии – как бусы на столе, два купола Спасского собора – как лифчик на спинке стула, лакированной туфелькой блеснула иномарка в проулке, и даже лужи под ногами лежали как забытые под кроватью трусики.
В сквере у набережной Моржов услышал грубые мужицкие голоса подростков и неумелый девчоночий мат. Моржов притормозил и повертел головой, чтобы блеснули очки. Наживка была тотчас проглочена.
– Мужик, стоять! – донёсся из скверика хамски-хозяйский окрик. – Сюда подошёл!..
Эх, голливудство-голливудство… Голливудский символ Америки – обаятельный и респектабельный президент, ручкой помахивающий толпе из открытого лимузина, а в окне окрестного небоскрёба торчит мрачный и тощий тип со снайперской винтовкой у плеча. А символ города Ковязина – пьяные подростки с глумливым окриком «Мужик, стоять! Сюда подошёл!», и дальше по-шакальи – сзади и все на одного.
Моржов допил пиво из бутылки (не пропадать же продукту), присел и разбил бутылку об асфальт, а дальше с «розочкой» в кулаке молча бросился к скверику.
Подростки сообразили не сразу, но потом с воплями и девчоночьим визгом дружно прыснули прочь, топоча по кустам. Моржов, как Кинг-Конг, запрыгнул на скамейку, но вокруг уже было пусто, лишь под луной изумлённо колыхался сигаретный дым. Моржов швырнул вслед ублюдкам «розочку» и в досаде плюнул: чёртова привычка самообороны, как же он забыл про «пэ-эм»? На хрена он тогда покупал пистолет, если всё равно бутылки бьёт?
Озлобленно почёсываясь, Моржов вырулил обратно к набережной и пошагал в сторону плотины, где светился коробочек круглосуточного ларька.
Моржов набрал бутылок пива в полиэтиленовый пакет, подумал и прямо у прилавка накатил пластиковый стаканчик водки. Водка была крепкая и дорогая, словно её гнали из слёз поп-звёзд. Но Моржова всё достало. Пускай его ероплан срывается в штопор.
Едва Моржов чуть-чуть отошёл от ларька, его шумно и мощно вытошнило прямо в Пряжский пруд. Сказалось, блин, долгое отсутствие практики. Моржов подумал и выбрал в девиз правило Щёкина: «Брать – так литр!» Он упрямо вернулся в ларёк, прополоскал горло минералкой и педантично повторил процедуру с водкой. Водка злобно шлёпнулась на дно желудка жгучей медузой и больше не шевелилась, сидела тихо и обречённо, таяла.
От ларька Моржов пошёл вверх по Колхозной улице. Судя по мёртвым фонарям и фасадам, которые своим разнообразием напоминали очередь в травмпункт во время гололёда, улицу следовало бы звать Бесхозной. С неё Моржов свернул на улицу Героя Рыбакова. Моржов не знал, какую амбразуру закрыл своей орденоносной грудью герой Рыбаков (генерал, как гласила мемориальная табличка), поэтому для себя называл улицу именем Героя Робокопа. Про Робокопа Моржов знал всё с детства, и Робокоп действительно был герой.
Улица Робокопа была хаотически выхвачена из тьмы фрагментами финансово успешных территорий. Горели редкие витрины магазинов и вывески офисов, озаряя куски тротуара, вымощенные разноцветной плиткой. Над долгими перебежками тьмы в лунной мгле клубились тополя и тускло бликовали маленькие окна вторых этажей. Окна полуподвалов печально глядели снизу вверх из ям, забранных решётками. Казалось, что сейчас оттуда протянутся бледные руки с раскрытыми ладонями, на которые требуется положить милостыню. Отражая луну, навзничь, как убитые, на дороге лежали плоские лужи.
Моржов шагал, пил пиво, курил и глядел в перспективу улицы, ребристой и фигурной. Как бы ни обветшал неухоженный город Ковязин, в его старине не было убожества. Подсвеченные луной и витринами, все фронтончики, мезонины, кокошники, эркеры, сандрики и лопатки разнобойных особнячков, суммируясь, складывались в образ незримой Триумфальной арки, что во тьме стояла над Ковязином.
Это была победа мужского начала человечества над женской податливостью пространства и природы. Моржов считал, что зодчество по характеру своего предъявления изначально неискоренимо мужское. Оно молодцевато выпячивало широкие груди ризалитов, брутально выдвигало челюсти балконов, напрягало вздутые мускулы колонн и натягивало сухожилия пилястров, по цоколям было расчерчено на прямоугольники, будто накачанный брюшной пресс, бесстыже развешивало каменно-тяжёлые и пышные гроздья капителей и барельефов. Вся анатомия зданий была выставлена напоказ именно с мужской наглостью бани, а вовсе не скрыта с женской стыдливостью улицы. Женской архитектурой были пещерные города и пирамиды, каналы и хтонические лабиринты метрополитенов. А внешний мир был мужским, но в Ковязине – обшарпанным и надтреснутым, словно бы мужчина довольно долгий срок отмотал на зоне и совсем оскотинился. Трахая, он натирал, драл и царапал. Без смазки вроде выпивки никто его уже не хотел.
Ещё, кстати, бывала смазка типа «любовь», но Моржов на такое не рассчитывал. Ему не повезло: никогда никакие женщины его не желали. Всех, что у него были, он взял сам. А впрочем, возможно, что напор Моржова просто обгонял скорость созревания женских вожделений. Но Моржов всеми этими примерками и соображениями никогда не заморачивался. Он считал, что вместо любви ему вполне достаточно голливудства.
Моржов аккуратно поставил пустую бутылку возле мятой железной урны – бомжи подберут – и откупорил новую.
…Как было в кино «Красотка»? Молодой, но состоятельный Ричард Гир, холостой и очень добрый, снимал проститутку. Моржов тоже был молод, очень добр, холост, упрощённо говоря – состоятелен и в принципе не так уж плох собою (если не считать трусов с бледно-синими крокодильчиками). У Гира проститутка оказывалась красивой, как Джулия Робертс, но грубоватой и вульгарной, зато в душе – нежной, ранимой и обиженной. Так, блин, и у Моржова случилось!.. Проститутка отдавалась Гиру с неподдельным жаром, потому что драматургически это выглядело идеально. Моржов считал себя достаточно волевым человеком, чтобы его половой акт с жизнью превратился в драматургическую судьбу. Выходит, что он, как тот Гир, тоже заслужил сладкое.
А драматургия почему-то вывернулась наизнанку. Девчонка явилась пьяная, не далась, выклянчила деньги, да ещё и оскорбила так, что Моржов ощутил себя слегка кастрированным. Причём именно в тот момент, когда он уже почти прокопал подземный ход в женский монастырь. Что-то в его жизни оказалось сильнее голливудства, драматургии и судьбы. И рок здесь был ни при чём.
Моржов яростно открыл пивную бутылку зубами, словно укусил себя за кандалы.
Конечно, и раньше у него случались провалы, позорища и обломы. Но они всегда лежали в русле драматургии. Во всяком случае, их всегда можно было интерпретировать как рок или судьбу. А с этой Алёной – шиш. Привычная логика не просто дала сбой, а вообще растворилась нигде. Можно было, разумеется, найти случившемуся десяток объяснений, но в данном случае любая причина нейтрализовалась контрдоводом.
Например, причина: девчонка устроила истерику и не далась, потому что устала и была пьяная. Контрдовод: не такая уж она была и пьяная, если не забыла про деньги; а если уж она помнила про деньги, то не стоило ей артачиться перед другом сутенёра. Да ведь и не первым же мужчиной был в её жизни Моржов! Следовательно, она должна знать, что сопротивление отнимает больше сил, чем покорность, – значит, не так уж она и устала.
Причины и контрдоводы уравновешивали друг друга. Эта зыбкая неустойчивость должна была нарушиться в ту сторону, куда толкал Моржов. А она нарушилась в противоположную сторону. И нарушиться подобным образом ей было не так-то просто, потому что напор Моржова был традиционно силён, хоть и мягок. Так что же стряслось? Что за чёрт вклинился в ситуацию?..
Моржов уже прошёл весь центр Ковязина и теперь шагал сквозь окраину. Кругом громоздились какие-то гаражи, сараи, заборы, штабеля труб, бараки, столбы, поленницы, трактора… Улица перепрыгивала через речку Пряжку, здесь ещё не разлившуюся прудом, и Моржов с удивлением понял, что не может пройти по мосту тротуаром. Тротуар оказался слишком узеньким. Моржов осторожно преодолел мост по осевой линии, для равновесия широко растопырив руки. В одной руке блестела бутылка, а в другой, на которой висел пакет, дымилась сигарета.
…Моржов давно догадался, что Кризис Вербальности лишил мир цели. На хрена она нужна, если за неё можно выдать что угодно? К тому же есть куча разнообразных наркозов, с которыми не только про адекватность, но и вообще про реальность можно забыть. Поэтому мир не таков, каким его делают, а таков, как это делание происходит. Сверхценность цели сдрейфовала на средства. Облик мира определяется не степенью приближения к идеалу, а способом мышления, формулирующего идеал, который ни практически, ни теоретически совершенно не нужен. Как городу Ковязину для комфорта совершенно не нужен стиль провинциального классицизма, в котором он выстроен, а нужны трубы, гаражи, поленницы, столбы, сараи…
Значит, блуда с Алёнушкой случилась не потому, что Моржов не учёл какой-то тайной цели Алёнушки, а потом удивился, что эта цель для неё оказалась важнее всего прочего. Блуда случилась благодаря трахнутым Алёнушкиным мозгам. И надо понять, что и как Алёнушку трахнуло, потому что Алёнушка – не одна. Впереди – Троельга, и там Милена, Розка, Соня… Моржов не хотел снова попасть в блуду. Если он не докопается до причины, то и в Троельге не получит ничего, кроме импотенции на нервной почве. А на хрена тогда ему свобода и деньги, если главная ценность будет недоступна? Но вопрос, на который Моржов хотел получить ответ, был адресован не к бабам, а к миру.
Моржов выбросил очередную бутылку и обнаружил, что осталась последняя. На обратный путь не хватит. Он уже вышел из Ковязина и стоял на обочине дороги, которая через поле и перелесок вела из города на большую федеральную трассу. Никто в Ковязин не ехал, и ждать тачку было глупо. Моржов вспомнил, что на съезде с трассы стоит круглосуточная кафешка для дальнобойщиков. Там можно хотя бы пивом затариться.
Хрустя гравием обочины, Моржов дошагал до кафе. На стоянке перед ним светлела единственная «девятка». В её раскрытом окошке краснел огонёк сигареты. Широкая трасса была туманна и пуста. За кюветами поднимался тёмный, неподвижный лес. Моржов стрельнул с пальца окурок и вошёл в кафе.
Продавщица, чем-то напоминавшая Анжелу из сауны, сидела за стойкой и смотрела телевизор. За боковым столиком обедали (или ужинали? или завтракали?) две молоденькие девчонки-проституточки. Они были из разряда «плечевых» – девочек для трассы. Хуже была только работа для «чёрных» на рынке, но там, как рассказывали Моржову шлюшки из саун, отирались в основном крепкозадые девки из деревень, которые вечерний секс на ящиках с помидорами совмещали с дневной торговлей с лотков.
