Темное прошлое человека будущего бесплатное чтение
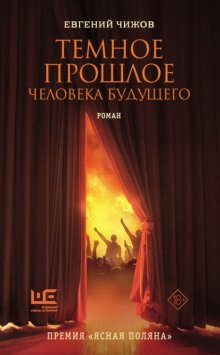
© Чижов Е.
© Половцев В., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
Художник Василий Половцев
От автора
С 2000-го, когда в двух летних номерах журнала «Октябрь» впервые был опубликован этот роман, минуло уже почти четверть века. Последовавший спустя два года после журнальной публикации выход книги не то чтобы прошел незамеченным, но критикам, занимавшимся актуальной литературой, недосуг было особо в нее вникать, и со стороны автора, чье имя было тогда ровно никому не известно, конечно, смешно было этого от них ожидать. Но он-то, автор, полагал, как это обычно случается с начинающими, что открыл нечто чрезвычайно важное и сумел изобразить в лице своего главного героя Андрея Некрича, машиниста сцены оперного театра, едва ли не особый, никем прежде не описанный с достаточной глубиной тип человека, а то и иной модус существования, другой, непривычный способ обращения со временем, историей и судьбой. За прошедшие годы откликов на книгу почти не прибавилось, и автор решил было, что его персонаж оказался слишком экстравагантным, чтобы вызвать читательский интерес, по-настоящему лишним человеком, настолько лишним, что о нем и писать-то не стоило. Времени прошло столько, что в памяти читателей, не говоря уже о перегруженной памяти критиков, не должно было остаться от него ни следа. Поэтому автор был крайне удивлен, обнаружив, что в рецензии на его следующий роман «Персонаж без роли» один остроумный и к тому же очень известный критик в пользующемся широчайшей популярностью журнале называет Некрича героем, идеально персонифицирующим русскую смуту. Выходит, он все-таки сумел ему запомниться? А значит, есть, возможно, и читатели, которым он запал в душу? Тогда автор, которому кажутся крайне неубедительными слова Мартина Хайдеггера: «Меня поймут через триста лет» (раз не поняли сейчас, то через триста лет уж точно не поймут, даже если чудом вспомнят), решил написать к новому изданию своего первого романа предисловие, в котором постарался внятно изложить самое важное из того, что ему известно о своем герое – а известно ему, конечно, далеко не все, хотя он и является его, автора, порождением (пусть даже в конце Некрич и утверждает обратное). Дело в том, что витальность этого персонажа настолько выше нормы, что непредсказуемое и, следовательно, неизвестное в нем всегда преобладает над известным. Как бы ни выворачивал себя Некрич наизнанку перед рассказчиком и одновременно перед читателем, он все равно остается под подозрением, что все его слова фальшивы. Подозрение это то и дело оправдывается, но даже когда слова и предсказания Некрича сбываются, это ведет лишь к дальнейшему ускользанию почвы из-под ног рассказчика, к новым подозрениям и отчаянным попыткам различить правду и ложь, действительность и вязкий кошмар. Чесноков – рассказчик – не сдается, он настаивает на неотменимости этого различия, он и книгу пишет ради того, чтобы провести черту между подлинным и мнимым, и это занятие в итоге излечивает его – хотя, кажется, не окончательно – от «болезни Некрича».
Перечислим основные симптомы этой болезни. Прежде всего, это недостоверность прошлого, на скорую руку сшитого Некричем из обрывков чужих воспоминаний, в которые он прячется после катастрофы своей частной жизни. Прошлое ускользает, как ускользнула бросившая его женщина, память предает и изменяет, как предала и изменила она. Даже в аферу с двойной продажей квартиры он пускается не по злому умыслу, а запамятовав, что уже однажды ее продал. Но «сон – это жизнь без памяти», как сформулировал в своем дневнике Анри де Монтерлан, так что жизнь Некрича, оторванная от прошлого, мало отличается от сна. Правда, сон этот необычен, в него проникают знаки и предвестия будущего. Выброшенный из частной жизни, Некрич оказывается повернут лицом к истории, он слышит гул приближающихся событий, он пророчествует. Здесь имеет смысл вспомнить, где и кем он работает. Опера – по всем признакам устаревший и предельно далекий от современности вид искусства – действительно мало подходит для описания событий личной и деловой жизни, которыми ограничивается биография большинства людей, но когда речь заходит об истории, тут ее пафос как нельзя лучше соответствует пафосу происходящего, вырывающему человека из рамок частного. События истории зреют подспудно, с той изнаночной стороны действительности, к которой Некрич, сам человек закулисья, наделен обостренным слухом, а потом прорываются на поверхность смутой. Смута есть прежде всего крушение поступательного движенья истории, разрыв связей с прошлым, перечеркивание исторической памяти, торжество хаоса. А поскольку Некрич и сам живет без прошлого, то в дни смуты, когда другие паникуют и отсиживаются по углам, он на гребне волны, он спокоен в эпицентре кровавой междоусобицы и использует происходящее с пользой для себя. С исторической памятью в России, как показывают всевозможные рейтинги и опросы, вообще дело обстоит довольно скверно, поэтому не будет большим преувеличеньем сказать, что значительная часть населения пребывает в состоянии вялотекущей смуты, а отечественная действительность порой кажется лучше всего описываемой приведенной выше фразой Монтерлана. Но все это – симптомы болезни Некрича, который, несмотря на свою экстравагантность, похоже, гораздо более уместен в здешних широтах, чем это выглядит на первый взгляд. Новый «фантом оперы», он заражает своей фантомностью все вокруг, лишает вещи их тяжести, а жизнь – достоверности. В «мире по Некричу», где совершившиеся события неотличимы от сна, нет места вине и ответственности, нет ни правых, ни заблуждавшихся. Рассказчик не способен с этим смириться. Он тоже человек с воображением, порой выходящим из-под контроля и накладывающимся поверх действительности, он испытывает все проявления «болезни Некрича» на себе, по мере развития сюжета становясь все больше на него похожим. Рассказчик, в свою очередь, переживает размывание яви, двоение и ускользание памяти, и если ему удается выздороветь, то только потому, что он пишет роман «Темное прошлое человека будущего».
Теперь, по прошествии стольких лет, автор с интересом всматривается в сочиненного им рассказчика. Он испытывает явную зависть к безоглядности, с какой тот берется за сложные темы, и к легкости, позволяющей ему с ними справляться, но больше всего – к тому воздуху молодости, который незаметно и неизбежно ушел из жизни, но остался на его страницах. И вполне отдает себе отчет в том, что этой безоглядностью, легкостью и молодостью больше, чем кому бы то ни было, он обязан своему персонажу – Андрею Некричу: другу и предателю, мошеннику и жертве, однолюбу и бабнику, лжецу и пророку в одном лице.
1
Из всех душевных качеств тебе недостает как раз памяти…
С. Кьеркегор. Или – или
В моей комнате четыре стены. Четыре стены, потолок и пол. Между ними расположены некоторые вещи, как то: кровать, стол, стул, шкаф и другие. Я сижу на стуле за столом.
Когда мне надоедает сидеть на стуле, я подхожу к окну, за которым идет снег – у самого стекла, – быстро, вытягиваясь в белые прочерки, а дальше медленно, чем отдаленней от окна, тем медленнее, почти застывая на лету. Движение снега сопровождается журчанием воды в батарее отопления, но можно подумать, что звук текущей воды раздается с улицы и снег уже незаметно начинает таять.
Когда устаю глядеть на снег, я иду в ванную и грею руки под горячей водой, потому что топят слабо и в комнате так холодно, что чувствуешь кожей едва заметное тепло, исходящее от настольной лампы. Я делаю это по десять раз на дню, а в особенно холодные дни еще больше. Чтобы не держать руки просто так под струей воды, я мою их с мылом, поэтому руки у меня всегда необыкновенно чистые. Вчера я так долго тер их, что заметил, как они, переплетаясь пальцами, гладят друг друга с неприкрытой нежностью: мои намыленные руки изменяли мне друг с другом. Я застал их в момент измены. Я почувствовал себя, как радужная мыльная пленка, растянутая между пальцами, которая выгибается, дрожа над пустотой. Стоило развести пальцы подальше, как пленка лопнула и исчезла. Я улыбнулся себе в зеркало над раковиной.
Согрев руки, потирая их на ходу, я возвращаюсь в комнату, ставлю чайник на электроплитку и, дожидаясь, пока он закипит, ложусь на кровать. Или снова подхожу к окну, если за ним произошло что-нибудь новое: снег, например, перестал, а может, пошел иначе – не сверху вниз, а снизу вверх, что, в общем, ничего не меняет. Или беру с полки какую-нибудь книжку и, листая ее, опять сажусь к столу, не обращая внимания на то, как, уступив мне место в самый последний момент, со стула встает другой Игорь Чесноков, то есть другой я, подходит к электроплитке и, дождавшись, пока чайник закипит, не спеша заваривает, как я это делаю изо дня в день, четыре ложки чая на чайник. Поджидая, пока настоится, он подходит к окну, где ему уступает место третий Чесноков, идущий в ванную греть руки под горячей водой, разминувшись в дверях с выходящим оттуда четвертым мной с красными, еще влажными ладонями. Этот четвертый Чесноков наливает чай в стакан и пьет его с моими любимыми киевскими сухарями, так что, когда я отрываюсь от книжки, полстакана уже выпито и на мою долю остается один-единственный сухарь. К тому же допивать чай приходится на кровати, потому что место за столом необходимо мне пятому, спешащему записать что-то на лежащем на столе листе бумаги, – не зря же я просидел над ним с утра, чай может и подождать, если наконец в голову пришло что-то стоящее. Но записать ему ничего не удается, так как шестой или седьмой Чесноков уже успел нарисовать во весь лист ухмыляющуюся рожу: усы, бородка, сигарета в зубах, почти сросшиеся над переносицей брови – есть у меня такая привычка – автоматически рисовать всякую ерунду, когда не работается.
Между тем меня в комнате становится явно слишком много. За перемещениями фигур уже трудно уследить, теснота растет с каждой минутой, угрожает возникнуть путаница. Свободного места практически больше нет, мне попросту некуда приткнуться. В собственной комнате я не могу найти для себя места, не занятого мною, – не остается ничего иного, как надеть пальто, ботинки и скорее выйти на улицу, хлопнув дверью. Я так тороплюсь, что шнурки приходится завязывать уже в лифте.
На улице и в самом деле подтаивает, пахнет водой, снег падает неуклюжими тяжелыми хлопьями, взрыхляющими сырой воздух. Я иду, как обычно, по направлению к метро. Рыжий кирпич и горчичная штукатурка послевоенных домов как губка впитывают влагу, которой разбавлен мутноватый воздух, темнеют и разбухают на глазах в рано сгущающихся сумерках. Пунцовая буква «М» светит мне издалека. Асфальт у входа в метро свободен от снега, точно буква «М» растопила его своим жаром. Мокрый черный асфальт отражает огни, как крышка концертного рояля.
В ту теплую зиму, когда я неожиданно утратил способность подолгу быть одному или, точнее, злоупотребил ею настолько, что стали происходить вещи, описанные выше, я сначала растерялся, а потом довольно быстро нашел выход: я садился в метро, доезжал до Кольцевой и крутился по кольцу столько, сколько у меня было свободного времени, читая или просто разглядывая тех, кто попадался на глаза. В метро всегда есть на кого посмотреть! К примеру, вслед за мной в вагон входят двое и садятся напротив. Они пьяны, их пропустили сюда по недосмотру, у обоих руки в расплывшихся голубых татуировках, грязная белая кожа, дряблые бабьи черты широкоскулых лиц: прозрачные глаза, мокрые губы, у одного нос свернут набок, и вместо щетины растут отдельные короткие волоски по всему лицу. От них исходит сильный кисло-соленый запах пота, смешанный с горьким запахом отсыревшего табака. Конечно, лучше бы напротив сел кто-нибудь другой, но выбирать не приходится, я готов рассматривать и этих – мне все равно, кто отвлечет на себя мое вниманье, лишь бы оно не замыкалось на мне самом. Я гляжу на них до тех пор, пока не начинает казаться, что я сам понемногу пропитываюсь этим кисло-соленым запахом.
А сколько красивых женщин в метро! Они пользуются черными вагонными окнами, когда поезд летит в тоннеле, как зеркалами (сам тоннель интересует только детей, жмущихся носами к стеклам), для того чтобы изучить себя, поправить прическу, а я в это время, как и большинство мужчин в вагоне, разглядываю их. Чтобы полюбить женщину в метро, мне всегда было достаточно двух остановок. К концу второй мне уже казалось, что мы так давно знаем друг друга, что не нужно даже ни о чем говорить, между нами все ясно без лишних слов, сейчас мы просто выйдем на одной станции и дальше пойдем вместе, по-прежнему молча или разговаривая о пустяках, как старые знакомые, купим вина, может быть, торт («Тебе какой больше нравится, бисквитный или шоколадный?»)… Через несколько остановок женщина выходит, я, конечно, остаюсь сидеть и на следующем, длиной в одну станцию, отрезке кольца начисто о ней забываю.
В час пик, когда в метро было битком, я всегда уже сидел, чувствуя себя хозяином вагона, потому что все остальные входили и выходили, толкаясь и наступая друг другу на ноги, а я оставался. Больше всего меня радовало, что никто из пассажиров не мог заподозрить, что я, единственный из всех, никуда не еду, а просто провожу здесь время, как у себя дома, потому что никто из них не делал по кольцу полного круга, как я, разве что какой-нибудь уснувший в углу сиденья алкаш.
В особенно удачные дни кто-нибудь чистил и съедал апельсин или мандарин, и апельсиновый запах наполнял собой весь заслякоченный вагон, набитый стиснутыми, изможденными после рабочего дня, едва дышащими друг другу в мокрые воротники людьми, смягчая их взаимную ненависть хотя бы до тех пор, пока они не выйдут и не разойдутся в разные стороны. Я видел, как некоторые, сдавленные со всех сторон, закрывали глаза, чтобы целиком уйти в запах и ничего вокруг себя не видеть. Но и тем, кого они не хотели видеть, кто наступал им на ноги, капал стекающими с мокрых волос или шляп холодными каплями за шиворот, запах доставался тоже: он был всем поровну, один на всех, кроме тех обделенных, кто страдал насморком. Но рано или поздно всем приходилось выходить, а для меня апельсиновый запах оставался. Поначалу он был так резок, что мешал сосредоточиться, когда я читал. Я втягивал его не спеша, коротко вдыхая через нос, и постепенно он наполнял меня такой радостью, какой не дал бы и килограмм съеденных апельсинов, тем более что, когда ешь, запах сразу пропадает: вкус перебивает обоняние. Понемногу рассеиваясь и слабея, апельсиновый запах оставался в вагоне иногда до позднего вечера, и пьяный, задремавший, клонясь на плечо соседа, или просто измочаленный работой человек, уснувший по дороге домой, улавливая в воздухе остатки запаха, двигал носом, морщился, собираясь чихнуть, и улыбался во сне.
Вечером, если у меня не было урока – в ту теплую зиму я зарабатывал, частным образом преподавая слегка знакомый мне немецкий язык, – и отсутствовали иные важные дела, которые почти всегда отсутствовали, я шел в расположенное в полуподвале неподалеку от метро заведение и становился в хвост недлинной очереди, состоявшей из одних мужчин. Теперь такие заведения сохранились разве что на вокзалах, но той зимой их золотое время, когда предприимчивые люди превращали любой подвал в зрительный зал, еще не истекло, хотя, судя по заячьему хвосту очереди, было уже на исходе. Заведение называлось видеозалом, и в нем можно было посмотреть на телеэкране весь бесконечный эпос «Эммануэли» и многое другое такое же, еще недавно скрытое от народа. Копии, правда, были настолько скверными, что народ скорее угадывал, чем различал что-нибудь на самом деле, зато удовольствие было абсолютным: каждый видел то, что хотел.
Всякий раз, стоя в очереди, я говорил себе, что это последний раз, но следующим свободным вечером опять делал небольшой крюк по дороге от метро до дома, якобы только для того, чтобы прогуляться, а заодно взглянуть на афишу видеозала, и название нового фильма, например «Китайская Эммануэль» (на экране сплошная золотая осень, сопровождаемое нежными стонами нескончаемое мельтешение листопада), легко преодолевало мое сопротивленье. В конце концов регулярные посещения видеозала привели к тому, что именно там я познакомился с Некричем.
Я мог бы разглядеть его еще в очереди за билетами, где мы, очевидно, стояли рядом, потому что нам достались соседние места, но ни в очереди, ни позже, в зале, я не обратил на него никакого внимания. Зал заполнялся медленно, но плотно, свободных мест на последнем сеансе не оставалось. Рассаживались, небрежно откидывая сиденья, вальяжно закидывая ногу на ногу, одни мужчины, как в действующей армии. Свет гас, и появившееся на экране изображение быстро сгоняло с лиц иронические улыбки. Предоставленные самим себе и забытые своими обладателями, лица зрителей каменели в темноте, освещенные одним неверным светом с экрана. Суровое, почти фронтовое братство возникало во время сеанса: мы сидели плечом к плечу, касаясь друг друга локтями, дышали единым дыханием, синхронно возбуждались в шедших чередой волнующих сценах и одновременно, как по команде, переводили дух. Ради этого чувства локтя я и приходил сюда, и оно меня никогда не обманывало. За два рубля входной платы, взимаемой небритым мокрогубым армянином, молчаливое мужское братство всегда безотказно принимало меня в свои ряды.
Сосед справа привлек мое внимание только тогда, когда я заметил, что, в отличие от большинства зрителей, застывших бледными лицами в дрожащем студне телевизионного света, он улыбался. Кроме того, время от времени он поигрывал ключом на кольце, надетом на палец. Делал он это непроизвольно, потому что внимание его, как и всех остальных, было целиком поглощено происходившим на экране. Когда там от любви перешли к мордобою и какая-то блондинка несколько раз получила по уху от какого-то брюнета, мой сосед, стиснув кулак, при каждой оплеухе ударял слегка по подлокотнику кресла и улыбался еще шире. Мне даже показалось, что он тихо говорит сам себе: «Так! Так! Так!»
Наконец он доигрался: кольцо соскользнуло с пальца, и ключ упал куда-то вниз. Сосед выругался и стал шарить руками на сиденье вокруг себя, потом на полу, все ниже сползая со стула. Мне уже надоело следить за поворотами дурацкого сюжета, и я попытался ему помочь, но вместо ключа наткнулся под сиденьем на его ищущую руку. Пол был мокрый, на нем валялись окурки, но по сравнению с абсолютным мраком между креслами он был освещен слабым светом с экрана. Сосед уже целиком сполз вниз и шарил между ботинками сидевших спереди и сзади, вежливо трогая их за лодыжки, чтобы они передвинули ноги. «От квартиры, – шептал он наверх, – если не найду, домой не попасть!» Ботинки в белых разводах соли перемещались, некоторые даже поднимались, чтобы он мог осмотреть пространство тускло отсвечивающего линолеума. Я тоже наклонился к полу, и два наших места посреди зала опустели: мы оба как бы дезертировали из фронтового братства зрителей, оставив брешь в его рядах. Стоны с экрана раздавались теперь над нашими головами, синхронная смена возбуждения и расслабления происходила без нас. Время от времени я поднимал голову, смотрел на экран, а потом сообщал ползавшему под стульями соседу о том, в каком направлении развивается сюжет. «Ты ничего не потерял, они только разговаривают». – «Плевать!» – отвечал он снизу. «А вот теперь начинается: блондинка с брюнеткой и этот в шортах с ними. Правда, может, это не он, а она, трудно разобрать». В тусклом свете внизу любая брошенная палочка от мороженого прикидывалась ключом, и я то и дело слышал, как сосед ругается с досады: «Что ты там шаришь-то, мать твою!» – не выдержал наконец один из сидевших впереди зрителей с лунным светом отливавшей лысиной. «Вот именно, смотреть мешаете, сейчас из зала выведем», – поддержал его другой, интеллигентный. Но для моего соседа и для меня реплики эти были безразличны, почти бессмысленны, как звучащие над поверхностью воды голоса́ для тех, кто погрузился на дно. Поглощенный поисками, сосед даже не отвечал. Тогда лысый зритель сам наклонился и заглянул вниз, заподозрив, что именно там, а не на экране происходит самое неприличное и захватывающее. По мере того как страсти в фильме накалялись, многие в зале, не выдержав напряжения неподвижности, откидывались на сиденьях, протягивая ноги под стулья следующего ряда. Когда стоны на экране достигли апогея, некоторые ботинки переминались с носка на пятку и обратно, как будто их обладателям хотелось по малой нужде. В конце концов мой сосед вернулся на свое место, так и не найдя ключа. Оставшуюся часть фильма он смотрел уже не улыбаясь.
Наружу выходили, не глядя друг на друга, молча, как полагается товарищам по оружию, которым не нужны слова. Оказавшись на воздухе, сосед попросил у меня закурить, потом, держа зажженную сигарету во рту, сказал:
– Красивая эта девочка в главной роли, а? Та блондинка? – И прежде, чем я успел ответить, что на такой скверной копии я ее толком не разглядел, он добавил: – Вылитая моя жена. Один в один, разве что ростом повыше, моя жена миниатюрная, мне по плечо. С тех пор, как она от меня ушла, я этот фильм раз шесть смотрел или семь, не помню точно, так что копия для меня никакого значения не имеет, я все равно уже все наизусть знаю. Я много разной дряни переглядел, прежде чем на этот фильм вышел, зато теперь мне ничего больше и не надо. Я знаю еще два других с той же актрисой, но они ни в какое не идут сравнение.
Я спросил почему – мне казалось, что все эти фильмы друг от друга почти не отличаются.
– Еще как отличаются! В тех других она просто ложится под каких-то жлобов, пыхтит, старается, но я-то вижу, что они ей все на самом деле безразличны и радости ей от них ни на грош, она даже скрыть этого не умеет, актриса-то она никакая, тоже мне Комиссаржевская! Сколько ни пыхти, сыграть любовь у нее не получается, сразу видно, что она совсем про другое со всеми этими типами думает или про другого. Вот так и моя жена: с кем бы ни была, всегда будет помнить обо мне, и так, как со мной, ей ни с кем никогда не будет! По крайней мере, в кинозале я в этом не сомневаюсь, и чем актриса бездарнее, тем лучше она мне это подтверждает. Зато в сегодняшнем фильме есть сцена, которой в двух других нет, – как ее брюнет в шортах мочит, помнишь? Не помнишь? Потрясающая сцена! Шедевр! Я ради этого сюда с другого конца Москвы сегодня ехал, полгорода обрыскал, прежде чем нашел, где его сегодня крутят. Он ей сначала два раза по морде смазал, потом за волосы и на пол, и еще ногами, и еще, пока его не оттащили! Четыре раза, я считал! А я ведь ее в жизни пальцем не тронул, я же дышал на нее, как на свечку… Если б я ее так же, как этот в шортах, может, все бы иначе было… Стоило ведь, до чего же стоило, иногда руки так и чесались! Да и теперь еще чешутся… Четыре раза ногами изо всех сил – так ведь и убить можно, если правильно попасть, по голове, например, а? Как ты считаешь? Я иногда на это надеюсь, прямо как тот мальчик, который десять раз «Чапаева» смотрел и все ждал, что он выплывет, так и я жду, что она получит свое и уже не встанет больше, раз и навсегда, но ей хоть бы что делается, она каждый раз вскакивает и за старое… Но все равно я могу эту сцену смотреть бесконечно! До того я ему завидую, тому ублюдку в шортах… Хотя дело даже не в зависти… Дело в том…
Тут он попытался закурить, но сигарета давно погасла, он поглядел на нее с досадой.
– Потухла…
Покрутив в пальцах, подул, попросил у меня огня. Сырой ветер свистел сквозь темную улицу, и мне пришлось закрывать для него пламя спички спиной.
– Дело в том, что без ключа мне к себе домой не попасть. Нужно кому-то звонить, проситься на ночлег, а времени уже половина первого. Да и не знаю я, к кому проситься, у всех жёны, дети. Негде мне ночевать.
– Может быть, у тебя дубликат ключа где-нибудь есть? – спросил я в слабой надежде, что мне не придется до утра слушать рассказы о его жене, поскольку было ясно, что в слушателе он нуждается так же остро, как в ночлеге, стоит только пустить его к себе, и бессонная ночь обеспечена.
– Второй ключ, конечно, есть, но он в театре, в раздевалке, там все давно заперто.
– Ты работаешь в театре?
– Машинистом сцены.
Он курил, глядя в сторону, на несвежий снег под фонарем, якобы размышляя, кому бы он мог сейчас позвонить, а на самом деле явно поджидая, когда я позову его к себе. Я видел его в профиль: усы, короткая бородка, сигарета, почти сросшиеся над переносицей брови. Ветер бросил мне в лицо запах сигаретного дыма.
– Хорошо, я могу пригласить тебя к себе. У меня нет ни жены, ни детей, есть раскладушка и достаточно места.
– Спасибо! Что бы я делал, если б тебя не встретил?! Давай, что ли, знакомиться по такому случаю. Меня зовут Некрич, Андрей Некрич.
Я не успел пожать протянутую мне на ходу руку, потому что он поскользнулся на детской ледяной дорожке и замахал рукой в воздухе, пытаясь удержать равновесие. Ноги его, обутые в тяжелые американские ботинки, напоминавшие обувь космонавта, заплясали на льду отчаянный танец, при этом с губ его не сходила испуганная кривая усмешка, перекашивавшая лицо то в одну, то в другую сторону, как будто это именно она уравновешивала его тело в принимаемых им, чтобы не упасть, позах, многие из которых явно нарушали законы земного тяготения. Широкое серое пальто на нем, наполовину расстегнувшись и разлетевшись полами в стороны, скрывало от меня его движения, и оттого, что я не мог понять, как ему удается так изворачиваться, мне вдруг показалось, будто он барахтается в невесомости и может так балансировать бесконечно, не возвращаясь в устойчивое положение, но и не падая, – словно черно-золотой лед, по которому мы шли, был поверхностью Луны, а темные дома вокруг с голубым телевизионным светом в окнах – жилищами селенитов.
Наконец он поймал мою протянутую руку, сошел со льда на асфальт.
– …Твою мать, так ведь и убиться можно, затылком об лед – и конец, уноси готовенького!
Неуверенными пальцами он поспешно застегнул пальто, нашел и снова сунул в рот выпавшую, но не успевшую погаснуть сигарету, и только ухмылка его еще некоторое время не находила своих привычных очертаний между усами и бородкой, соскальзывала, не удавалась. Он передернул плечами и поежился.
– На самом деле эта экранная паршивка Ирине в подметки не годится, разве что внешне похожа, а больше ничего общего. Я тебя познакомлю когда-нибудь со своей женой, обязательно, должен же я тебя как-то за ночлег отблагодарить, если ты, конечно, захочешь с нею знакомиться, потому что благодарность эта, с другой стороны, сомнительная. Но сначала-то она тебе понравится, я еще не видел такого человека, которому бы она с ходу не понравилась, она это умеет, у нее чутье на людей неимоверное. Я обожаю наблюдать, как она с каждым новым человеком меняется, сама того не замечая, но его для себя с первых же слов вычисляет. Вот она могла бы стать актрисой блистательной, самого первого ряда: ну если не Комиссаржевской, то Коонен, не то что эта киношная засранка, я в этом уверен – у нее вообще, у Ирины, способностей тьма, только все на одно уходит…
Некрич переступил порог моей квартиры, кажется даже не заметив, продолжая говорить, сел к столу, и лишь когда я протянул ему плечики с вешалки, сделал паузу, чтобы снять пальто. Он был худ, долговяз и сидел закинув ногу на ногу и как бы завязав их в узел, так что бывшая сверху правая нога снова загибалась под левую.
– Теперь, конечно, с тех пор как она переехала жить к этому своему проходимцу, Гурию, мы нечасто видимся, но все равно случается, так что шанс познакомиться представится. По мне, лучше бы мы и не виделись вовсе, мне сегодняшнего фильма хватает, чем встречаться, не имея возможности до нее дотронуться, а она ведь специально меня дразнит, то пуговичку ей сзади застегни, а у нее такая длинная модильяниевская шея, вся открытая после того, как она волосы себе обрезала, то еще что-нибудь придумает, гадина, как будто и в самом деле в кино, глазами видишь, а руками нельзя, но это ведь мука мученическая! В фильме она хоть получает по заслугам, а здесь понимает, что раньше времени я ее не трону, вот и испытывает мои границы, дошел я до точки кипения или нет еще. Но рано или поздно, если она ко мне не вернется, я с ней за все рассчитаюсь, до последнего, она мне кровавыми слезами заплатит, я ее предупреждал, и она знает, что так оно и будет, она мне верит, она, может быть, единственный человек, который мне верит! Больше мне ни одна собака не верит. Но мы-то с нею почти два года прожили, так, как она, меня никто не знает, и ей одной известно, что от меня можно ожидать! Она у меня в ногах будет ползать, пощады молить, ботинки мне вылизывать станет, она же боли больше, чем смерти, боится, я ее тоже, как облупленную, наизусть выучил, уж я найду, чем из нее душу наружу вытащить! Хотелось бы, конечно, своими руками ей ребра пересчитать, но если я и не сам, а людей найму, она все равно сразу догадается, кто за ними стоит, только деньги для этого нужны, деньги, а где их взять, не знаю… Квартиру, что ли, продать, от родителей оставшуюся… А с деньгами все сразу просто, за людьми дело не станет, они мне ее с двенадцатого этажа, как мешок, под ноги выкинут, или еще лучше – автокатастрофа, машина без номерных знаков исчезает за поворотом, а я среди прочих случайных прохожих стою и смотрю, как Ирина корчится на асфальте посреди улицы в луже своей крови! И скорая, как всегда, приезжает слишком поздно. Или, например, включает она у себя дома утюг, или телевизор, или просто лампу – да мало ли вещей, которые могут стать смертельными, если их правильно подготовить, – включает, и – хрясть! – замыкание, электрическая вспышка, удар тока такой силы, что от нее остается одна обугленная головешка! А если удар послабее, то она просто слепнет от вспышки, и я становлюсь тогда ее поводырем, потому что кому еще, кроме меня, она, слепая, нужна, кто с ней будет нянчиться? А я буду, и она без меня уже ни шагу, повсюду только держась за мою руку, как маленькая, я буду ей обо всем рассказывать, что слева, что справа, предупреждать, где тротуар кончается, чтобы не споткнулась…
Пока Некрич говорил, я поставил на стол чай. Он взял чайную ложку и, за неимением потерянного в видеозале ключа с кольцом, крутил ее между большим и указательным пальцами так, что она выписывала в воздухе скользящие восьмерки. По мере того как нарастала дикость и невменяемость его речи, увеличивалась скорость вращения словно приклеенной к пальцам ложечки, а на дне ее, не выплескиваясь при все более крутых восьмерках, ездил слепящий блик от лампы под потолком.
– …Вот она и звонит мне, и появляется под разными предлогами, сегодня одно у меня забыла, завтра другое, по всей моей квартире свои вещи рассовала и специально не забирает, чтобы был повод зайти, – потому что боится меня!!! Поэтому ей и нужно знать, где я, что со мной, чем занят. Ей страшно отпустить меня от себя, она хочет меня всегда в пределах досягаемости держать. Этим ее страхом мы с нею навсегда повязаны, ей от него никогда не избавиться, на всю жизнь, до самой смерти!
В этот момент чайная ложка наконец сорвалась, и хотя я все время ждал этого и готовился, поймать мне ее все-таки не удалось.
– Ты чай пить будешь или я стелю и ложусь спать?
– А у тебя ничего нет к чаю… вкусненького?
– Что бы ты хотел?
– Что бы я хотел… Ну, например, пирожное, картошку или, скажем, эклер. Картошка – мое любимое, а эклер – Иринино, но за время, что мы с нею прожили, я полюбил все то, что и она, даже больше, чем то, что сам любил. Ты не поверишь, когда она ушла от меня, я часами ее пластинки слушал: эстраду, Пугачеву, еще дурех каких-то безголосых…
– Я не ем пирожных, у меня от сладкого зубы болят.
– Жалко… А если зубы болят, я могу тебе врача одного порекомендовать. Все под наркозом делает и недорого. У меня знаешь как зубы болели?! Я просто выл сутками не переставая, а он все выдрал так, что я даже и не заметил. На, посмотри. – Некрич быстро засунул палец за щеку, оттянул ее и вывернул голову так, чтобы я мог заглянуть ему в рот. Там, открывая мне для обозрения розовые дыры от выдранных зубов, заворачивался то в одну, то в другую сторону его толстый язык, обитавший во рту как самостоятельное живое существо – мокрый, голый, слепой звереныш, скрывавшийся за щеками от дневного света, продуктом секреторной деятельности которого был мат, употребляемый Некричем вместо всех знаков препинания. Опускаемый мной при воспроизведении его слов мат пенился на губах Некрича, как переполнявшая рот слюна, и он должен был то и дело сплевывать ее, чтобы продолжать говорить. Особенно возбуждался живший у него во рту зверек, когда Некрич говорил о своей жене (со временем выяснилось, что он способен касаться и других тем, но неохотно отвлекался от главной), и тогда речь его кувыркалась через знаки препинания после каждого второго слова.
Изучение рта Некрича нагнало на меня сон. Убирая со стола, я вспомнил, что в холодильнике у меня давным-давно лежит нетронутая плитка шоколада, всученная настырной матерью одного из учеников, сколько я ни отказывался. «Ничего, сами не съедите – подарите вашей девушке», – сказала она, кладя мне шоколад в карман, и я перестал возражать, потому что не хотелось признаваться ей, что у меня нет сейчас никакой девушки. «Может быть, появится», – подумал я тогда. Теперь шоколад пригодился для гостя, Некрич ему страшно обрадовался. Он стал есть его с необыкновенной поспешностью, торопливыми пальцами сдирая хрустящую фольгу и заталкивая в рот целые большие куски, точно боялся, что я у него отниму. При этом он ни на секунду не прекращал говорить.
– Ирина тоже шоколад обожает. Какого я ей только не покупал: и швейцарского, и нашего, и немецкого – если бы она только сказала, я бы ее одним шоколадом кормил, утром, днем и вечером! Я же ей ни в чем не отказывал – все, что она просила, покупал, на все деньги, какие были, мне для себя ничего не нужно было, всё ей, всё! Хочешь туфли на высоком каблуке, на, возьми, рассекай по асфальту; хочешь чулки в сетку, пожалуйста тебе чулки, хочешь трусы французские, прозрачные такие, чтоб все просвечивало, бери просвечивай, мне не жалко, пусть они половину моей театральной зарплаты стоят, но ведь мы жили не на те убогие гроши, которые мне в театре как машинисту платят, ты же понимаешь…
Скорость, с которой Некрич пожирал шоколад, определялась скоростью владевшего им монолога, не желавшего замедляться оттого, что рот его все больше набивался шоколадной массой. Некрич не успевал проглатывать, щеки его раздувались, речь становилась все менее членораздельной, слова увязали в шоколаде.
– Как только я не выкручивался, из чего только деньги не делал, я жизнью своей рисковал, не говоря уже о свободе, для того лишь, чтобы она за один вечер все спускала в каком-нибудь кабаке! Но я-то думал, идиот, что так и надо, что эта сладкая жизнь будет продолжаться бесконечно, а она, падла, она меня бросила, и все сразу кончилось, гадина… – В этот момент полупрожеванная коричневая каша полезла у него изо рта, и ему пришлось замолчать, по крайней мере на время.
Я постелил ему на раскладушке, но перед тем, как лечь, он сказал, что после такого количества сладкого ему необходимо почистить зубы.
– Врач, который меня лечил, предупреждал, что, если не буду чистить, они вылетят все к чертовой матери. Представляешь, просыпаюсь я однажды утром, а зубов как не бывало. Пустота во рту, прохлада…
Я дал ему свою запасную зубную щетку, он ушел в ванную и скоро позвал меня оттуда.
– Посмотри, сколько у меня крови из зубов течет! Никогда столько не бывало! Паста из белой стала вся красная!
– Это не из зубов, а из десен. У тебя пародонтоз, обычное дело, от этого не умирают.
– Не умирают? Ты думаешь? Сразу, может быть, и не умирают, а постепенно, со временем. Кровь-то истекает, сочится по капле, и ничем ее не остановишь. Я чувствую, как во мне с каждым днем крови все меньше и меньше. Скоро совсем не останется, кончится вся. И дело это совсем не обычное, так много из меня никогда раньше не текло… Можешь мне поверить, что это что-нибудь да значит…
Мы легли спать, я потушил свет и спросил:
– Что может значить пародонтоз?
– Медицинские названия ничего не объясняют. Кровь всегда означает кровь. Резню, убийство… Точнее я не знаю… Мое дело давать знаки, а не толковать их… Может быть, войну – гражданскую, например…
Голос Некрича, к которому я уже привык, показался в темноте вдруг совсем незнакомым.
– Ладно, спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – ответил он.
За этот вечер у меня сложилось впечатление, что я знаю его давно, по крайней мере несколько месяцев, – но стоило погасить свет, как оно исчезло.
– Игорь… Эй, Игорь… Игорь, ты спишь?
Я не откликался, но чувствовал, что дрожанье век выдает меня. Некрич, кажется, вполне способен был разглядеть его в почти полной темноте комнаты, слабо освещенной сквозь занавески фонарем с автостоянки напротив.
– Врешь, ты не спишь, я же вижу.
– Сплю.
– Ага, не спишь, я же говорил. Вот и мне не спится, я после этих фильмов никогда уснуть не могу.
– Сколько времени?
– Откуда я знаю… У тебя здесь где-то часы тикают.
– На столе. Только свет не зажигай.
– Половина четвертого вроде. Мне уж точно не заснуть. У тебя снотворного нет?
– Нет.
Я услышал, как раскладушка заскрипела, и увидел в полутьме, что Некрич сидит, накинув на плечи одеяло.
– Правильно, снотворное – вредная гадость… Ирина тоже всегда без снотворного засыпала, запросто. Придет в час, в полвторого, начнет мне рассказывать, где была, а сама уже так спать хочет, что раздеться как следует не может, в чулках своих путается, из платья выбраться не в состоянии, так и падает на подушку, все с нее свисает, полуснятое, я уже потом стягиваю, она даже не просыпается, только бормочет чего-то там во сне… Но поцеловать меня на ночь никогда не забывала, даже если совсем уже спала и глаз не могла раскрыть… На ощупь… Спиртным от нее, конечно, несло так, что вся комната этим запахом пропитывалась, и духами, и еще по́том из подмышек, но такой он был детский, запах ее пота, точно ей не двадцать семь, а лет семнадцать от силы, и никакие духи и помады ее не могут взрослой женщиной сделать, он сквозь все пробьется… Мне никакого другого запаха не нужно было, никаких духов не нужно было… И, представляешь, я всему верил, что она мне рассказывала, меня даже не интересовало особенно, где она пропадала и с кем напивалась, хоть я и знал, конечно, ее друзей, подонков общества, они у нас все перебывали, ночами просиживали, в преферанс до утра резались, но главное-то, я ей верил, ей даже говорить ничего не нужно было, я видел ее, и мне этого было достаточно, чтобы знать, что все хорошо, она со мной.
– Послушай, Андрей, я не знаю твоей жены, и она меня мало интересует…
– Не знаешь – узнаешь…
– … Я хочу сказать, что четыре часа ночи, у меня завтра два урока в разных концах города, мне нужно выспаться.
– А, хорошо, хорошо. Извини.
Снова заскрипела раскладушка, и Некрич лег. Некоторое время он ворочался с боку на бок, пытаясь подавить в себе желание говорить, потом встал, подошел к окну, приоткрыл занавеску. Мне была видна со спины его вытянутая костлявая фигура в желтом свете с улицы. Постояв у окна, он присел на подоконник, потом пересел на стул. Я чувствовал, что, пока он слоняется по комнате, мне все равно не уснуть.
– Может быть, ты ляжешь?
– Не могу. Не лежится. Я посижу, сидя мне лучше. А ты спи, спи, я же тебе не мешаю.
– У тебя что, болит что-нибудь?
– Болит?.. Нет, ничего не болит… Мне кажется, что у меня все кости высосаны изнутри тоской и пустые. Особенно когда лежу – когда сижу, не так…
Некрич вытянулся на жестком стуле, опираясь только о край сиденья и шеей – о край спинки, закинув голову назад, так что самой высокой точкой его силуэта с четко обозначившейся на фоне желтого окна линией кадыка стала задранная кверху короткая бородка. Широко раскрытыми глазами и открыв рот, словно глаз ему было мало, он смотрел в проступавший из полутьмы потолок. Тяжесть и пустота потолка наконец-то задавили в нем инерцию говорения, и он замолчал, застыв в своем неудобном положении. Воспользовавшись паузой, я начал засыпать.
Из сна меня вырвала пистолетная стрельба: на грани пробуждения осуществлялись слова Некрича о грядущей гражданской войне. Сам он снова сидел на подоконнике, завернувшись в занавеску, и, переплетя пальцы, громко трещал суставами. Пальцы его при этом выгибались почти под острым углом к тыльной стороне ладоней.
– Ведь я чувствовал, что этим кончится! – Он снова заговорил, почуяв, что я не сплю. У меня не было никакой возможности убедить его в обратном, разве что захрапеть, но он все равно бы не поверил. – Я знал, конечно, все с самого начала и обманывал себя, делая вид, что ничего не замечаю, мне было это просто, а главное, больше ничего и не оставалось. Я же видел, как они за моей спиной переглядывались, вся эта шатия, друзья Иринины, подонки общества, я слышал, как они со мной разговаривают, всегда с усмешкой. Они меня всерьез не принимали, за дурачка держали, хотя в лицо и не говорили. Еще бы, как можно принимать всерьез человека, женившегося на такой отъявленной суке! Они ухмылялись так, точно она спала с ними со всеми, с каждым из них, без исключения! А я делал вид, что мне эти их ухмылки безразличны. Я всегда хотел ей показать, что я выше этой банды, я не чета тем выродкам, с которыми она проводит время, но она, кажется, не видела между нами никакой особенной разницы: мы все были для нее одно – мужчины! А ведь я ее к себе в театр водил, на самые лучшие места, на первый состав, и ей нравилось. Ты не поверишь, она даже плакала однажды на «Волшебной флейте», я из-за кулис смотрел за ней и видел, как у нее тушь от слез потекла, она всегда ресницы густо тушью красит, сколько я ни говорил, что ей это не идет… А после спектакля так мне благодарна была, так счастлива, что все хорошо кончилось!
Некрич замерз на подоконнике, накинул рубаху и пересел к батарее, прямо на пол, прислонившись к ней спиной. Но пол тоже был холодный, и он скоро перебрался на табуретку, завязав ноги узлом, руками обхватил себя за плечи. Он пытался собрать свое костлявое тело как можно компактнее, сжать его насколько возможно туго, чтобы в нем не осталось пустот с их засасывающей тоскою. Куда бы он ни садился, везде ему было неудобно.
Время от времени мне удавалось выключиться; не засыпая до конца, я переставал воспринимать смысл слов, но голос Некрича, иногда спадавший до невнятного бормотанья себе под нос, всякий раз усиливался в последний момент очередным приливом отчаяния или обиды и настигал меня на самом пороге засыпания.
– Однажды прихожу с репетиции, а у нас уже эти двое сидят, в карты режутся, Коля и Толя, я вечно путал, кто из них кто, кто Коля, а кто Толя, я спрашиваю: «Где моя жена? – Я же с ней по телефону разговаривал, я знал, что она дома. – Где Ирина?» Они друг на друга смотрят. «Ирина?» – «Ты не знаешь, где Ирина?» – «Где же она может быть?» И так они ее имя произносят, как будто бы совсем о другом человеке речь, мне не знакомом или, по крайней мере, им знакомом гораздо лучше, чем мне. Я не стал дожидаться, пока они мне в глаза врать начнут, прохожу в соседнюю комнату – там пусто, возвращаюсь назад, и одновременно со мной входит Гурий, рубашку на груди застегивает. Я его спрашиваю, где она, он говорит: в ванне моется. Из ванной действительно шум воды, я ору сквозь дверь: «Ира, ты там?» Она в ответ: «Подожди, сейчас выйду», – и долго не выходит, а когда наконец появилась, я смотрю, у нее волосы сухие. А Гурий между тем карты сдает и меня как ни в чем не бывало спрашивает: «На тебя сдавать?» Я к нему оборачиваюсь и вижу, что у него-то, у подлеца, волосы мокрые! Казалось бы, все ясно: разводят они меня вчетвером в моей же квартире. И что, ты думаешь, я сделал? Ничего я не сделал, сел с ними играть, карт не различая, вслепую – для меня все масти в одну слились, потому что Ирина вокруг стола в одном халате после душа ходила, всего на две пуговицы застегнутом. То к одному в карты заглянет, то к другому. И я начинаю вдруг выигрывать, один раз, потом другой, третий, все больше и больше… И с каждым выигрышем мне все тошнее и скучнее становится…
Приблизительно в этот момент я отключился и не узнал, чем кончилась игра, а когда я вновь вслушался в голос Некрича, он рассказывал то же самое сначала. Снова он метался по квартире с одним и тем же вопросом: «Где моя жена?», снова двое за столом перекидывались ее именем, и он с ужасом слушал, как оно становится ему все более чужим, точно прилипает к их нечистым ртам. На этой истории Некрича заклинило. Опять и опять повторял он, как входит Гурий (я так и не понял, имя это или кличка), застегивая пуговицы на груди, на рукавах, на ширинке, как вслед за ним появляется жена с сухими волосами, с мокрыми волосами, возникает из ванной, из кухни, из туалета, со всех сторон и изо всех дверей одновременно, улики множились, но доказательство ее измены оставалось незаконченным, не достигало полной убедительности, и это заставляло Некрича вновь возвращаться к началу и прокручивать всю историю по третьему, потом по четвертому кругу. При этом возникали все новые и новые детали, и чем вернее они уличали жену, тем сомнительнее выглядела вся история в целом; точно он не вспоминал их, а выдумывал на ходу. В конце концов я начал подозревать, что у него вообще никогда не было никакой жены, а все, что он мне рассказывает, – не более чем грубо сшитые обрывки дрянных фильмов, которых он насмотрелся в видеозалах. Возможно, он просто душевнобольной, одержимый навязчивой идеей, чей бред разрастается и детализируется бесконечно, питаясь просмотром видеофильмов. Я и раньше встречал таких, заболевших от одиночества, дожидающихся слушателя, чтобы, вывалив на него свои фантазии, самим поверить в их реальность. Я даже начал припоминать в сегодняшнем кино похожую анекдотическую сцену с изменой в ванной комнате, внезапным возвращением мужа и шумом воды в душе, покрывавшим все слова. Когда Некрич начал по пятому кругу, я почувствовал себя близким к обмороку, но меня спасла способность отключаться и незаметно ускользать в полусон.
Говоря, Некрич продолжал перемещаться по комнате, не находя себе места. Полузасыпая и снова просыпаясь, я видел его сидящим на стуле верхом, на табуретке по-турецки, на тумбочке, на крышке стола; стоящим, вытянувшись вдоль дверного косяка, или у противоположной окну стены, прижимаясь спиной к отброшенной на нее фонарем тени оконной крестовины, раскинув руки вдоль горизонтальной перекладины; свернувшимся в кресле калачиком. Под конец – но это было уже, конечно, во сне – я помню его в сером предутреннем свете сидящим молча на книжном шкафу, ссутулившись, потому что между шкафом и потолком оставалось совсем мало места, подперев подбородок руками, с желтым отсветом фонаря с автостоянки в больших неподвижных глазах. В этом сне я страшно медленно и осторожно поворачивал голову, осматривая пустую комнату, прежде чем обнаружить его под потолком, боясь, что стоит ему заметить, что я проснулся, и он снова начнет говорить. Едва я его нашел, как он оторвался от окна и повернулся ко мне, но я успел прикрыть глаза, и тогда он, безошибочно считая меня спящим, в то время как сам я думал, что только притворяюсь, вдруг быстро высунул в мою сторону свой толстый язык, окончательно превратившись в химеру с башни Нотр-Дам. Далеко высунул, аж до подбородка.
Утром я поспешно провожал, почти что выпроваживал Некрича, рассеянный и безразличный с недосыпа. Мы выпили по чашке кофе, он звал меня к себе в театр, обещал бесплатно провести на любой спектакль, принялся расхваливать постановку «Хованщины», но я едва слушал. Уже стоя на пороге в пальто и открыв дверь, Некрич увидел на тумбочке в прихожей мой проездной. Он быстро достал из внутреннего кармана пальто свой билет, положил его рядом, рубашкой кверху, а себе, ни слова не говоря, забрал мой, как карту при обмене в покере. Я взял его проездной, думая, что он просрочен, но он оказался точно таким же, как мой, – на февраль. Прежде чем опустить мой билет к себе в карман, Некрич еще раз взглянул на него и улыбнулся, точно ему пришла нужная карта. Мы попрощались, я закрыл за ним дверь.
Медленно гасла под потолком театральная люстра, и раззолоченный галеон зрительного зала с ярусами балконов, бельэтажем, ложами, партером и притихшими зрителями плавно погружался на темное дно. Последним источником света в полной тьме оставалась оркестровая яма. Затем осветился и пошел волнами, раздвигаясь в стороны, тяжелый занавес, расшитый золотом по красному пятиконечными звездами и гербами республик СССР. Открылась сцена. На заднике тускнел не то рассвет, не то закат, не то застывший отблеск пожара. Среди серых, почти сливающихся с темными декорациями армяков народа алели кафтаны стрельцов. Бояре в высоких бобровых шапках, «замутить хотя на государстве», собирались на «гнусное совещание». Приведенная в действие доносом, закручивалась малопонятная политическая интрига. В массовых сценах было занято едва ли не столько же народу, сколько сидело в зале, все пространство между кулисами полнилось смутным движеньем. Хоры напоминали пенье бурлаков, вытягивавших, надрываясь, то и дело застревавшую на мели перегруженную баржу народной оперы. И все-таки она плыла, медленно и неумолимо двигаясь вперед – посуху, яко по морю. Хоры, превышая друг друга, громоздились в темном сияющем пространстве над рядами партера, вдавливая зрителей в кресла: «Победихом, посрамихом, пререкохом, пререкохом и препрехом ересь. Ересь нечестия и зла стремнины вражие. Победихом, пререкохом и препрехом!» Раскольники готовились к самосожжению, преданные стрельцы выходили, ссутулясь, неся на своих плечах плахи, на которых должны быть казнены. Действие разворачивалось все шире, все больше людей теснилось среди декораций, казалось, опера уже не умещалась в театральных стенах, еще немного – и она вырвется из них на простор городских улиц. Но хитрое устройство сцены, предотвращая выход происходившего на ней за ее пределы, открывало новые неожиданные пространства: за кремлевскими башнями возникали алые боярские палаты, за ними – раскольничий скит, позади него голубел заснеженный лес, уходивший в синюю даль, в мутный закат или неизменный отсвет пожара, а за лесом и закатом сидел у пульта машиниста Некрич и, слушая в наушниках указания помрежа, щелкал переключателями.
Я навестил его в антракте, чтобы поблагодарить за контрамарку, но у него не было для меня ни секунды. Он вел сегодня вечером спектакль, и вся ответственность лежала на нем. Вся сложная машинерия оперы была в его руках. Некрич переводил рычаги на пульте, и кремлевская стена на скрипучих тросах поднималась вверх, уходила высоко в полумрак над сценой, а ей на смену спускался оттуда обреченный сгореть деревянный скит. Двое молодых ребят в кедах и джинсах выкатывали плаху на колесиках, Некрич подгонял их: «Живее, живее!» Меня едва не сбили с ног рабочие, толкавшие перед собой Лобное место. Я не знал, куда приткнуться среди поспешно перемещаемых или вдруг взмывающих в воздух стен, башен, сундуков, ларей. Стоило мне прислониться к резным перилам лестницы, как всю лестницу выносили у меня из-за спины на сцену. Я позавидовал Некричу, чувствующему себя за своим пультом как дома в этом лихорадочно подвижном мире среди невесомых вещей.
Все с ним были здесь на «ты». Марфа-раскольница, крупная широкоплечая женщина, расхаживала из стороны в сторону той же «величавой» походкой, что и по сцене, начинала выпевать все одну фразу и бросала, не закончив. Несколько раз она закашлялась, потом достала из расшитого сарафана носовой платок и звучно высморкалась.
– Неужели простудились? – участливо спросил Некрич.
– Не говори, Андрюша, наверное, слягу на больничный, еле на ногах держусь, вспотела вся. – Она озабоченно потрогала лоб рукой, проверяя, нет ли температуры. Выступивший на полном лице от усилия пения пот блестел в свете софитов, но когда ее голос вновь и вновь поднимался к своему высшему пределу, казалось, что это само ее лицо сияет от напряжения и счастья.
– Конечно, все меня здесь знают, я же практически вырос за кулисами, – сказал мне позже Некрич, когда под конец антракта у него нашлась для меня пара минут. Мы выглянули из-за занавеса в заполнявшийся публикой зал.
– Вон там, – показал он, – царская ложа, в ней сидел государь император и члены царской семьи. Теперь это ложа для правительства или для видных иностранцев, не ниже министров. Ну, а вокруг обычно сидят гэбисты. – Несмотря на небрежный тон, он явно гордился своей причастностью к развлечениям людей большой политики.
Прозвенел звонок, и я пошел обратно к себе на балкон, договорившись встретиться с Некричем после спектакля.
Побывав за кулисами и увидев своими глазами, что все громоздкое сценическое зрелище изнутри держится на соплях, я ждал теперь, что оно вот-вот даст сбой, запнется и развалится, например, Марфа-раскольница закашляется посредине арии и не сможет продолжать. Но ничего такого не происходило, все шло как по маслу, как будто само собой. Марфа была той же самой, что за кулисами, и все-таки уже совсем другой: ни закашляться, ни высморкаться, ни даже просто вытереть нос было уже не в ее власти. Зрелище, такое шаткое и топорное с изнанки, где все, к чему ни прислонись, грозит завалиться, своей обращенной к залу лицевой стороной было нерушимо и монументально, точно это взгляды зрителей скрепляли его намертво.
Рядом со мной сидела пожилая женщина, заботливо опекавшая свою соседку, годившуюся ей в матери. Та была одета в черное платье, оставляющее открытой тонкую и морщинистую, как куриная нога, шею. Края платья у горла она постоянно поправляла и теребила сухими пальцами. Судя по возрасту, она вполне могла девочкой видеть в царской ложе Николая, а членов правительства прошло перед ее глазами столько, что она наверняка уже путала их лица между собой и с лицами умерших родственников. Оперу она слушала полуприкрыв глаза, как бы одновременно вспоминая. К началу третьего действия она незаметно уснула и, тихо похрапывая, спокойно проспала до конца. Вторая женщина накрыла ей плечи от сквозняков широким шарфом. Бушевавшая внизу опера не мешала ей спать: достигнув нашего высокого балкона, музыка теряла большую часть своего напора, как высокая морская волна, поднявшись из глубины, распластывается у ног, дойдя до берега. Люди на сцене казались отсюда маленькими, почти игрушечными, а сама сцена – городком в табакерке.
История приближалась между тем к своему неизбежному финалу. Карликовые фигурки пришлых людей толпились у рампы. Раскольники заперлись в скиту, чтобы сжечь себя. Я откинулся на спинку обтянутого красным бархатом кресла, оно было удобным, даже слишком мягким. Слабая лампочка светилась за спиной над дверью. Кто-то чистил апельсин, и на балконе стало так же уютно, как в едущем по Кольцевой вагоне метро, наполненном апельсиновым запахом. Скит с раскольниками запылал в глубине сцены малиновым дымным пламенем, отбрасывая отсветы на позолоту балконов. Уйдя всей спиной в кресло, я чувствовал, что перестаю ощущать расслабившееся тело. Бархатное болото оперы незаметно засасывало меня. Над Москвой-рекой занимался рассвет. Под аплодисменты вновь сошелся перед сценой занавес с гербами и звездами.
– Моя бабушка проработала театральным костюмером почти всю жизнь. Редкая была женщина, удивительная, Софроницкого в молодости знала, с Соллертинским приятельствовала. Она меня, в сущности, и воспитала, у матери другие были заботы, а отца я вообще едва помню, он был на двадцать лет старше мамы и умер раньше, чем я в школу пошел. По бабушкиной протекции я и в театр попал и прижился здесь…
Мы с Некричем сидели в комнате в глубине театра, которую он считал своей, хотя по основному назначению она служила складом для инструментов оркестра и была до потолка заставлена различной формы футлярами с арфами, контрабасами, трубами, валторнами.
– Сначала я в хоровом училище был, вместе с другими мальчиками выбегал в армячке на сцену в «Борисе Годунове» и пел «Здравствуй, здравствуй, юродивый Иваныч!». Помню, мне страшно нравилось у него копеечку отнимать, он только махал нам вслед руками в лохмотьях, здоровый детина в своей дурацкой шапке. А мне бабушка специально по моему размеру армячок сшила, чтобы в нем было удобно туда-сюда по сцене бегать, к нему еще лапти были и пояс.
Некрич достал из сумки большой двойной бутерброд и стал его есть, подставив снизу ладонь, чтобы свесившийся кусок колбасы не упал на пол. Глядя на эту согнутую лодочкой ладонь, я увидел сквозь Некрича с усами и бородкой маленького Некрича – крестьянского мальчика в лаптях и армячке, которому бабушка затягивает потуже пояс перед выходом на сцену. Мальчик, правда, был всего лишь уменьшенной копией взрослого Некрича, и усы с бородкой тоже присутствовали на детском лице, потому что без них и без почти сросшихся над переносицей бровей вообразить его мне не удавалось.
– В училище мне больше всего нравилось, – продолжал он с набитым ртом (очевидно, бабушка, занятая костюмами, забыла обучить его главному жизненному правилу всех воспитанных детей: «Когда я ем, я глух и нем»), – молчать, когда все поют хором, и только рот открывать для вида. Я был со всеми, но голоса моего не было, и никто этого ни разу не заметил. Если правильно губы растягивать, то никак не увидишь. Училища я, впрочем, не окончил, однако с театром не расстался, стал работать в массовке. И ни разу потом не пожалел, что солиста из меня не вышло. Мне никогда не хотелось, чтобы внимание всей публики было приковано ко мне, гораздо больше мне нравилось быть человеком толпы, теснящейся на сцене, одним из многих, неотличимым от остальных, будь то мужики, крестьяне, дружинники или египтяне из «Аиды», – я всегда хотел быть с народом! В «Аиде» я был негром из египетского войска, весь в черный цвет с головы до ног перекрашивался, особенно следили, чтобы мы себе ступни не забывали выкрасить, приходилось перед тем, как выйти на сцену, пятки показывать. В «Князе Игоре» на меня надевали кольчугу, приклеивали усы, бороду лопатой – тогда я еще своих не отрастил, – и я был дружинником, выносил русский стяг вслед за Игорем, который во главе дружины на белой лошади выезжал. А стяг высокий, тяжеленный, то в одну сторону клонится, то в другую и меня за собой тянет, а надо держать его все время, пока Игорь, не слезая с лошади, свою арию поет – ария длинная, конца не дождешься, кобыла уж на что терпеливая, и то с ноги на ногу переминается, у меня шлем на глаза сполз и руки заняты, поправить нечем, так что я не вижу уже почти ничего, кроме пола под ногами и лошадиных копыт!.. Кольчуга жаркая, пот с меня в три ручья течет, усы приклеенные колются, едва стою… Тяжела доля русского дружинника, негром было куда лучше. Я в «Князе Игоре» все ждал, что лошадь когда-нибудь не выдержит и прямо на сцену наделает. И, представляешь, ни единого раза за все годы, что я в театре! Ну ладно я из любви к высокому искусству под своей кольчугой пикнуть не смею, но она же – лошадь, ей все дозволено, ей никто и слова не скажет! Будь я лошадью, я б на ее месте, пока князь соловьем разливается, так подналожил, что на верхних ярусах пришлось бы носы затыкать, а в партере без противогазов не усидели б! А она стоит – как неживая, только губами жует и хвостом помахивает. Я уже думал, может, это и в самом деле специальная театральная кобыла с искусственными кишками, или они ей затычку вставляют туда какую-нибудь, когда на сцену пускают. Мы с одним приятелем хотели проверить, слабительным ее напоить, но где возьмешь столько слабительного, ведь доза нужна лошадиная – целое ведро, не меньше… Слишком опасно, к тому же: в зале вечно послы, дипломаты иностранные, дело могут как политическую провокацию повернуть, вскроется – упекут… Так Ганя – кобылу Ганей звали – и умерла год назад, ни разу представления не подпортив. Она была старая уже, видела плохо, да и слышать, наверное, ничего не слышала, ей было плевать, что опера, что оперетта, главное – отстоять на сцене положенное, сыграть свою роль в истории и назад в стойло сено жевать. Теперь вместо нее другая князя возит, тоже белая, толстая, так по пандусу топает, что все декорации дрожат…
За разговором Некрич собрал в сумку свои вещи, и, поплутав театральными коридорами, мы вышли на улицу. Было уже совсем поздно, безлюдно и тепло. Желтый снег лежал под фонарями рыхлый, как творог, пропитанный водой, казалось, надави – и из него потечет, как из губки. Хотя пора уже было торопиться, чтобы не опоздать на последний поезд метро, мы решили пройтись одну остановку пешком. Редкие машины проезжали по широкой площади, шипя в облаках мелких брызг. Иногда их шипение заглушало голос Некрича, и тогда я видел его открывающим рот, но не слышал ни слова.
– …Ну вот, а потом я перестал участвовать в массовке и какое-то время занимался делами, с театром не связанными, – антиквариатом, старой мебелью, думал даже на реставратора учиться, но в конце концов убедился, что весь мир, кроме театра, для меня холоден и чужд. Везде расчет, ты – мне, я – тебе, круговая порука мелкой сволочи наподобие Ирининых друзей-приятелей. Где бы я ни оказывался, я чувствовал себя не на своем месте, рано или поздно это начинали замечать остальные и объединялись против меня. Сколько бы я ни притирался и ни старался сойти за своего, в конце концов открывалось, что я всем чужой. Только в театре у меня не было нужды подделываться под окружающих, только там я мог быть самим собой, неважно, на сцене или за кулисами. Так что пришлось бабушке, благо она еще шила костюмы, походатайствовать, чтобы меня взяли в бригаду рабочих. По мне, так за кулисами еще лучше, чем на сцене: там своя игра, свое распределенье ролей, свои интриги – кто поедет, например, с театром в зарубежные гастроли, а кто нет, но главное, конечно, не в этом, главное в том, что все вокруг возникает ниоткуда и исчезает в никуда – государства, политики, деньги, сенсации, разоблачения, – один лишь театр – наш театр! – был всегда и будет вечно! И когда я выносил на сцену во главе дружины русский стяг, я знал, что точно так же выносили его и пятьдесят, и сто лет тому назад, и поэтому он подлиннее всех тех знамен и лозунгов, под которыми проходят сейчас всевозможные митинги, они пойдут на половые тряпки, а он останется и век спустя будет висеть над сценой! В театре я нахожусь в неподвижном центре истории, в розе ее ветров, вся мелочь важных и нe важных событий случается на периферии и не заслуживает внимания…
Некрич пренебрежительно махнул рукой и умолк. Несколько минут мы шли не разговаривая, а когда уже подходили к метро, сначала отдельными хлопьями, а потом все гуще пошел снег. Преувеличенно крупные, бутафорские хлопья наполнили воздух, сразу ставший легким, как весной. Прежде чем войти в вестибюль станции, я оглянулся назад и увидел посреди проезжей части еще одного позднего прохожего, самого последнего, крохотного под громадным снегопадом над площадью, уже облепленного им с головы до ног. Покачиваясь, он брел в сторону от метро по возникшей за несколько минут на месте мокрого асфальта снежной целине. Похоже было, что он забыл, куда ему нужно, забыл свой привычный маршрут через центр города, свой адрес, телефон, возможно, даже свое имя, фамилию и отчество – точно это обрушившаяся на него бутафорская метель в ночном весеннем воздухе повлекла за собой внезапную полную потерю памяти.
В оттепель всегда хочется пить спиртное, лучше всего пиво. Расслабленность и распад, царящие в городской природе во время хмурого или солнечного таяния, тянут к ним присоединиться. В эти дни мы довольно часто встречались с Некричем, гуляя, брали по бутылке пива, и пока он, едва отхлебнув из своей, как обычно, говорил без остановки, я высасывал свою до дна и покупал следующую. Если светило солнце, воздух слабо пах дымом, и к вечеру от выпитого и избытка света у меня начинала тупо болеть голова.
Что-то от оперной смуты просочилось все-таки сквозь стены театра на улицу. Однажды нам пришлось сделать крюк, чтобы обойти стороной громадный митинг. Из центра толпы доносились обрывки выкрикнутых в мегафон фраз: «Растущая напряженность… предатели интересов народа… Россия на грани… коммунисты… путчисты… завтра может быть поздно…» Нам были видны только спины, вытягивавшиеся, чтобы перерасти друг друга, встающие на цыпочки, голые шеи, тянущиеся вверх из воротников в сырую пустоту солнечного воздуха над площадью. В подземном переходе у трех вокзалов женщина в платке, стоя на коленях, пела сильным, на весь переход разносящимся голосом: «Спасены мы, Христос идет из Сибири, имя ему Виссарион». Вокруг нее тоже толкался народ. В эти оттепельные дни люди вообще необыкновенно легко собирались вместе, точно все так же шатались без дела, как мы с Некричем, и только и ждали повода, чтобы сбиться в толпу. У входа в метро слепой играл на аккордеоне нечто грозное, тягучее, бахоподобное. Идущие мимо под медленную затягивающую музыку, казалось, двигались против течения, напрягаясь, чтобы быстрее миновать аккордеониста, вырваться за пределы досягаемости его густых вяжущих созвучий. Они кидали деньги в футляр от инструмента, слепой сгребал их в кучу и ощупывал вялыми движениями анемичной руки, словно у него самого от этой музыки кости расплавились. Больная полиомиелитом женщина в рыжей короткой шубе с большим букетом только что купленных цветов прошла мимо него, скособочившись, подтаскивая тонкую ногу в черном чулке и мучительно вихляясь, но со стороны это выглядело так, будто она приплясывает под аккордеон, нарочно выделываясь для потехи.
– Пора бежать отсюда, – сказал тогда Некрич, – прочь из этого города, из этой страны, этой части света, и чем дальше, тем лучше – в Америку лучше, чем в Европу, а надежнее всего – в Новую Зеландию, только там можно себя чувствовать по-настоящему в безопасности от того, что здесь произойдет! Близятся события… То, что было до сих пор, – Чернобыль, «Нахимов» – только вступление, только увертюра… Я слышу их приближение, как глухой барабанный бой, очень далеко, но здесь колеблется воздух. Как будто где-то долбят асфальт, и в окнах мелко дрожат стекла. Ночами я просыпаюсь от их гула, он будит меня во сне и стихает, когда я открываю глаза, но до конца не исчезает, остается постоянным фоном, проступает сквозь все шумы и звуки, стоит мне на нем сосредоточиться. События висят в атмосфере, им осталось только разразиться, это произойдет скоро, быстрее, чем ожидают. Я смотрю на них, на тех, кто суетится, покупает подешевле, продает подороже, примеряет все эти шляпки, – мы проходили мимо магазина, где молодая женщина стояла перед зеркалом возле окна, Некрич не проглядел ее, несмотря на азарт пророчества, – и мне жалко их иногда до слез – ибо никто здесь не избегнет и никто не будет пощажен! Как сказано, у всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах – плешь, серебро их и золото не сильно́ будет спасти их!.. Боюсь, что даже наш театр не силен будет спасти, хотя он-то, конечно, переживет любые события и сохранится до тех пор, пока вся эта часть суши не уйдет на дно океана в результате нового геологического катаклизма, но ведь каждый из нас в нем заменим, тем более простой машинист сцены, и когда меня однажды не станет, никто, может быть, даже не заметит, никто и не вспомнит обо мне! Я бы давно уже сделал отсюда ноги, если не в Новую Зеландию, то хотя бы в Европу, в Германию например, – самая музыкальная страна, на каждом перекрестке симфонический оркестр, а оттуда и до Зеландии, когда наступят черные дни, легче добраться, чем из Москвы, но прежде мне нужно с Ириной расквитаться, она меня здесь намертво держит; пока мы с ней не разочтемся, нет мне отсюда исхода! А если она ко мне вернется, – Некрич на секунду замолчал и поглядел на меня, точно ожидая подтверждения, что это возможно, – если она все-таки вернется, то мне никакие грядущие события не страшны, нам на них будет просто-напросто плевать: пусть гражданская война, пусть все вокруг рушится, сгинет в пламени, обратится в прах, пусть от этого города камня на камне не останется, он давно уже заслужил – пусть! И если погибать, то вместе!
– Давай, что ли, еще по одной за это дело? – предложил я, допив последний глоток из своей бутылки.
Мы взяли еще пива и сели на лавочку на солнечной стороне бульвара. По бульвару гуляли пенсионеры в черных или синих до черноты драповых пальто с вытертыми каракулевыми воротниками. Они переходили от одного газетного стенда к другому, щурились читая и сплевывали на снег с досады на прочитанное. Похоже было, что они тоже ждут событий, о которых говорил Некрич, ищут признаки их приближенья в газетах и негодуют на то, что они все никак не наступают. От избытка освещения их пальто казались еще чернее, чем были, еще толще и шершавее, от одного взгляда на них по коже бежали мурашки. Солнце было таким резким, что я закрыл глаза, но от выпитого и сырого ветра стало холодно, особенно мерзли пальцы рук, даже в карманах, только лицу было тепло. Некрич сидел рядом молча, и то, что он внезапно перестал говорить, было необычно, я уже успел привыкнуть к его почти безостановочному монологу. Я оглянулся на него, чтобы посмотреть, чем он занят. Он разглядывал свои залитые светом руки, держа их перед собой на коленях, слегка шевеля в рассеянном блеске поросшими темными волосками пальцами. Он изучал их так сосредоточенно, словно стремился получше запомнить напоследок.
При каждой нашей встрече Некрич жаловался на бессонницу. Он засыпает мгновенно, говорил он, но уже через несколько часов просыпается и лежит с открытыми глазами до рассвета, один в постели, где еще недавно рядом спала жена, где сохранились остатки ее запахов, которые он вынюхивает под одеялом, как собака, и кажется себе ночью таким худым, точно тело удлиняется в темноте, растягиваемое бессонницей, как средневековой пыткой. Иногда под утро сон возвращается, и тогда он спит до двух, до трех часов дня, если ему не нужно в театр на утреннюю репетицию. Во время нашего шатания по городу Некрич часто двигался как бы в полусне, речь его переходила в бормотание себе под нос, он начинал заговариваться, терял нить – иногда мне казалось, что он говорит сам с собой, забыв обо мне. Он быстро пьянел и со слипавшимися на ходу глазами, наполовину ослепший от размытого сияния оттепельного солнца, чапал в своих американских ботинках по лужам и талому снегу, облизывая покрытые коркой обветренные губы, точно хотел распробовать падавший на них свет на вкус. Однажды, когда мы хотели перейти Садовое кольцо и я уже начал спускаться в подземный переход, Некрич неопределенно махнул рукой и пошел поверху сквозь шесть рядов транспорта, я не успел его задержать. Он пересекал кольцо наискось, глядя куда-то вбок, почти не замечая машин. Я попытался броситься за ним, чтобы остановить, но застрял между первым и вторым рядом, вернулся назад и глядел ему вслед, ожидая, что сейчас он будет сбит и раздавлен. Но Некрич легко проскальзывал между машинами, не замедляя и не ускоряя шага, их сплошной поток разрывался перед ним. Несколько раз заскрежетали тормоза, один из водителей, высунувшись, обложил его, он только отмахнулся, даже не повернув головы. Когда я вышел из перехода на противоположной стороне кольца, Некрич давно уже ждал меня, прикрывая ладонью глаза от солнца.
Явно не обращая внимания ни на что вокруг, то и дело наступая в прозрачные мелкие лужи, Некрич тем не менее сторонился всех заляпанных грязью уличных вещей, скамеек, урн – всего, обо что можно было испачкаться, регистрируя их каким-то боковым зрением. Особенно осторожен он был в транспорте, бессознательно стараясь держаться подальше от троллейбусных стенок, перил и поручней в метро. Среди оттепельной распутицы он двигался так, точно был одет во все новое и белое и ходить в новом и белом по грязным московским улицам давно вошло у него в привычку, доведенную до автоматизма. Некрич вообще опасался прикасаться к незнакомым вещам на улице. Когда ему нужно было позвонить из автомата в театр, он держал трубку как можно дальше ото рта, боясь, как объяснил, заразиться: «Мало ли кто говорил по ней до меня! На трубке ведь могут остаться бактерии!»
Часто нам попадались разные места, напоминавшие Некричу о сбежавшей жене. Хотя куда нам идти, решал обычно я, а он только плелся за мной, засыпая на ходу, мы то и дело натыкались на дома, где они вместе бывали, магазины, куда заходили, и телефонные будки, откуда Некрич звонил ей, словно это все-таки он водил меня по городу, как по музею своего неудавшегося брака, где он теперь экскурсоводом. Проходя мимо места, где он уже был с женой, Некрич останавливался, как внезапно разбуженный лунатик, и начинал взахлеб рассказывать, сам себя перебивая, проглатывая окончанья фраз и, кажется, плохо отдавая себе отчет, что говорит, потому что истории его оставляли позади самый крайний предел откровенности, который я только мог себе вообразить. Скоро я знал уже все привычки и повадки его жены и что за слова она шептала ему на ухо во время любви, какие прикосновения заставляли ее забывать обо всем на свете, как она плакала, стонала и клялась, что у нее никогда не было никого лучше, чем он. Но, странное дело, чем больше подробностей я узнавал о ней, тем сильнее становилось подозрение, возникшее еще в ночь нашего знакомства, что все они имеют отношение только к скуластой актриске из дрянного фильма, виденного нами тем вечером, и ни к кому кроме нее. Я так плохо разглядел ее тогда, что сохранившийся в памяти расплывчатый силуэт без труда присваивал себе все детали, слова и истории, рассказываемые Некричем. Не то чтобы в его словах было что-то особенно неправдоподобное – скорее неправдоподобным был он сам. Из всех персонажей своих историй Некрич был наименее достоверен. Я не мог отделаться от впечатления, что он рассказывает о событиях, которым был свидетелем или, может быть, слышал о них от кого-то из участников, стараясь выдать себя за главное действующее лицо.
– Постой, – Некрич застывал у дверей ресторана в переулке, – я же узнаю это место! Мы здесь сидели однажды с Ириной, ели лобио, под самый конец, когда все у нас с ней уже катилось под откос, с тех пор ни разу здесь не был. Я тогда не мог уже больше сдерживаться, меня трясло всего, я чувствовал, что все погибло, она мне изменяет, я для нее больше никто, меньше чем никто, я тварь для нее, пустое место, а она отмалчивалась, точно и не понимая, о чем я. Меня подмывало скорее прекратить эту молчанку, вывести ее на чистую воду, набить ей по щекам, пусть даже она сразу после этого меня бросит, я к любому пустяку цеплялся, конец так конец, а она как будто и не замечала, хотя обычно заводилась с полуслова, так что это мне вдвойне подозрительно было и только подтверждало, что я прав. А в ресторане я ее наконец достал, не помню уже чем, но достал, у нее такие глаза сделались, точно она меня одним взглядом убить хочет, и, ни слова не говоря, берет со стола графин с красным вином – и мне в лицо! Но я уже был готов, успел к скатерти пригнуться, и все вино – на женщину за соседним столиком, на белое платье!..
И снова это было кино, теперь, скорее, немое: обведенные черным, сужающиеся от ненависти глаза во весь экран, рука выплескивает графин с вином, мужчина в усах юрко ныряет под стол, черное разбрызганное пятно на широкой спине, женщина оборачивается, за ней встают еще двое, три черных круга раскрытых от удивления ртов на белых лицах, ссорившаяся пара улепетывает, едва не сбивая с ног официанта (черные брюки, белая рубашка), исполняющего в попытке удержать равновесие короткий танец с балансирующими на круглом подносе бутылками, другой официант бросается за ними следом, требуя оплаты, сталкивается с первым, падающие на пол бутылки, катящийся поднос, два одинаковых официанта, сидя на полу, глядят друг на друга…
– Мы тогда еле ноги унесли и так потом смеялись, что даже помирились, но ненадолго, – закончил Некрич. – Все было обречено. Любовь умирала, и ее было уже не спасти!
Он страдал. Когда он говорил о своей жене, у меня то и дело начинали ныть недолеченные зубы – интенсивность его страдания отдавалась болью в открытых нервных окончаниях. Если верно, что чем счастливее человек, тем быстрее бежит для него время, то Некрич страдал так, точно хотел остановить бег времени и жить вечно, вечно мучаясь. Он страдал, как актер немого кино, компенсирующий преувеличенной жестикуляцией невозможность объясниться словами. Некричу тоже не хватало слов, он чувствовал их неубедительность и утрировал интонации своей речи, наделяя их избыточной выразительностью жеста. Это и рождало во мне недоверие к тому, что он говорил, вызванное его собственным недоверием к самому себе. «Вся наша жизнь была неправдоподобна, невероятна, высосана из пальца, – сказал он однажды. – Ты мне, наверное, даже не веришь. Я и сам себе иногда не верю. Она ушла – и как будто ничего не было, словно она все с собой унесла. Я, бывает, хочу вспомнить что-нибудь, а ничего не вспоминается кроме лица ее, глаз, родимого пятнышка возле угла рта, над самой губой, еще пальцев ее, как они простыню комкают…»
После этих слов мне открылась причина патологической откровенности Некрича: говоря, он одновременно вспоминал, рассказ был для него доступом к памяти. Он был лишен прямой связи со своей памятью, нуждаясь в посреднике – слушателе. Некрич хранил свою память в замороженном виде, страдая от холода, и только присутствие собеседника подогревало его настолько, что эта глыба льда начинала таять.
Но чем больше он говорил, тем менее убедительным выглядело сказанное. Казалось, все ситуации его рассказов, возникавшие в них люди и отношения между ними нужны ему только для того, чтобы подтвердить достоверность своего прошлого. Они были связаны между собой круговой порукой и хором свидетельствовали за него, но все голоса в этом хоре принадлежали самому Некричу, он озвучивал их все, и от этого ценность свидетельств сводилась на нет. Занятый беспрерывным доказательством самого себя, он был похож на человека, пытающегося взобраться вверх по осыпающемуся под ногами песчаному склону и тем неизбежнее сползающего вниз, чем упорнее он карабкается. Когда Некрич замолкал, например, если мы останавливались перекусить и он принимался сосредоточенно пережевывать сосиску с кетчупом, я пару раз замечал, как глаза его медленно выпучиваются, расширяясь над измазанным бурым соусом ртом, словно кусок застрял у него в горле, – в эти моменты Некрич прислушивался к шороху оползания, погружения в растущую недостоверность.
– Смотри, – он поспешно прерывал паузу, – вон женщина за соседним столиком согревает руки стаканом кофе – Ирина тоже так однажды грела.
За столиком напротив стояли две тетки в демисезонных пальто, одна из них обнимала ладонями картонный стаканчик, на вид ей было не меньше сорока пяти.
– Видишь девушку, нам навстречу идет, – сказал он в другой раз, – походка у нее в точности как у моей жены!
Девушка подошла к нам ближе, на ней была белая куртка и короткая юбка, в ее походке я не заметил совершенно ничего особенного. Но Некрич остановился и буравил ее взглядом так беспардонно, точно глядел сквозь нее, высматривая скрытое сходство со своей женой, при этом сама она была ему настолько безразлична, что даже не приходило в голову ее стесняться. Напомнить жену могло ему что угодно, она была схожа со всем, служила Некричу универсальным сравнением для всего мира, и в этой похожести на все на свете ее облик окончательно расплывался и утрачивал очертания.
Девушка в короткой юбке прошла мимо нас, осторожно ступая по скользкому блеску, оттого, что она держала руки в карманах куртки, она выглядела еще неустойчивее в своих сапогах на каблуке.
– Мне всегда хочется спросить у них, – сказал Некрич, проводив девушку глазами, – как им не страшно ходить на таких длинных, бледных, голых ногах? Кругом же мужчины, они же смотрят…
Дул резкий ветер, я был одет тепло, но стоило взглянуть на Некрича, поднявшего воротник своего пальто, втянувшего голову в плечи и поеживающегося, как мне становилось зябко.
Ветер склонял тонкие деревья на бульваре, выгибал по дуге флаг над входом в какое-то посольство, и по той же дуге, словно изогнутые упругой силой ветра, закруглялись сверкавшие на солнце трамвайные рельсы. На них было больно смотреть. Некрич щурился, покрытая щетиной кожа его щек подрагивала, точно холодный блеск касался ее, как бритвенное лезвие. Проезжая по дуге, трамвай кренился всем своим узким корпусом.
– Если мы сядем на этот номер, – сказал Некрич, – то доедем до «Новокузнецкой», а оттуда до Ирины прямая линия. Едем к ней, я давно обещал тебя познакомить. Гурия не должно быть дома, а даже если и есть, какое нам дело, мы придем к ней, а не к нему. Но, скорее всего, она сейчас одна, – едем.
Это было решающим доказательством, неопровержимым. Сейчас разом рассеются все мои сомнения. В глубине души я и не придавал им особого значения, я готов был поверить всему, что говорил Некрич, если бы он сам не мешал этому тем, как он говорил. Сейчас все должно было окончательно подтвердиться.
В трамвае мы сели напротив, но как только он тронулся, Некрич попросил меня поменяться с ним местами: он не может сидеть спиной по ходу движения, ему кажется, что он не едет, а проваливается со страшной скоростью в дыру пространства, выскальзывающего с обеих сторон. Мы поменялись, и я понял, что он имел в виду, хотя раньше ничего подобного не испытывал. Чувствуя, как неотвратимо падаю вниз спиною, я постарался не показывать этого, и только когда подъезжали к метро, заметил, что сижу так же сжавшись и ссутулившись, как на моем месте Некрич, словно ожидая удара сзади. «Ничего, ничего, – сказал я себе, – сейчас все встанет на свои места».
Проходя на станцию мимо контролера, Некрич показал ему мой проездной билет, а я его. Протянув проездной Некрича, я ждал какого-нибудь подвоха, например, что он окажется ненастоящим, подделкой, но контролер и бровью не повел. И позже, показывая билет Некрича, уже наверняка зная, что беспрепятственно пройду по нему, я никогда не мог отделаться от мысли, что сейчас меня все-таки остановят и подделка наконец раскроется. Все, к чему он прикасался, и все, что от него исходило, утрачивало достоверность раз и навсегда – никакие проверки уже не могли ее восстановить. Сколько бы я ни пользовался его проездным, подозрение оставалось.
На эскалаторе Некрич стоял впереди меня, голова его маячила передо мной, свет ламп, мимо которых мы проезжали, гладил его по волосам от левого уха к затылку. Пару раз он оборачивался и улыбался. Падение, начавшееся в трамвае, продолжалось, замедлившись, словно завязнув в движении эскалатора. Глядя Некричу в затылок, проплывающий из тени в свет и снова в тень, я подумал, что как бы преследую его, не сходя с места, а он, оставаясь таким же неподвижным, ускользает от меня.
Кажется, я и не доверял ему прежде всего потому, что навязчивая откровенность, с которой Некрич выворачивал для меня наизнанку свою жизнь, делала его абсолютно недосягаемым, будя во мне азарт преследователя.
В медленном движении эскалатора мимо шеренги вытянувшихся по-солдатски ламп с медными коронами сверху была торжественность, точно все стоявшие на нем составляли единую процессию, подчинявшуюся особому ритуалу – пробегавшие вниз по ступеням явно и грубо его нарушали, – ритуалу, запрещавшему мне, в частности, протянуть, например, руку и положить ее Некричу на плечо. Его пальцы барабанили по резине поручня какой-то мотив, когда мы вышли на платформу, я услышал, что он мурлычет себе под нос: «Не счесть алмазов в каменных пещерах…» Ветер из тоннеля шевелил волосы ожидавших поезда. Никто из пассажиров, сновавших сквозь трубу станции из конца в конец, не обращал внимания на опрокидывавшийся у них над головами ковш с добела раскаленным металлом, озарявшим резким светом лица трех задравших головы сталеваров; никто не видел, как жутко раскачивается на цепях, когда проходишь под ним, красный гусеничный трактор «Сталинец», то ли спускаясь, то ли поднимаясь сквозь восьмигранник мозаики на поверхность земли; никто не замечал, что прямо на них пикирует самолет с набрякшей в ожидании падения голубой каплей фюзеляжа и летчиком, который спокойно стоит на крыле, салютуя трем другим самолетам, взмывшим в головокружительную высоту. Гул поезда, отошедшего от противоположного перрона, стремительно сужался, проскальзывал в отверстие тоннеля за последним вагоном, а потом сразу разрастался, заполняя черные подземные пространства, охватывая станцию со всех сторон, переходя в глухое гудение ее сводов, светильников, стен с темными гербами и батальных барельефов, где высаживались десантники, строчили пулеметы, взнуздывали лошадей кавалеристы, устремлялись вперед на танковой броне пехотинцы. Затем это гудение утолщалось, подбитое изнутри, как шуба мехом, звуком приближавшегося состава. Поджидая его, мы сидели с Некричем на беломраморной скамье с высокой спинкой, прислонясь к которой можно было почувствовать, как грохот подходящего поезда наполняет тело мелкой дрожью, точно гул самой истории. Невыспавшийся Некрич зевнул и погладил плоской ладонью мрамор, продолжая еле слышно напевать: «Не счесть жемчужин в море полуденном…»
В вагоне он стал постепенно клевать носом. Сначала с видом усталого презрения Некрич смотрел вокруг себя из-под полуприкрытых многослойных век, затем веки слиплись, нижняя губа оттопырилась, лицо набрякло сном и опустилось подбородком на грудь. Несколько раз он пытался, не просыпаясь, поднять голову на тонкой шее, но она снова падала книзу, неподъемная. Сон смыл с лица Некрича выраженье презрения, оно размякло, расчистилось, однажды он даже заулыбался с закрытыми глазами, неуверенно погладив себя при этом рукой по колену.
Проснулся он с точностью разведчика за одну остановку перед той, где нам было выходить. Став у дверей, мы одновременно отразились рядом в двух черных стеклах с надписью «Не прислоняться» на уровне груди. Некрич смахнул ладонью волосы со лба, посмотрел в глаза своему отражению и ухмыльнулся – оно внушало ему уверенность, извлекая из глубины, где он пропадал и тосковал, на поверхность его внешности, где все было не так уж плохо. Глядя на себя, он как будто находил силы принять брошенный ему вызов. Меня же мое отраженье – человек среднего роста, между тридцатью и тридцатью пятью, без особых примет, если не считать черной дыры между двумя передними зубами от выпавшей пломбы, – заставляло забиться в глубь своей внешности, как мышь в нору, настолько мало я чувствовал с нею общего. Разве что дыра между зубами меня как-то с ней связывала.
– Послушай, надо бы купить что-нибудь, – сказал Некрич, когда мы вышли из метро, – я имею в виду вина, что ли. Неудобно приходить с пустыми руками.
Зашли в магазин, Некрич выбрал бутылку красного, я заплатил, когда клал сдачу в карман, он сказал:
– Знаешь что, Игорь, а не ссудил бы ты мне деньжат? А то я совсем на мели сижу, еды купить не на что, скоро с голоду начну пухнуть… До ближайшей получки.
Видя, что его предложение не вызывает у меня особого восторга – с уроков немецкого я и сам жил не жирно, Некрич поспешил добавить:
– Я верну, клянусь. – Он приложил ладонь к сердцу. – У меня рука счастливая: деньги, которые через мои руки проходят, потом приносят прибыль, вот увидишь! – К лежавшей на груди ладони он поднес вторую ладонь. – Ты мне веришь?!
– Сколько тебе?
– Дай, сколько не жалко.
Я дал ему денег, уверенный, что больше никогда их не увижу. Пройдя через пустырь, мы свернули в переулок, и Некрич остановился у подъезда хрущевской пятиэтажки.
– Вот мы и у цели. Сейчас познакомишься с моей женой.
На четвертом этаже он подошел к одной из дверей, приложил к ней ухо, послушал, кивнул мне – мол, все в порядке, хотя я не расслышал из-за двери ни звука, и нажал звонок. Он позвонил коротким, потом длинным. Снова коротким. Снова длинным. В промежутках между звонками, изогнувшись вопросительным знаком и вывернув шею, он прижимался ухом к замочной скважине и снизу вверх глядел на меня, напряженно улыбаясь. Когда ему казалось, что он различает за дверью какое-то движенье, улыбка его вздрагивала. Стоило мне пошевелиться, как Некрич морщился, точно я наступил ему на мозоль, шипел сквозь зубы, прикладывая палец к губам, чтобы я не мешал ему слушать, и я застывал, повинуясь. Затем он звонил опять и опять вслушивался, хотя ему должно уже было, как и мне, стать ясно, что в квартире никого нет, нам никто не откроет, зря мы тут торчим. Но он продолжал этот немой спектакль, и, глядя на его скошенную в мою сторону ухмылку, я постепенно понимал, что никакой его жены там никогда и не было, он все выдумал, чтобы был повод одолжить денег. Наконец ему надоело, он выпрямился и сказал, не глядя мне в глаза:
– Не повезло нам сегодня. Носят ее черти где-то…
Мы еще немного помялись на лестничной площадке, как будто Некрич ожидал от меня разрешения уйти. Чувствуя, как все это неубедительно, он вдруг рассвирепел.
– Черт, шляется где-то, мать ее, а я тут на лестнице, как собака! – И вмазал по двери ногой.
Это был уже явный перебор, к тому же удар вышел неудачно, Некрич отшиб себе ногу и, схватившись за нее обеими руками, запрыгал на другой, весь перекосившись от боли. Противоположная дверь приоткрылась на цепочку, и оттуда раздался испуганный старческий голос:
– Уходите отсюдова, а то милицию позову!
– А ты заткнись, ведьма старая, – не унимался Некрич, – не твое дело!
Дверь захлопнулась.
Выходя на улицу, я опустил руку в карман и сжал в кулаке лежавший там ключ. Это был ключ, потерянный Некричем в видеозале, тот самый, что мы так долго искали на полу под креслами, – на следующий день я обнаружил его в кармане своей куртки. Очевидно, он соскользнул туда с пальца Некрича, и поиски, приведшие в конце концов к нашему знакомству, были с самого начала напрасны. Сперва я хотел было вернуть его, но при следующей встрече забыл, а потом передумал: при том недоверии, которое вызывал у меня Некрич, ключ был как бы единственной против него материальной уликой, единственным, что было несомненно и не сводилось к словам, из которых он, кажется, состоял весь без остатка.
– Ты что, уже уходишь? Нет, ты подожди, куда ты торопишься?!
Я попытался распрощаться с Некричем, но он не хотел меня отпускать.
– Ну не застали, и черт с ней, в следующий раз застанем. К чему она нам, когда у нас еще бутылка вина есть?
Начинало быстро смеркаться. Мокрые подоконники и лежавшие вдоль улицы железные трубы отражали тусклый свет пустынного неба. Пунцовые задние огни тормозивших у светофора машин вытягивали жилы из живота. Горчичная штукатурка послевоенных домов становилась еще горше. Большая собака с мокрой свалявшейся шерстью, бездомная или потерявшая хозяев, пробежала мимо нас по краю тротуара с озабоченным видом, как будто ей было куда бежать.
– Послушай, Игорь, не уходи. Я знаю тут неподалеку чудесный скверик со скамейками, идем туда, посидим, выпьем. Понимаешь, я ненавижу такие сырые сумерки, я просто не выношу быть в это время один, совсем не могу, такая тоска… Не оставляй меня, идем в скверик.
Некрич даже взял меня за рукав.
«Чертов шизофреник, – подумал я. – У всех у них как сумерки, так тоска. Связался себе на горе, теперь не отделаешься».
– Или знаешь что, пошли ко мне. Ты ведь ни разу еще у меня не был, пошли сейчас.
Я устал в этот день от Некрича, мне хотелось побыстрее с ним расстаться.
– Нет уж, давай лучше в скверик.
Несколько скамеек стояли среди мокрых деревьев неподалеку от трамвайного круга, мы сели на спинку одной из них, открыли бутылку. Красное вино в бутылке зеленого стекла было почти черным и очень кислым на вкус. Некрич, как обычно, говорил о своей мифической жене: она, конечно, тоже любила красное, особенно грузинское, лучше всего с мясом, он готовил для нее по выходным, специально покупал вырезку на рынке и, пока она ела, смотрел на нее, забывая есть сам (в последнее мне уже совсем слабо верилось).
– Я любил ее не только как жену, но как будто она была дочь моя, а она меня, как будто я сын ей, во всяком случае, мне хотелось, чтобы мы любили друг друга не просто как муж и жена, а как родители детей любят, словно мы дети друг друга… Но, видно, нельзя одновременно быть мужем и сыном, поэтому все и рассыпалось…
Развернувшийся на кругу трамвай – аквариум застывшего света среди мутной полутьмы – остановился напротив нас. Из него вышел, едва не упав, сильно пьяный мужчина в расстегнутом кожаном пальто, с дипломатом в руке, на лице его были написаны такие усталость и скука, какие возможны только в сырые зимние сумерки. Шатаясь из стороны в сторону, он словно отшвыривал свое грузное опостылевшее тело, пытаясь отделаться от него раз и навсегда. Наконец он добрался до ближайшей скамейки, упал на нее, кинул рядом дипломат, потом раскрыл его, достал журнал «Плейбой» и с тоскливым отвращением стал перелистывать. Рядом зажглись одновременно два белых фонаря, сгустив тьму за собой. Некрич, примолкнув, следил за листаемыми страницами остановившимся взглядом, словно глаза его заморозил скользивший по страницам слепой блик люминесцентного света. Трамвай, который давно уже должен был тронуться, стоял неподвижно, похоже, он встал здесь навсегда. Пассажиры в нем сидели не шелохнувшись, точно спали с открытыми глазами. Мужчина отложил журнал на мокрую скамейку и смотрел на снег перед собой. Я несколькими глотками допил оставшуюся в бутылке черную кислятину и увидел, как от Некрича, застывшего на спинке скамьи, отделился другой, маленький Некрич, тот самый, из «Бориса Годунова», в крестьянском армячке, прошел, ступая лаптями по отсвечивавшей плоской воде луж, к скамейке, где развалился, глядя сквозь него, мужчина с «Плейбоем», и стал разглядывать журнал. Он внимательно, не мигая, рассматривал женщин, осторожно переворачивая страницы одним пальцем. Пару раз для удобства листания послюнявил его языком. К одной из фотографий прикоснулся левой рукой и погладил. Наконец трамвай с лязгом тронулся, пассажиры в нем очнулись, и он исчез.
2
В вагоне было битком. Мы договорились встретиться с Некричем на «Проспекте Маркса», и я стал заранее протискиваться к дверям. Выставив вперед плечо, я пробирался между плотно сжатых мужчин и женщин, спрашивая у обращенных ко мне затылков, выходят ли на следующей. На «Кировской» набилось еще народу, меня стиснули со всех сторон так, что не продохнуть, сырой воротник женского пальто из искусственного меха ткнулся в лицо. Среди вошедших была невысокая девушка, отчаянно отталкивавшая напиравших на нее других пассажиров, закусив от досады губу, бившаяся за каждый сантиметр пространства. Оттеснив в сторону пальто с меховым воротником, я оказался с нею рядом. За это время она уже успела поругаться с теткой, возмущавшейся: «Да не толкайтесь же!» – «А вы не ложитесь на меня!» – «Да кто на вас ложится-то?» – «Вы и легли, как на раскладушку!» Короткие каштановые волосы, родинка возле угла рта, над самой губой. «Я на вас легла?!» – «Вы, вы, совсем раздавили!» Ресницы, густо накрашенные тушью. Стоявший между нами мужчина сделал попытку пробиться вперед, я занял его место, и нас прижало друг к другу. Мне показалось, а может, так оно и было, что тоннель, по которому летел наш поезд, стал круто забирать к поверхности земли. Верхние пуговицы ее плаща были расстегнуты, я разглядел под ним синий бархат вечернего платья. «Может быть, это еще не она, мало ли их, с родинками», – подумал я, но решающее доказательство правдивости Некрича было вдавлено в меня с такой силой, что места для сомнений не оставалось. Я чувствовал, как она дышит. Она жевала резинку, и мой рот начал наполняться слюной, словно мы уже срослись с ней в сиамских близнецов с общей системой пищеварения. Ее виски пульсировали у меня перед глазами. С трудом разлепив склеенные слюной и неуверенностью губы, я тихо сказал ей в самое ухо:
– Ира…
Она подняла глаза и внимательно посмотрела мне в подбородок.
– Разве мы знакомы?
Сомневаться дальше было бессмысленно.
– Нет, не знакомы. Но я почти все о вас знаю.
– Вот как?
Она попыталась создать между нами хоть какую-то дистанцию, выдохнув воздух и втянув живот. Но через несколько секунд ей пришлось снова вдохнуть, и пуговицы ее плаща четко отпечатались у меня на груди.
– Я знаю, например, что вы любите мясо с красным вином, особенно с грузинским, – припомнил я первое попавшееся.
– Я много чего люблю, и грузинское вино тоже.
Она смотрела мне в горло. Ее колени упирались в мои.
– Вы любите бывать в ресторанах. Хорошо играете в преферанс. Вы верите в приметы, например, складываете цифры автобусных номеров и по важным делам стараетесь ездить на четных. Часто выдумываете приметы сами. Верите, что родимое пятно под левой грудью приносит вам удачу…
Она перестала жевать.
– Вы любите неприличные анекдоты. Еще песни в исполнении Аллы Пугачевой. Однажды вы плакали на «Волшебной флейте».
– Понятно, – сказала она, – вы это все от мужа моего знаете, больше не от кого.
– В семнадцать лет вы попали в аварию, и с тех пор у вас остался шрам на ключице слева. Хотя вы знаете, что под платьем его не видно, если кто-то с вами рядом, вы стараетесь повернуться к нему правой стороной. Иногда вам кажется, что шрам проступает сквозь материю и всем заметен. Вы любите пирожное эклер и панически боитесь ночных бабочек.
Нос у нее был, видимо, заложен, потому что дышала она слегка приоткрытым ртом. Я ощущал на своей шее ее выдох. Третий встал между нами, участвуя своим молчаньем в нашем разговоре. Он был частью меня, но, кажется, меньше подчинялся мне, чем я ему, и то, что я говорил, все больше следовало его настырной воле.
– Вы не любите заниматься любовью при свете. Вам кажется, что у вас слишком много волос на ногах, вы считаете, что это некрасиво. Вы хотели бы быть похожей на Венеру Кранаха, которую вам показывал Некрич. Вы сказали, что это идеал. Вас возбуждают прикосновения к шее, к ушам и за ушами.
Она сделала попытку оттолкнуться, но в ответ ее втиснули в меня еще сильнее.
– Сволочь, – сказала она. – Никогда ему не прощу. Предатель. Убить его мало!
– Вы уверены, что вам не дожить до сорока лет.
– Он все соврал! Не хочу я быть похожей ни на какую Венеру! И буду жить до ста лет! До ста пятидесяти лет!
– По крайней мере однажды вы пытались покончить с собой, проглотили пачку снотворного, потом испугались, сами позвонили в неотложку… Еще до встречи с Некричем, когда с первым мужем жили…
Я сам был удивлен тому, как много запомнил из рассказов Некрича.
– Вы боитесь боли, врачей, операций. Боитесь наркоза, потому что думаете, что, уснув под наркозом, можно не проснуться…
– Не боюсь, – сказала Ирина, – ничего я не боюсь.
– А я боюсь. Мне уже давным-давно нужно к зубному, я все не наберусь смелости. Как представлю себе очередь в кабинет, стоны из-за двери, бормашину внутри, так думаю, лучше потерплю еще, ноют зубы – и пусть ноют, к этому привыкаешь…
С расстояния в несколько сантиметров она смотрела в упор на мой рот своими четко подведенными черным глазами. От этого взгляда слова застревали у меня во рту, я начинал чувствовать плоть слов, заполнявших рот мякотью размоченного в чае дешевого печенья. За спиной кто-то проталкивался к дверям, меняясь с другими местами, но вдруг поезд заскрежетал и остановился в тоннеле. Всякое движение в вагоне сразу прекратилось, потеряв смысл, все замерли, наступила тишина. В этой тишине я увидел, как по Ирининой шее медленно распространяются снизу темные пятна. Уши ее тоже покраснели.
– Ненавижу метро, – сказала она тихо, но с такой силой, точно речь шла о смертельно обидевшем ее человеке.
– А почему вам приходится на нем ездить? Разве у Гурия нет своей машины? Некрич говорил мне, что ваш нынешний друг сказочно разбогател за последнее время.
– Он разбил ее неделю назад. Пьяный был в стельку, козел… Машина вдребезги, а ему хоть бы что. Лучше б наоборот!
В дальнем углу вагона кто-то закашлялся, и на этот кашель, как эхо, сразу же ответил из противоположного угла другой, более хриплый.
– Теперь нам отсюда не выбраться, – сказал я, – поезд застрял навсегда. Мы останемся тут замурованными до конца своих дней, зажатые, как селедки в банке. Или, может быть, откроют двери, и мы будем выходить по тоннелю, мне рассказывали, что такое теперь случается. Сейчас ведь поезда то и дело застревают. Вообще удивительно, что метро еще все-таки кое-как работает, а не разваливается, как все остальное…
От того, как она глядела на мои губы, слова теряли для меня смысл, едва с них срываясь. Поэтому было все равно, что говорить.
– Пойдем гуськом по тоннелю, а там, я слышал, крысы бегают размером с кошку, – решил я попугать ее, чтобы увидеть реакцию и вернуть таким образом своим словам ощущение смысла.
– Я не боюсь крыс размером с кошку… Если я чего и боюсь… так это такой давки… Мне не страшно умереть до сорока, но очень страшно умереть в общей куче… где меня потом даже не отличат от других…
Она говорила очень тихо, вкладывая мне в ухо с большими паузами слово за словом, но так как другие пассажиры вокруг молчали, казалось, слова ее разносятся на весь вагон, и остальные внимательно к ним прислушиваются. Темный цвет поднялся еще немного выше по ее шее.
– Там, где много народу зажато в небольшом пространстве, часто приходят в голову такие мысли. Большие скопления людей всегда заставляют думать о катастрофе. Тройная запертость – вагона в тоннеле, тел в вагоне и нас внутри своих тел – сама собой вызывает мысль о взрыве.
– Некрич мне сказал, что я погибну при взрыве, в результате несчастного случая.
– Вы верите в его предсказания?
Поезд издал протяжный стон, сделал несколько коротких рывков и наконец тронулся. Ирина попыталась глубоко вздохнуть, но мы были так сжаты друг с другом, что у нее это плохо получилось. И все же с того момента, как поезд пошел, казалось, стало чуть свободней.
– Иногда верю. Хотя он редко говорит что-то определенное. Он делает. Спросишь зачем, он сам толком не знает, отвечает, на всякий случай, или вообще ничего не говорит. Но он как-то чует, я в этом уверена, у него нюх на то, что случится. Перед голодной зимой, например, когда в магазинах одна морская капуста осталась, он стал крупы закупать чуть не мешками. Я ему: куда нам столько? – никто ж не знал тогда, к чему дело идет, продуктов на прилавках было навалом, а он отвечал только, что пригодится. Потом всю зиму на этих крупах прожили, не жаловались.
Поезд, наверстывая упущенное, мчался быстрее обычного, от грохота закладывало уши, в дробный гул вплетались лезвия и стрелы шипящего свиста. Ирина хотела высвободить руку, чтобы поправить свесившуюся на лоб прядь волос, но не сумела и отбросила голову так, чтобы прядь сама легла на место. У нее были карие глаза. Поезд взлетал, в черных окнах проносились подземные метеоры. Я вдруг понял, какими глазами смотрел на нее Некрич.
Станция, на которую мы выехали, была «Парком культуры».
– Я же свою остановку давным-давно проехала, – спохватилась Ирина. – Меня Некрич ждал на «Проспекте Маркса». Он меня сегодня в театр позвал, я обещала прийти, специально бусы новые надела…
