Его женщина бесплатное чтение
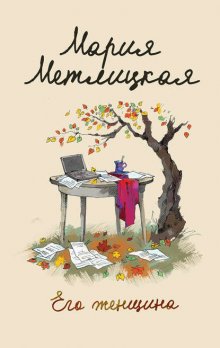
© Метлицкая М., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Добрый день, Максим Александрович!
Простите за беспокойство. Впервые пишу писателю, да еще уважаемому и очень любимому!
Поверьте, я никогда не писала незнакомым людям. Да и вообще никогда не писала писем.
Хотя «незнакомым» я вас назвать не могу – мне кажется, что мы с вами давно и близко знакомы! Понимаю, что выглядит это смешно. Наверняка таких, как я, у вас сотни и даже тысячи. Тысячи тех, кто хочет выразить вам свою благодарность, почтение и любовь. Не сомневаюсь в этом ни одной минуты! Ваши книги, полные искренности и живой, пронзительной, жизненной и человеческой правды и, как мне кажется, щемящей откровенности, позволяют мне считать вас человеком знакомым и близким.
Не подумайте бога ради, что я принадлежу к той когорте навязчивых и чокнутых почитательниц, фанаток, хватающих бедного автора за рукав. Нет, честное слово, это не так! Просто вы так затронули мою душу, что осмелилась вам написать. А для чего я это делаю – не понимаю, ей-богу… Уверена, что вы безумно устали от вечных назойливых поклонниц и поклонников. Но что поделать – наверное, это одна из сторон медали славы.
В своем сумбурном и бестолковом письме я просто хотела сказать вам спасибо, выразить свою признательность и благодарность. Спасибо за честность, за то, что не пытаетесь сделать людей и жизнь краше, белее, чем они есть. Не стараетесь потрафить читателю, польстить, наивно обнадежить его, заморочить ему голову, окуная в несуществующий мир грез и фантазий.
Это, надо сказать, большое мужество. Большое мужество не стараться понравиться всем.
Только что я прочла ваш последний роман. Как я ждала его, считая дни до его выхода!
Как вы поняли, здесь я говорю про вашу последнюю книгу – «Не позволяй мне уйти».
Простите, но почему-то мне кажется, что здесь много автобиографического. Возможно, я ошибаюсь. Это, наверное, глупое предположение. Хотя не может человек, не переживший подобное, так пронзительно, глубоко и честно об этом писать!
Мне многое созвучно в этой книге – вас, наверное, это не удивляет. И об этом вам тоже пишут, уверена.
Прочитала про вас в Википедии – правильно, все совпало. Мы с вами примерно одного поколения, мы – земляки, я тоже москвичка. Мы родились и выросли в одной стране, и это многое объясняет. Нам, столичным жителям, многое было доступно – выставки, театры, музеи. Мы слушали одну музыку, смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги – это я почерпнула из ваших интервью. Знаете, так странно – наши вкусы совпали во многом! Я, как и вы, с большим трудом прошла через девяностые годы. Впрочем, тут нет ничего удивительного – тогда так жила вся страна. Вся наша бедная страна, в очередной раз переживающая нищету, унижения и немыслимый бардак.
И все же мы выжили – вопреки всему. И после всего этого ада, сумятицы, всеобщей растерянности, страха, почти катастрофы мы смогли выползти, подняться на ноги, устоять и даже сделать карьеру. Правда, не все, увы.
Мне близки ваши представления о человеке и мироустройстве – здесь мы снова совпали. И это бесконечно меня радует.
Ой, перечитала и испугалась. Мне стало страшно неловко… Как же я загрузила вас, господи! Зачем вывалила на вас весь этот бред? В который раз извиняюсь перед вами! Но править ничего не буду. Если начну – точно не отправлю, удалю письмо.
Простите за сумбурность, за сбивчивость, за путаный слог. Простите за мой душевный порыв. Еще раз спасибо за вашу книгу, за ваш прекрасный и тяжелый труд, который помогает нам выживать и оставаться людьми!
С огромным уважением и благодарностью,
Марина Николаевна Сторожева, учитель музыки.
Спасибо!
Марина
Господи, зачем? Зачем я написала ему? Глупость какая… Стыдно.
Вечно мои душевные порывы, от которых мне потом только стыдно.
И жизнь ведь ничему не научила – вот он, пример! Сколько раз мордой об стол – и опять.
Одна надежда – он не прочтет. Конечно же, не прочтет. Сколько их таких, сумасшедших поклонниц! Сколько старых и молодых дур, всю жизнь ищущих смысл жизни и ждущих ответа, пишут ему. Имя им – легион.
Впрочем, нет – я ответа не жду. Значит, кое-что в голове осталось. Какие-то крохи, остатки разума. Климакс. Вот его проявления.
Конечно, климакс и одиночество. И снова мои сомнения. Я никогда ничего не могла решить сразу. Я никогда не могла сразу решиться! Всю жизнь я толкалась на пороге, стесняясь или боясь толкнуть дверь рукой и зайти. Всю жизнь я была стеснительной, закомплексованной. Всю жизнь я чего-то боялась. Я никогда не умела настаивать, требовать. Просить. Я стеснялась себя обнаружить. Всю жизнь я была страшной трусихой. А тут – на тебе, осмелела!
Господи, но как же неловко! Не смогла справиться, остановить себя, дать себе по рукам. Дура – она и есть дура.
Да и черт с ним, с письмом! Что я себя терзаю? За что стыжу? Подумаешь – написала! Да, под влиянием эмоций и настроения. Тоже мне, преступление! Еще одна сумасшедшая тетка. Наверняка он давно к этому привык. Посмеется и письмо удалит – спам. Делов-то с копейку! А скорее всего – не прочтет. У него – в отличие от меня, бездельницы, – куча всяких важных дел. Встречи с читателями, командировки, поездки. В конце концов – серьезная работа. Семья – жена, дети.
Ладно, хватит себя корить! Прости себе минутную слабость. Вот так всегда – сделаю что-нибудь, а потом… сжираю себя, как самка богомола сжирает самца.
Хватит, все. Займись-ка делами, Марина!
Какими делами, господи? Ах да! У меня много дел! Только – каких?
Как же я ненавижу праздники! Просто до дрожи, до тошноты. Именно в эти дни, когда страна отдыхает, предается веселью, зазывает гостей, накрывает пышные столы, поет и танцует. Когда все радуются друг другу, обнимаясь в тесной прихожей, и с кухни тянет пирогами и жареной уткой, а под елкой лежат подарки и разгоряченные, усталые хозяйки торопливо поправляют прическу. Когда возбужденные мужчины торопятся домой с букетами тюльпанов и гвоздик, нервно нащупывая и проверяя наличие картонной коробочки с духами в кармане плаща. А их ожидающие праздника и подарка нервные супруги поглядывают в окно. Когда влажно и свежо пахнут молодые клейкие первые листочки на деревьях и семья съезжается на дачу, открыв новый сезон, и шумно от радостных возгласов и вскриков, все душат друг друга в объятиях и торопятся усесться за стол, накрытый в саду, под яблоней. И кипит самовар, и пахнет укропом из банки с малосольными огурчиками, и в бидоне настаивается, ждет своего часа окрошка, и тянет дымком от мангала. Вот тогда мне особенно плохо. Вот тогда я особенно остро чувствую, что я – одна. Одна на всем белом свете. Невзирая на наличие дочери, матери и любовника. И все эти праздники, семейные и государственные, для меня сплошная мука и унижение.
А ведь есть еще и мой день рождения! Как я ненавижу этот день! Как хочу, чтобы его вообще не было на календаре – эх, если можно бы было стереть эту дату! Как я жду утра следующего дня, радуясь, что все наконец прошло! А ведь когда-то я его очень любила! Когда все было по-другому, когда у меня была семья. Когда все были вместе. Когда вообще все было! Не просто по-другому – просто все было. И все еще были…
Как я ждала этот день, как готовилась к нему – покупала новое платье, делала прическу, пекла пироги. И ждала – мужа с работы, дочку из садика, маму, гостей. Как много тогда в моем доме было людей! Родни, приятелей – Сережкиных и моих. Было громко, весело, вкусно. Все танцевали. Сережа приглашал мою маму. А она очень смущалась. Как это было давно! Словно сон.
Сейчас все по-другому: другая жизнь, одиночество. Полное, тотальное одиночество. При живых близких, при любимом вроде мужчине. «Вроде» – точно сказано. Самой стало смешно. Вся моя жизнь – вроде. Вроде как есть, а на самом деле…
Дочь. Моя дочь Ника. Она тоже, слава богу, есть! Господи, что за фраза получилась – самой стало страшно. Нелепая, страшная, но – правдивая. Вроде как. Почему вроде? Да потому, что она, моя дочь, далеко! За тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. На краю света. Далеко от меня. Это, конечно, фигура речи. Полтора часа, если по пробкам. Ну, в крайнем случае – два. А видимся мы раз в месяц, не больше. Даже реже – я ей не нужна. Совсем.
Короткий звонок раз в три дня: «Мам, ты нормально?»
«Нормально», – отвечаю я, зная, что все остальное ей неинтересно.
Наверное, я сама виновата.
«Как бабушка? Нормально?»
«Нормально, – снова отвечаю я. – У нас все нормально. «Как у тебя?» – спрашиваю я.
«Нормально», – отвечает она.
Она произносит это слово, как бы предупреждая мои расспросы. Я произношу это слово, потому что она не желает знать правду. Ей неинтересны мои жалобы и нытье.
Почему так получилось? Не понимаю. Где я пропустила, в чем виновата? Нет, вру – понимаю. И когда пропустила – понимаю, и в чем виновата. И все же обидно – девочка, дочка. Молодая женщина. Я так мечтала, чтобы мы были подругами. Ну да ладно. Что я скулю? Пусть у нее будет все хорошо, пусть она будет здорова. Пусть будет счастлива – даже с этим. Которого я еле терплю. Пусть! А остальное я переживу – не впервой.
Мама. Мама хворает – давление, бесконечные кризы. Бедная мама! Мне хочется, чтобы она меня пожалела. А ей уже не до меня – мама борется с болезнями. Отыскивает какие-то народные рецепты и средства, покупает сомнительные газетки, слушает бабок на лавочках. Настаивает травки, собирает калину, покупает медные браслеты и прочую чушь. Я с ней спорю, но без толку. Врачей мама не признает. И как с ней бороться? Не понимаю.
Любимый мужчина – тот, кто «вроде как». При этом словосочетании мне становится смешно. Любимый мужчина. Нет, никогда я не называла его так! Потому, что никогда он не был любимым мужчиной. Любовником? Наверное, да. Какая огромная пропасть между этими однокоренными словами! Любимый – любовник. А у кого-то ведь сочетается! Но не у меня.
В этой истории вообще все страшно запутано, сплетено, завязано, но ни радости, ни восторга, ни удовольствия. Одно название – у меня есть любовник. Да, есть. Мы вместе. И в то же время поодиночке. В моей жизни его практически нет. Подарки, рестораны и даже поездки не в счет. Ничего плохого в них нет. Но я не из тех, кого это здорово возбуждает. При этом мы с ним, скорее всего, привыкли друг к другу. Так все и тянется – кое-как. И ничего невозможно изменить, ничего!
Наверное, это и хорошо. Лучше нам ничего не менять.
Он женат. У него были огромные, неразрешимые трудности – это правда: больная жена, дочь, растущая без материнского глаза, непростая теща и очень и очень ответственная работа. А тут еще я! От меня должна исходить только радость. Покой. Позитив. Я должна встретить и проводить его с улыбкой. Покормить, пожалеть. Ублажить. Иначе зачем я ему вообще нужна? Чтобы слушать о моих тревогах и страхах? Мигренях и приливах?
У него и своих проблем выше крыши. Я для радости, для удовольствия.
А какое от меня удовольствие, господи?
Мне хочется, чтобы меня пожалели. Посочувствовали, погладили по голове. Просто выслушали – я бы уже была рада!
Но нет. Сочувствовать можно только ему.
Это тянется долго и трудно, с усилием – как натянутый резиновый трос или стальная и крепкая пружина: отпустишь – шарахнет по тебе. И будет еще больнее.
Ни у кого не хватает сил разрубить, разорвать. Мы все жуем и жуем эту давно несладкую жвачку, как советские дети жевали резинку, потерявшую вкус и цвет. Мы приклеиваем, прилепляем ее к спинке кровати или к столу, чтобы завтра достать, но – невкусно. Мы оба боимся одиночества, которое нам хорошо знакомо. Но мы по-прежнему одиноки и не хотим признаться в этом даже себе.
Кто я? Обычная женщина, каких миллионы. Сохранившая фигуру и стройность ног. Светло-русая и сероглазая. Ничего значительного из меня не получилось, увы… Мне сорок пять, я – неудавшийся пианист и концертмейстер, в данный момент – учительница музыки в районной школе, неудачница и лузерша, как теперь говорят.
Я пишу незнакомым мужчинам-писателям проникновенные и слегка истеричные письма, обнажая в них свою душу. На что я надеюсь? Что меня наконец кто-то поймет?
Нет, это не так – никаким «мужчинам-писателям» я не пишу. Я написала впервые в жизни письмо незнакомому мне лично и очень известному человеку – писателю Максиму Ковалеву. Непревзойденному мастеру современной прозы – как его называют. А для чего – не знаю сама. Порыв души – так я объяснила. Всегда меня подводили это «порывы».
В общем, такие дела.
Максим
Как поздно начинается день. Как непозволительно поздно, особенно в моем-то возрасте! Когда каждый день на счету, когда нужно ценить каждый час, когда так мало осталось времени, причем на все, в том числе на саму жизнь. Мне уже пятьдесят четыре, на следующий год юбилей. До чего обидно так палить время! Как я небережлив, как угождаю своим желаниям!
Никак не могу вытащить себя из постели. Просыпаюсь я рано – часов в девять, не позже. Но тут начинается «процесс» – не открывая глаз, я пробую снова уснуть. Не получается. Караулю сон, пытаюсь не двигаться – замираю. Не выходит. Переворачиваюсь на другой бок и «считаю слонов» – минуты три, не больше, понимая, как это смешно. Тяжело вздыхая, шарю рукой по полу и нахожу книжку – какую-нибудь, мне все равно. Но точно не свою.
Пробую читать – удовольствия никакого. Читать с удовольствием получается только поздно вечером, перед сном.
Закипаю от раздражения и наконец встаю. Шаркаю тапочками, покрякиваю от возмущения и ползу на кухню перекурить. От дурной привычки никак не избавлюсь, если честно, просто не хочу.
С превеликой тоской я смотрю на улицу. Под окном двор: яркие грибки песочниц, качели, карусели, какие-то тренажеры типа шведских стенок, брусья, «козлы», чтобы детвора развивалась. Уцелевших лип и тополей ничтожно мало, но и они увечные, безобразно обрезанные, с обрубленными кривыми ветками. Как инвалиды после ампутации. Зачем? Зачем и кому нужна эта кастрация? Я возмутился – господи, кому и когда они мешали? Объяснили – чтобы не было пуха, чтобы он не залетал в окна квартир, не стелился мягкими и легкими сугробами во дворе – лишние усилия дворнику.
Я вырос в этом дворе. Здесь вырос мой отец. Здесь, на зеленой шаткой скамеечке, сидела по вечерам моя бабка. Моя красавица бабка – ужасная стерва, надо сказать! Сидела и няня. Иногда – мама. Но редко, увы. И не было ярких песочниц, каруселей, шведских стенок и прочего. Были одни качели – два деревянных столба, врытые в землю, и самодельная люлька-качалка, сооруженная из корыта фронтовиком дядей Васей, дедом моего дружка Петьки Васильева. Петьки уже давно нет на свете. Что говорить про его деда?
Во дворе никого еще нет – рано. Позже, часам к двенадцати, выползут мамашки с колясками и малыми детками, подтянутся бабки – из тех, кто остался. Осталось их мало, этих старух. Почему? Куда они делись? В моем детстве их было полно – не хватало лавочки. Соседки-подружки придерживали местечко для «своих», и это было смешно. Те, кому места не досталось, ругались, проклинали друг друга, желали напастей и смешно обзывались, вспоминая старые обиды. Но через какое-то время наступал мир – бабки сидели рядком и теперь уже проклинали мужей и невесток, зятьев или другую родню.
Нам, пацанам, они казались вредными и даже злобными – грозили палками, шипели, посылали нам вслед проклятия. Но если кто-то из чужаков или своих нас пытался обидеть, бабки вставали стеной! И, кстати, на праздники или свои именины старушки всегда выносили из дома пирожки и конфеты. Ну а потом снова грозили самодельной клюкой.
Смешное время. Доброе время. Да, все-таки – доброе.
Как-то получилось, что в нашем доме жили разные люди, и самые обычные, и «непростые», важные дядьки, которых привозили на казенных машинах и чьи надменные жены, высоко подняв голову, спешили куда-то, взмахивая полами каракулевых богатых шуб. Была одна из таких – красавица и модница невероятная: высокая, стройная, с длинными ногами в блестящих шелковых чулках, с белокурыми волосами, уложенными в замысловатую сложную прическу. За ней всегда тянулся шлейф сладких духов. Когда она проходила, двор замолкал. Ее провожали взглядами все – застывали мамашки с детьми, жадно разглядывая ее наряды и вдыхая неземной аромат ее духов. Замолкали сварливые бабки на лавке. Девчонки каменели и не успевали захлопнуть рты. И столбенели мы, пацаны. Так и шла она по замершему и тихому двору, ни на кого не обращая внимания.
Звали ее Маргаритой. Помню и ее муженька – невысокого, ладного крепышка, кудрявого блондина с улыбкой на простоватом и добром лице – этакий Ванька, Иван-молодец, добрый герой русских сказок. Домой его доставлял шофер. Крепышок бодро кивал старушкам, сидящим у подъезда, и всегда справлялся о здоровье. Потом выяснилось – этот добродушный крепышок, сотрудник органов, бил свою красавицу Маргариту смертным боем. Только не по лицу – не дай бог! – по спине, по груди, по ногам. И однажды забил до смерти. Говорили, что ревновал. Можно в это поверить. Мертвую Маргариту никто не видел – ее увезли в судебный морг и хоронили оттуда. Крепышка тогда уже взяли.
Потом во дворе появилась мать Маргариты – молчаливая, суровая женщина, после смерти дочери и ареста зятя переселившаяся из коммуналки в их роскошную квартиру. Жила она в этой квартире одна. Мать Маргариты ни с кем не общалась: сделает пять кругов по двору и – обратно в подъезд. Ну ее можно было понять – что обсуждать и с кем?
Белокурая Маргарита – бесподобный и сладкий подростковый мираж. Вожделенная всеми, желанная всеми. И такая судьба.
Была еще тетка из директоров – кажется, кондитерской фабрики, – хмурая, низенькая, некрасивая, хромая. Эта ни с кем не здоровалась. Говорили, что у нее тяжело болен сын – вроде бы шизофрения. Муж сбежал к молодой, как это часто бывает. Эту тетку тоже привозила казенная машина.
Кстати! Когда она вышла на пенсию, с большим удовольствием сидела на лавочке у подъезда. И даже общалась с нашими бабками. Чудеса.
Был еще врач, профессор – Егор Петрович Лигин. Известный уролог. Мы дружили с его сыном, тоже Егором. Нормальный был парень, без пафоса. В начале восьмидесятых женился на англичанке и свалил в Соединенное королевство. Помню, как приезжал на похороны отца. Мы с ним тогда и увиделись, потрепались на поминках. Не самое подходящее место, правда. Но Егор был невозмутим и не проронил ни единой слезы – наверное, отвык от отца. В кабаке, где проходили поминки, показывал фотографии жены и детей и охотно делился впечатлениями о заграничной жизни. В доме жила семья Васильевых – дед Василий, наш дворник, его сын Федор, сноха Катерина и внук Петька, мой друг. Васильевы представляли «простую» часть населения нашего дома: дед дворник, сын токарь, а сноха – продавщица в пивном ларьке. Сын и сноха поддавали.
Была семья Липников – Семен и Дора. Хорошая, дружная, простая, рабочая семья. Семен был отменным скорняком – у него все наши дамы шили шапки, а Дора работала в бубличной. Ах, какие бублики она нам приносила! Это называлось некондиция, брак. Но как же вкусна была эта некондиция! Смуглые, чуть подгоревшие, усыпанные маком, еще теплые бублики. У них была дочка Сима – смешная, конопатая, черноглазая. Тощая и нелепая Симка. А потом эта Симка превратилась в красавицу. Мой друг Петька в нее влюбился. Но у них не сложилось – Симка вышла замуж за богача, директора универмага. Говорили, что в конце семидесятых его посадили. А потом Симка снова вышла замуж за какого-то штатника, очень богатого. Говорили, миллионера. Ну и свалила в Америку.
Родной двор. Это немного успокаивает меня и примиряет с жизнью. Я в раздумьях – пойти в душ, выпить кофе, а уж потом…
Нет, слаб, признаю. Все-таки возвращаюсь в кровать и снова закрываю глаза, поплотнее укутываюсь в одеяло и опять караулю сон, понимая, что он не придет. Я не так наивен. Просто вставать неохота. К тому же погодка, надо сказать, отвратительная – пасмурно, накрапывает дождь, приближаются холода.
В постели я согреваюсь, мне уютно. Знаю, что я законченный лентяй, но в который раз разрешаю себе поблажку. К тому же у меня есть оправдание – хорошо работается мне только по вечерам, часов эдак с пяти. Так настроены мои биологические часы, что же поделать. Бороться с этим совершенно бесполезно – пробовал, знаю. Да и Галки нет дома – моего, так сказать, надсмотрщика и строгого цербера. Вот и ищу себе оправдание – лежу и ищу. Хотя… Перед кем мне оправдываться? Это смешно. Все же засыпаю, правда, ненадолго, некрепко, поверхностно – дремлю. Когда встаю, на часах половина двенадцатого. Ничего себе покемарил! Душ и кофе бодрят. Пару минут – не больше! – легкой зарядки и…
А что, собственно, «и»? Вот именно. Сейчас буду нервно подыскивать себе дело. А вот, нашел! Слава богу! Пошуровав в холодильнике, понял, что все приготовленное любимой женой уничтожено – разумеется, мною. Замороженные котлеты, самолепные пельмени, голубцы – Галка большая мастерица. Хотя я многое умею и сам – спасибо «сложной судьбе». Так говорит моя дорогая и понятливая жена: «Он – человек сложной судьбы». Не знаю, насколько мне это приятно. Но то, что это помогает во многих ситуациях – точно.
Мама всегда говорила, что я буду беспомощным, как мой отец. Твердила, что надо рассчитывать только на себя. Этому ее научила трудная жизнь. А на деле это и было все ее воспитание. Остальному меня научила жизнь.
Итак, надо заняться обедом. Раздумываю – борщ или нет? Решаю – все-таки борщ! К борщу меня приучила мама – это было ее любимое блюдо, ведь она выросла на Украине. Тогда еще говорили «на» Украине. Родилась под Киевом, в селе Червонная Мотовиловка. Там жили тетки – Рая и Оксана, – которые и вырастили ее, родители погибли в войну. Я их прекрасно помню – розовощекие толстухи с роскошными косами, закрученными на затылке в баранку. А как певуче они говорили! Как пели украинские песни! Как ловко лепили вареники с вишней! Детство, да. Иных уж нет, а те далече.
Я варю борщ. Отвлекает от мыслей телефонный звонок. Бросаю взгляд на часы – Галкино время. Милая моя начинает с разбега – этой ей свойственно:
– Только встал? Ну ты даешь! Что работа? Сколько знаков за вчерашний день? Сколько-сколько? Максим! Что ты творишь! Ты же ничего не успеешь и снова будет скандал! Боже, что скажет Лариса!
Я перебиваю ее и оправдываюсь – перед своей женой я почему-то всегда оправдываюсь. Почему? Сам не пойму.
А она все верещит:
– Борщ? Зачем? В морозилке полно еды! Как все съел? У тебя что, солитер? Там же на три недели, не меньше! А, у тебя были гости? Кто? Перелеев? Или Словинский? Тогда все понятно! Только он мог столько сожрать! И сколько вы выпили, извини за бестактный вопрос?
Господи! Останови ее, очень прошу!
– Галя, Галя! Остынь! Не было Перелеева, не было! И Мишки Словинского не было! И все сожрал я – ты уж прости! Просто захотелось борща. Это что, преступление, Галь? Кстати, у нас есть томатная паста? Галя, ты меня слышишь?
Не-а, не слышит. Ладно, я потерплю. В конце концов, ее есть за что терпеть. Очень даже есть. Да и я далеко не сахар. Моя Галка – подарок небес. Это я понимаю. Моя заботливая жена. Моя вечно молодая жена. Моя красивая и ловкая жена.
Вот как бывает. Я почему-то не назвал ее любимой. Что-то из подсознания? Да нет, ерунда. Конечно, моя молодая, заботливая, красивая, ловкая и любимая жена – все правильно и все верно.
Я сворачиваю разговор:
– Ты же сама меня отвлекаешь! Галя, все! Мне надо работать!
Слово «работать» в нашей семье священно. Она тут же прощается, обещая позвонить завтра в это же время. Я кладу трубку и облегченно выдыхаю. Завтра. Завтра я снова начну врать. И оправдываться. Так и живем.
Я оттягиваю время работы. Почему? А потому, что боюсь. Каждый раз я боюсь. Боюсь начать, боюсь, что не получится. Если хорошо начинается, боюсь продолжения. Потом боюсь, что не получится оно. Оно, допустим, получилось. Тогда я боюсь следующего – окончания, развязки… Боюсь браться за концовку. Так было всегда. Но в разной степени. А вот как сейчас не было никогда.
Никто об этом не знает – даже она, моя Галка. Не знает и мой редактор, моя дорогая Лариса Петровна. Не дай бог! Уж ей-то знать совершенно не надо.
Никому не надо знать, что я трус. Я всегда боюсь, что у меня не получится. Или получится гадость. Хрень. Чепуха. Это, наверное, нормально – даже для меня, человека опытного, состоявшегося, известного, с именем, что называется. Я где-то читал, что известные, маститые актеры каждый раз дрожат перед выходом на сцену.
Да ничего, справлюсь. Всегда был этот страх, и я всегда справлялся. Вот только не сейчас, кажется. Сейчас все по-другому: не получается с самого начала, с первой страницы.
Причина моего страха в том, что я боюсь соврать, показаться фальшивым. Боюсь быть чересчур искренним и боюсь быть неискренним. Боюсь быть наигранным. Нечестным и честным. Где та хрупкая грань, где тот баланс, чтобы писать правду, не вынимая из себя кишки? Читатель все чувствует – любую фальшь, любое вранье. Любой компромисс с самим собой. Я боюсь своего читателя. Боюсь ему не понравиться. Боюсь, что он разочаруется во мне. И боюсь того, что я боюсь всего этого! Потому что понимаю – так, с оглядкой и тщательной выверкой, писать нельзя! Нельзя думать о том, кому и как ты понравишься, нельзя угождать – это могила. Главное – чтобы твоя работа понравилась тебе. Важно только то, что ты доволен собой! Не твоя умная жена, не твой замечательный редактор – только ты! Только ты ставишь себе самую верную, беспощадную и справедливую оценку.
Спасибо борщу – время убито, оправдание есть. А борщ получился невкусным. Для кухни тоже нужно настроение – без этого никак не выходит. Борщ съеден без удовольствия, кофе выпит – в третий раз. Хорошо, что нет Галки – она следит за моим здоровьем. Она следит за всем, моя жена. И все успевает. Кофе – две чашки в день. Утром и днем.
Бедная моя Галка! Как же ей трудно со мной! Всем со мной трудно. Герману, Галкиному сыну. Друзьям. Хотя какие друзья? Перелеев и Словинский? Друзья… И смех и грех! Первый – сосед-собутыльник, а второй – муж подруги жены. Принято считать, что мы с ним друзья. Особенно это радует наших жен – пару раз в год совместный поход в «Сандуны» и шашлыки на даче – тоже пару раз в год. А на деле у меня был единственный друг – Петька Васильев. Только его давно уже нет.
Я тяжело схожусь с людьми. Я неврастеник, психопат и зануда, капризный и рефлексирующий по любому поводу. К тому же страшно мнительный. Самая малость, вроде прыщика на заднице, может вывести меня из равновесия. Я не в меру обидчив – это знают все мои близкие. Я гневлив. Страшно гневлив. Чуть что – начинаю орать на всех без разбору. Я нетерпелив – мне надо все и сейчас. Ждать я не люблю. Я большой скептик и даже циник. Это, конечно, в порядке вещей. Кто из нас не скептик и не циник? Кто, особенно если позади длинная жизнь? Ну а если такой обнаружится, то точно дурак, я вас уверяю!
Я страшно брезглив – не в каждом доме усядусь за стол. Не люблю есть в ресторанах. Зато я не люблю новые тряпки – и это настоящая трагедия для моей жены. Статус, статус, статус. «Статусные гости, статусные люди – а тут ты, в старом свитере и столетних джинсах! Максим!» Все правда – я никогда не надену костюм, хоть от Босса, хоть от кого! Ни-ко-гда. Моя жена даже может дать слезу по этому поводу. Но нет. При всем уважении к ней и к неувядаемому Боссу. Я обожаю старые, заношенные вещи. У меня есть и любимые – фиг их с меня стянешь! Однажды Галка выбросила что-то любимое из моего гардероба, дошли почти до развода. Еле простил.
Поход в магазин – всегда семейный скандал. Поход в гости – туда же. А уж гости у нас – так просто истерика!
Я неприхотлив в еде – Галка это называет «тяжелым наследием прошлого». Но крайне требователен к порядку в доме – ух, здесь мне нет равных! И не дай бог кому-нибудь что-нибудь тронуть на моем письменном столе. За последствия не отвечаю.
Я обожаю покритиковать, дать оценку. Из всего вышесказанного понятно, что не всегда лицеприятную. Циник априори недоброжелателен. Я быстро устаю от людей. И отношусь к ним, мягко говоря, неуважительно, хотя не ко всем. Я мизантроп.
Ну как картинка? А? Хороша? Перечислив все это, я даже скривился от неприязни к себе. Господи! Вот ведь дерьмо получилось.
Короче, близким моим тяжело. Особенно Галке. Бедная моя девочка, бедная Галка!
От досады я расстраиваюсь почти до слез. Но понимаю – жалею-то я себя! И еще чувствую, как соскучился по жене.
Галка, ау! Хватит уж шляться! Домой, милая, домой! Я тебя жду. Очень жду, слышишь?
Марина
Все кончилось в один день, когда не стало Сережи. Кончилась сама жизнь – к чему перечислять все остальное?
Я умерла вместе с ним: перестала чувствовать запахи, приятные и отвратительные. Не почувствовала, как в холодильнике воняют сгнившая капуста и давно уже склизкая синяя колбаса. Как отвратительно тянет от тухлой воды из-под завядших цветов в вазе на прикроватной тумбочке. Мне по-мазохистски даже нравился их мертвый покойницкий вид – казалось, они умерли вместе со мной.
Я не почувствовала запах духов, пряных, терпких, стойких, когда разбила в ванной почти полный флакон – тогда все падало из рук. Я порезалась, и мне не было больно. И запаха не почувствовала,
В другое время я бы распахнула все окна. Страдала бы от мигрени. Тут – нет. Не заметила. Я так страдала, что какая-то мигрень мне была не страшна. Нет ничего сильнее боли душевной. Это я испытала сполна.
Я помню, как мама принесла банку малосольных огурчиков. Мама божественно солила огурцы, они всегда были крепкими, хрусткими, сочными. Ей был известен какой-то древний рецепт со многими травами, о которых теперь никто и не слышал. Обычно эти самые «мамины фирменные малосольные» до вечера не доживали – трехлитровая банка съедалась за пару часов. Я вполне могла осилить ее и одна – без Сережи, без Ники. Плюхалась в гамак, ставила на землю вожделенную трехлитровку, укрывалась старой маминой шалью в крупных, кое-как заштопанных дырах, но самой уютной на свете, брала книжку и принималась хрумкать огурцы. И наступало счастье! Такое полное, такое необъятное! Я смотрела на небо, на облака, на макушки деревьев, слышала отдаленный мерный и глухой отсчет кукушки, усыпляющий звук проходящего вдалеке поезда и покачивалась в гамаке.
Закрывала глаза и засыпала. Это и было самое счастливое счастье.
Сквозь сон я слышала, как гремит в доме мама, готовя обед. Улавливала запах грибов и жареного лука, а еще мяса, слив на компот, пирога, сладкой сдобы с ванилью. Слышала, как на втором этаже спорят девчонки – моя Ника и ее подружка Иришка. Наверное, делят кукол или фантики от жвачки. Они их собирают, коллекционируют, меняются друг с другом – чудачки. А Сережка – если он дома – колет за домом дрова или в очередной раз чинит антенну. Или идет мимо меня на пруд, но не будит. Сон – это святое, одна из заповедей нашей семьи.
Так мы и жили. Все были здоровы, все были вместе. Все были счастливы. Все еще были. А вечером счастье становилось еще больше – воздух был напоен свежестью, птицы голосили на все голоса, наступали прохлада, тишина и полный покой. И мы ждали Сережу. Он ездил после работы на дачу. Это было тяжело и утомительно – два часа в один конец, ранний подъем, поздний приезд. Но он всегда говорил, что оно того стоит – утром неспешный путь на станцию вдоль старых дач, по только что проснувшемуся лесу, под ласковым, щадящим солнышком. Птички разливаются, ветерок колышет листочки – красота! Пахнет прогретым лесом, грибницей, скошенной травой. Птицы продолжают свои песнопения. И впереди встреча со мной, с Никой, мамой. Вкусный ужин и чай в саду – красота! Сережка обожал природу, лес, речку, грибные походы. Огород обожал, что-то пропалывал, вскапывал, рыхлил, пересаживал. Он вообще любил любую «ручную» работу – забить, покрасить, перестроить, поправить. Сережа. Он был хозяйственным мужичком, мой муж, и ничто ему было не в тягость. Мама говорила, что с зятем ей повезло. Это была чистая правда! Они обожали друг друга.
Мама в те страшные дни после Сережиной смерти, страшно нервничая, что я ничего не ем, привезла банку огурцов. Я не дотронулась до них – не съела ни одного. Счастье кончилось. В один день.
На даче я долго не появлялась – было невыносимо. Невыносимо видеть его инструменты, старый чемодан с хозяйственными мелочами. Его велосипед, прислоненный к сараю. Его книги, очки. Любимую чашку. Старый свитер на стуле. Старые кроссовки «адидас».
На дачу я могла не ездить, а вот из нашей квартиры мне некуда было деваться. Сначала хотела ее поменять, но у меня не было сил. Совершенно, ни на что. А уж на переезд… Да о чем вы?
Сережу убили, когда Нике было семь лет. Первого сентября мы собирались отвести ее в школу. Убили наркоманы, подонки, нелюди. Пытались отнять в подъезде деньги – он торопился купить мне подарок, – это было за три дня до моего дня рождения. С тех пор дня рождения нет – я не отпраздновала его ни разу. Умерла так умерла…
Спустя какое-то время я все-таки стала ездить на дачу – мне было жаль маму. Умница мама все Сережкины вещи спрятала, убрала, чтобы, не дай бог, они не попались мне на глаза. А я ходила по участку и по дому и шарила глазами – искала. Нашла. Нашла в сарае его старую майку и…
Летом мама сидела с Никой на даче. Ника уже проявляла характер, и маме с ней было несладко. А я в это время «наслаждалась» своей свободой в Москве.
Спустя какое-то время обоняние у меня появилось, а вот вкуса еще не было долго – я что-то механически жевала, что-то пила. Но если бы мне дали яду или отраву – вряд ли я бы это заметила.
Потом выросла Ника и перестала ездить на дачу – ей стало там скучно. Я понимала Нику, стремящуюся к удовольствиям – дело молодое, а когда еще, как не в молодости? В Москве у нее была своя вольная жизнь – уже в те годы, когда Ника подросла, мы с мамой все лето жили на даче. Я, слава богу, могла отдыхать все лето – концертная деятельность на летний сезон замирала. Мама была на пенсии.
Но какая у нас была жизнь?
Мой брак можно было назвать очень счастливым. Мне сказочно повезло, и я это прекрасно понимала, даже в молодости. Я понимала, что мой Сережа – замечательный муж, замечательный зять и прекрасный отец. Он был прекрасен во всем, мой чудесный муж! Мой любимый. Он был остроумным, веселым. Тонким и ироничным. Рассудительным и спокойным. Благодарным и сдержанным. Хозяйственным и ловким. Заботливым и терпимым. Во всем и всегда, честное слово! В это трудно поверить, я понимаю. Я и сама бы засомневалась, услышав такое, ей-богу, однако это чистая правда. Редко, но так бывает. С ним было легко, уютно, спокойно, не страшно. Мы были на одной волне и почти во всем совпадали. В главном уж точно.
Он умел делать сюрпризы. Как талантливо он делал сюрпризы! Например, раздавался звонок в дверь. Я открывала. На пороге стоял маленький магнитофончик, и из него доносилась моя любимая музыка – скажем, «Отель «Калифорния». Или – Саймон и Гарфункель, были когда-то такие певцы, сейчас о них все забыли, конечно. Новое время рождает новых кумиров. А рядом с магнитофончиком стояла крохотная вазочка с одним тюльпаном. Да, тюльпан был один! Но – какого цвета! Чернильно-фиолетового. Или одинокая розочка с белыми лепестками и малиновой окаемкой. И где он умудрялся доставать такое чудо в те годы? Возле вазочки – коробочка с пирожным, моим любимым наполеоном.
И в день моего рождения, утром, как только я просыпалась и открывала глаза, на тумбочке у кровати меня ждал флакончик любимых духов. Конечно, французских! Он знал, что мне нравится. Всегда знал. И чувствовал. Флакончик был обвязан атласной лентой, на которой написано: «Моей любимой девчонке». Или это могла быть коробочка с часиками или колечком. Пусть серебряным, недорогим. Мы никогда не были обеспеченными людьми, просто не успели ими стать. Потому что Сережа ушел. И все равно, невзирая на вечный подсчет денег, мы были всем довольны и всему рады. Мой Сережа был совершенным.
После его смерти, спустя несколько лет (а раньше я просто не могла вообще говорить о нем), мои приятельницы и знакомые сомневались, говорю ли я правду. Не преувеличиваю ли, не придумываю ли себе сладкую сказочку – так часто бывает, когда теряешь человека.
Нет. Нет и нет. Все – чистейшая правда. Пусть даже и верится в нее с трудом. Но так было.
Cпустя пару лет мама все же уговорила меня приехать на дачу. Я не была там лет пять или больше. Мы шли со станции знакомой дорогой, и я ничего не узнавала: ни домов, ни заборов, ни кустов. Чуть не прошла наш дом – мама остановила. Дом покосился, поблек. Старая краска совсем облупилась, и некому было покрасить. Забор завалился, как деревенский пьяница. Участок зарос бурьяном, забив цветы и даже кустарник. На разросшейся яблоне висели мелкие зеленые яблочки – я помню их крупными, розовобокими. Сережка срывал с самого верха – именно они, под самым солнцем, были самыми вкусными, самыми спелыми. А теперь они выродились без ухода и удобрений. Крыльцо расшаталось и ворчливо скрипело. Дверь в дом поддалась с трудом – отсырела, разбухла, замок проржавел.
В доме после зимы было сыро, пахло плесенью, мышами, затхлыми тряпками и нежильем. Могильным холодом тянуло из комнат. Когда был жив мой Сережа, он всегда приезжал первым – протапливал дом, убирал участок, косил траву. Чтобы его «девочки приехали в порядок».
Я поежилась, и мне захотелось поскорее уехать. Но…
Я посмотрела на маму. Она чуть не плакала. Точнее – плакала молча. По щекам катились слезинки. Она с испугом посмотрела на меня. Я попыталась улыбнуться. В конце концов, если мы сейчас отсюда уедем, я буду последней сволочью и эгоисткой. Это мамина вотчина, мамино сердце. Куча ее трудов, усилий, воспоминаний. Ее жизнь.
Я вздохнула и пошла переодеваться в старые дачные тряпки, чтобы приступить к уборке. Открыла шкаф, уткнулась носом в Сережкину ковбойку и разревелась.
Мама подошла сзади и обняла меня. Мы заревели вместе.
То, что Сережу убили, было для меня самое страшное. Если бы он умер сам от болезни или аварии… Нет, конечно, глупости! Я бы страдала не меньше! Или все-таки меньше?
Наверняка он не хотел отдавать деньги, думал про мой день рождения. Какой сюрприз он мне приготовил? Я никогда не узнаю. Наверняка ему было омерзительно, противно так, без боя, самому отдать деньги этим подонкам. Он был гордым, смелым, справедливым. Он не испугался – уверена в этом. Он защищался. Может быть, звал на помощь. Но никто не отозвался, никто. Была зима, и окна закрыты. А если б лето? Сомневаюсь, что кто-нибудь выскочил бы во двор и ввязался в драку. Выскочил бы только мой муж, услышав крики о помощи.
Но в тот вечер помощь была нужна ему, моему Сережке.
Сказали, что он умер минут через двадцать. «А если бы?» – спросила я врача. Он подумал и покачал головой: «Нет, вряд ли. Хотя шанс был, да. Совсем крошечный. Во всяком случае, мы бы постарались».
Несколько лет эти слова врача мне не давали покоя.
Если бы он выжил, если бы его нашли! Пусть увечный, больной. Инвалид. Но он бы был! А сейчас его нет. И никогда не будет.
Ни-ко-гда. Ничего страшнее этого слова не знаю.
Да, этих подонков, его убийц, нашли. Как мне сказал следователь – редкая удача. Каково, а? – удача. Я не пошла в суд. Не могла на них посмотреть. Я ответила следователю, что надеюсь на справедливость. А сколько им дали – не знаю. Знала мама, но я ни разу не спросила ее об этом. Зачем? Что бы для меня изменилось? Для него? Разве меня волновало, как их накажут? Нет. Я задавала только один вопрос – почему наказали нас? За что? И этот вопрос я задавала богу.
Только он не ответил.
Максим
Никак не могу приступить. Это самое страшное – сесть за стол и открыть ноутбук. Ломаю голову в поисках причин своего ежедневного страха и не нахожу. Ничего не нахожу, кроме нежелания работать. Кроме своей запредельной лени. Ленив я был всегда. Сколько моя бабка билась над этим! Соображал хорошо, а вот сесть за уроки было проблемой, мукой. Я мог слоняться по дому, заниматься черт-те чем, всякой белибердой – только бы оттянуть этот «сладостный» момент – сесть за учебники. Кажется, только читал я с удовольствием.
Не скажу, что учиться мне было неинтересно. И любопытно было, и легко. Тогда в чем причина? Сейчас какие-то умники нашли этому научное объяснение – есть, дескать, такая патология, ген неусидчивости. Вранье. Уверен: все дело в силе воли. Больше причин не ищите! Бабка уговаривала меня, увещевала. Мама кричала, убеждала, объясняла, наказывала и поощряла. А мне – хоть бы хны! Слава богу, матери часто не было дома – работа. А с бабкой было попроще. Мать уходила рано и приходила поздно, после восьми. Конечно, без сил. Садилась на диван, откидывалась на подушку и закрывала глаза. Я снимал с нее сапоги или туфли, надевал тапки и шел разогревать ужин. В десять лет я мог сам приготовить ужин. Обед, разумеется, нет. Это позже я научился варить еще и супы. А вот ужин мне был по силам. То, что готовила бабка или ее домработница, мама не ела. Трудно было в нашей семье. Сложно и трудно. Я разрывался между ними – бабкой и дедом, не признававшими мою мать. Между матерью и отцом, жившими в постоянных скандалах. Она и торчала допоздна на работе, чтобы попозже вернуться домой. А я скучал по ней и очень ее ждал, до тех пор, пока не понял, что ей на меня наплевать.
Когда были живы старики, мы жили хорошо, небедно. А когда они умерли и отец окончательно перебрался на дачу, мы остались вдвоем с матерью. И вот тогда стало все еще хуже. Странно – исчезли источники раздражения и скандалов: дед, бабка, отец. Мы остались одни – мать и сын. А стало все хуже.
Я сажусь. Оглядываюсь – на что бы еще отвлечься? Ага, открыто окно! Надо прикрыть – у меня радикулит. И я радостно вскакиваю. Минут десять торчу у окна, как старая бабка.
Еще раз оглядываюсь и все же усаживаюсь в рабочее кресло. Все, отмазок больше нет. И кстати, вечером позвонит жена и потребует отчет. Я, конечно, могу соврать. Только зачем? Я же совру себе, а не Галке. Где выгода? А-а! Есть отмазка! Сейчас я проверю почту! Господи, как я мог забыть? Я человек публичный, у меня – хочу я этого или не хочу – огромная и оживленная переписка. И я всегда отвечаю на письма. Правда, честное слово! Всегда. Потому, что, во-первых, уважаю своего читателя. Во-вторых, там бывает кое-что интересное. А в-третьих, я довольно тщеславен, увы! И мне нравится читать о себе хвалебные отзывы.
Слаб человек. Что тут поделать?
Марина
Я, конечно, жила. Ходила на работу. Иногда что-нибудь готовила – все-таки у меня есть ответственность перед ребенком. Хотя тогда я почти об этом не думала – мне было абсолютно все равно. Варила в основном макароны – просто, быстро, сытно. Их можно есть с кетчупом, что совсем просто. С сыром, если он был. С любым мясом, сосисками, колбасой и даже пустыми, с маслом.
Готовить готовила, а вот убирать было совсем неохота. Так, махну веником и тряпкой – и хорош.
А уж Нике на грязь было наплевать и подавно. Какого ребенка волнует беспорядок в квартире?
Ника почти не бывала дома – то в школе, то в кружках, то во дворе, то у подружек, – все понятно, зачем ей смотреть на неживую мать? Ее надо утешать, ей надо сочувствовать. Это непросто, это здорово напрягает, это вводит в тоску и уныние. В ее возрасте этого совсем не хочется. Я ее совершенно не осуждала. Было немного обидно, но я все понимала. К тому же мне самой хотелось остаться одной.
Мой вечер выглядел так: после порции макарон – все равно с чем – и кружки горячего чая я усаживалась на диван в гостиной, укрывалась старым жакетом, сворачивалась в клубок и замирала. Закрывала глаза. Света не зажигала. Иногда засыпала. Иногда просто дремала. Но чаще всего не спала – просто лежала в своем коконе из несчастья, огромной беды, обид и страданий. Я очень жалела себя. За что? За какие грехи? Что мы такого сделали или не сделали, что с нами так вышло? Напрягая память, я докапывалась до таких незначительных мелочей, что и сама удивлялась – как можно извлечь из подсознания подобную чушь?
Не было в нашей жизни ничего такого страшного, ужасного, предосудительного. А, гордыня – вот и есть мой самый страшный грех! Я не вижу своих проступков. Часто не замечаю своих промахов. Оправдываю себя. Конечно, обижаю других. Но кого я обидела? Я пытаюсь вспомнить. Не помню. Выходит, я страшная грешница, раз не помню.
Вот так я тогда себя грызла. Изгрызла до того, что стала весить пятьдесят килограммов – стала тоньше Ники, а ведь никогда не была худышкой.
Для Ники – уверена – это были сплошные праздники. Я ее не контролировала совсем – гуляй от вольного, приходи, когда хочешь. Ночевать у подруги? Да ради бога! Мне так даже легче. Я была еще и преступной матерью. И это довело до беды. До большой беды – в четырнадцать лет моя дочь залетела. А я ничего не заметила, лелея, укачивая свои страдания. Заметила – точнее, услышала – совершенно случайно. Ника говорила подружке, что ее сильно тошнит и что утренние рвоты «ее задолбали». Пару минут до меня ничего еще не доходило – мозг мой тормозил. А потом вдруг стукнуло, и я поняла, о чем они говорят.
Меня накрыло. Я опустилась на табуретку и замерла. Застыла, окаменела. В голове было пусто. Не было паники – видимо, я совсем отупела и не могла реально воспринимать случившееся.
Зашла дочь, увидела меня, но не удивилась. Только вздохнула – я ее раздражала. Ее раздражал мой заторможенный вид, мое равнодушие, мой отсутствующий и неживой взгляд в никуда.
Наконец она резко спросила:
– Ну, что еще? Что еще у тебя случилось? Какой теперь повод для грусти? – В голосе было не только раздражение – звучали металл, злость.
«Стерва, – равнодушно отметила я. – Злая и черствая малолетняя стерва. И я ее, кажется, совсем не люблю. Я ею брезгую, я ее презираю».
Я вздрогнула и подняла на нее глаза.
– Что случилось? – переспросила я. – Да так, ерунда! У меня умер муж. Вернее – его убили. И еще – дочь залетела. Ученица девятого класса! Как думаешь – это повод грустить?
Ника замерла. Смотрела на меня испуганно, не понимая, что ожидать от сумасшедшей мамаши.
Потом громко сглотнула и тихо произнесла:
– Откуда…Откуда узнала? Подслушала, да?
Я равнодушно пожала плечом:
– Подслушала? Да больно надо! Услышала – так будет точнее! Случайно, заметь! Тише надо было шушукаться! Конспираторша хренова.
– Я думала, ты спишь, – пробормотала она. – Ты же теперь все время спишь…
– Ага! Меня вроде нет, да? Ну или я почти умерла! Ты же ко мне не подходишь даже – нет меня, да? И тебя, кстати, это очень устраивает, не так ли, доченька? – Сколько яда, сколько сарказма выплескивалось из меня! И это вместо того, чтобы ее пожалеть. Посочувствовать, пусть даже поругать, но все-таки прижать к себе.
– Меня – устраивает? – Голос Ники начал крепнуть. – Устраивает, да, мама? Устраивает то, что я тебе не нужна? Папы нет, бабушки – тоже. Она то на даче, то вся в своих гипертониях. А ты, мама? Это ты мне не нужна? Или я тебе, мама?
И Ника заплакала. И заплакала я. Так мы и ревели напротив друг друга, боясь броситься к друг другу и крепко обняться.
Первой не выдержала, конечно, я. Я обняла ее и прижала к себе.
И тогда, несмотря на весь ужас нашей ситуации, несмотря на эту кошмарную новость, именно тогда, в те минуты, наревевшись и наконец обняв дочь, я проснулась. Точнее – ожила. Еще точнее – почувствовала себя живой. Впервые за семь лет.
Ну а потом был аборт. И ни о чем другом Ника и слышать не хотела. Я ее понимала и не отговаривала. Так перекорежить свою жизнь может только законченная идиотка – это ее слова. О так называемом папаше информации почти не было. Дочь молчала как партизан. Сказала одно:
– Мам, что о нем говорить? Сопляк и кретин.
Меня очень подмывало спросить: а что же ты легла с сопляком и кретином? Но я вовремя остановилась. Глупый вопрос – что понимает четырнадцатилетняя девчонка, сама дурочка и соплячка? Поисками папаши я заниматься не стала – во-первых, не было сил, во-вторых, надо было сосредоточится на главном, а в-третьих, на черта он нам был нужен, этот пацан?
Я много думала тогда о Нике и этом ребеночке. В какую-то минуту мне показалось, что он должен быть. А потом нашла в себе силы признать – он нужен был мне, этот младенец, чтобы помочь, помочь именно мне! Чтобы вытащить меня из темной пропасти, поддержать и спасти.
А Нике? Что поймет она, что почувствует, когда настанет время рожать? Сможет ли она стать ему матерью? Скорее всего, не сможет, надо быть объективной. Станет им тяготиться. И что тогда? Тогда матерью стану я. Конечно же, стану! Я ни минуты не сомневалась, что полюблю этого малыша. Полюблю на всю жизнь, сильнее всех и буду ему замечательной мамой. Но – имею ли я на это право? Кто, кроме меня, станет от этого счастливее? Ника? Вряд ли. Большие сомнения. Она станет раздражаться – я знаю свою дочь, она не из сентиментальных, будет стесняться своего раннего материнства. Ей будет труднее учиться и устраивать свою судьбу. И непонятно, как ранние роды скажутся на ее организме. И потом – кто будет нас всех кормить? Кто? Если я сяду дома с ребенком? Мама-пенсионерка? Ника-школьница? Да и по дочери я видела – ей нужно было скорее избавиться от беременности. Она считала часы.
Я позвонила своей давней школьной подруге Лере, акушеру. Рассказала ей про свои сомнения. Лера рассмеялась:
– Рожать – не рожать? Ты что, мать, рехнулась? Да и дочка, говоришь, не рвется? Тем более! Сережи нет, вы одни – три глупые и беспомощные бабы. Одна старая, другая малая, а третья – бестолковая, уж прости.
– Я поняла – перебила ее я, чтобы она не мучилась, подыскивая эпитеты. – Я поняла, Лер! Рожать мы не будем. Только вот… Не дай бог, осложнения! И Ника потом не родит…
– Бредни все это, – отрезала Лера. – Есть приблизительная статистика – о-о-очень приблизительная, надо сказать. Не рожают после первого аборта три-пять процентов. А все остальные – пожалуйста, милости просим! А в эти три-пять еще надо попасть! И если нормальный врач, нормальный срок и нормальная больничка – ты понимаешь.
Нормальный врач был – Лера постаралась. Нормальный срок мы поймали, не пропустили. Нормальная «больничка» наличествовала.
А вот Ника… Мы долго были уверены, что девочка попала в те самые пресловутые три-пять процентов. Забеременеть она долго не могла. Хотя об этом потом.
И все-таки – хотя и страшно так говорить – ситуация с дочкой к жизни меня возвратила. Хлопоты, суета, забота о родном человеке – я встрепенулась, проснулась и стала жить.
Потом, когда Ника начинала рыдать о своем несостоявшемся материнстве, мне делалось невыносимо стыдно – я должна была тогда настоять. Решиться. Взять на себя. А я испугалась: хватит ли сил, хватит ли денег, как посмотрят соседи, что скажет мама. А не испугалась бы, растила бы сейчас своего внука (почему-то я была уверена, что будет внук, мальчик. Конечно, Сережа!). Гуляла бы с ним, читала ему книжки, рассказывала сказки, пекла пирожки. Учила бы его музыке! И он был бы счастлив. И я была бы счастлива. И моя дочка Ника – пусть не сразу, позже, потом когда-нибудь тоже была бы счастлива.
Говорят: «Бог дает ребенка и дает на ребенка». Полная чушь! На тебя не сваливается богатство – все остается по-прежнему. Только прибавляется еще один человек. Рожать в нищете? Глупости, бред. Лишать ребенка всего того, что ему необходимо? Медицины, образования. Бытовых условий, в конце концов. Это тоже имеет значение! Чтобы он чувствовал себя нищим, изгоем? У него не будет отца – это комплекс, почти не будет матери – одна бабка с расшатанной нервной системой, неуверенностью и вечным страхом в глазах. Нет. На это я была не согласна. И еще так я оправдывала себя. И я абсолютно поверила Лере, потому что очень хотела поверить – в три-пять процентов еще надо попасть. А почему, собственно, мы? С нас уже хватит несчастий! Бог нас пожалеет. Мы и так настрадались, и так никому не нужны, одинокие несчастные – мама, я и наша бедная Ника.
Позже, когда дочь долго не могла забеременеть, она попрекнула меня. Однажды – больше не повторялось. Но мне хватило.
– Как ты могла! – закричала она. – Почему ты меня не остановила? Это я была соплячкой и дурой! А ты? Ты же была взрослой женщиной! А ты отвела меня за руку! И твоя рука не дрогнула – ни на минуту! Ты отвела меня туда, на это пыточное кресло, и заплатила за это деньги! За то, чтобы из меня выскребли моего ребенка!
– А меня тогда не было, Ника! Ты забыла? Меня просто не было! Кто бы тебе помог воспитывать малыша?
Я понимала, всегда легче переложить на другого, чтобы оправдать себя. Я и сама так часто делала. Я понимала ее отчаяние. Понимала ее боль. Я все понимала…
Но… сказать мне это? Обвинить во всем только меня? Это было жестоко.
Однако я проглотила, стерпела. Понимала – у нее своя правда. И еще я понимала, что Ника очень страдала.
А я мать. Что тут объяснять? И я ни разу не напомнила ей наш тогдашний разговор. Точнее – ее монолог, слава богу, у меня хватило ума. И это было не благородство с моей стороны, а нормальная, обычная материнская реакция. Когда ребенка жальче, чем себя.
Я не напомнила ей, как она кричала: «Мама! Если ты не найдешь мне врача, я найду его сама! Кого угодно, слышишь? Первого, кто попадется!»
После больницы, где всё, как меня убеждали, прошло хорошо, Ника быстро пришла в себя. Успокоилась. Развеселилась. Кажется, она ни минуты не думала о том, что это было. Как вырвали зуб – забыто на следующий день. Подумаешь, что вспоминать? Я ни разу не видела, чтобы она плакала, тосковала, печалилась. Или скрывала свою боль от меня? Не думаю. Я бы заметила. Просто она была совсем ребенком – глупым и избалованным ребенком. Смахнула, как комара со щеки, как волос с юбки, как песок с босоножек, – и все. И ничего не было – ни беременности, ни больницы, ни укола в вену, ни металлического звука инструментов, ни пузыря со льдом на животе. Девочка жила дальше. Молодость брала свое. Впереди были институт, студенчество, романы и – долгая, интересная жизнь. Так ей казалось. Так кажется всем в пятнадцать, шестнадцать и восемнадцать. И дальше – наверное, до тридцати. У всех с небольшими амплитудами – зависящими от того, во сколько тебя стукнет по башке. Ее, Нику, стукнуло в двадцать шесть. Судьба дала продышаться.
Мама так ничего и не узнала тогда – мы ее пожалели. И ничего не заметила – она по-прежнему жила дачей, огородом и садом, походами за грибами.
– Марина! Так много грибов! Жаль пропускать даже день! – И перечисляла по телефону свои подвиги: – Соленых грибов десять банок. Маринованных уже двенадцать. Огурцов квашеных, маринованных…
Далее шли помидоры, сладкий перец, варенья и компоты.
– Нам же надо как-то выживать! – оправдывалась и одновременно хвасталась она. – А это такое подспорье!
Я радовалась, что мама при деле. Беспокоилась, что все это ей дается с трудом, с большими усилиями. Знала, как она устает. И все-таки на этом она держалась. На том, что мы без нее пропадем. Помрем с голоду. Не переживем зиму. Словом – она наш главный кормилец. Маме было так легче – ей казалось, что она нас спасала!
Ника быстро пришла в себя. Через месяц уехала с компашкой школьных друзей на Селигер. Я была спокойна – компашка подобралась хорошая, знакомая. Да и ехали они не одни – с родителями ее одноклассника. Ставили палатки, готовили на костре, пели под гитару. Я не возражала: увезти дочь на море я не могла, не было денег. Заставить ее сидеть на даче с бабушкой было наивно. Правда, перед отъездом не выдержала, сказала:
– Ника! Ты хоть там… Поосторожней! Хватит с нас экстрима, тебе не кажется?
Она покраснела:
– Мама, хватит! Я что, дура? Не понимаю сама?
Я вздохнула и махнула рукой:
– Дура, не дура. Главное – ты поняла.
Кажется, она на меня обиделась.
В те дни я просила прощение у Сережи. Каялась, извинялась за то, что не смогла уберечь нашу дочь. Я была уверена, что виновата в этом именно я – я пропустила ее, проморгала. Слишком отдалилась от нее, погрязла в своих страданиях.
Я была абсолютно убеждена – если бы Сережа был жив, ничего подобного бы не случилось. У Ники бы продолжалось счастливое детство и не случился бы ранний дурацкий секс с сопляком.
Я осталась одна. И мне снова было хорошо с самой собой. Я снова была свободна от обязанностей – магазинов, готовки, стирки, уборки. Приходила с работы и, как всегда, плюхалась на любимый диван. Вспоминала свою прежнюю и счастливую жизнь. Нашу с Сережей общую жизнь. Вспоминала ее по капелькам, собирала по крупицам, песчинкам, по крошечным бусинкам, нанизывала на тончайшие нитки. Я не мучила себя, нет. Только в эти минуты я была спокойна и счастлива.
И никто не трогал меня. Я вообще не была кому-то интересна – ни я сама, ни моя жизнь, ни мои мысли, печали, сомнения. Никто ни разу не спросил у меня, о чем я думаю, что у меня на душе.
Дочка была слишком юна и увлечена собой. Мама – в своих заготовках, дачных проблемах и болячках. Нет, она беспокоилась за меня – что я поела, что купила, что надела. Не промокла ли под дождем. Не болит ли у меня голова. Как настроение. Это были обычные дежурные вопросы – я понимала, что за ними ничего нет, обычное материнское беспокойство, и все. Ни разу она не спросила, что у меня на сердце, какие мысли мучают меня, не тоскую ли я по Сереже. Она вообще не говорила о нем. Наверное, боялась поднять эту тему, потревожить меня, расстроить. Вернуть туда, в то время, в нашу счастливую жизнь.
Наверное, она думала, что я успокоилась, не страдаю, как раньше. Просто живу – отболело. Ведь она всегда говорила: «Время лечит, Марина! Только время, поверь!»
А мне так хотелось поговорить о Сереже. Ведь мама его так любила! Неужели она так быстро забыла его?
Как-то я робко начала разговор:
– Мам, а помнишь, Сережка…
Она меня прервала:
– Марина, хватит! Хватит жить прошлым, живи настоящим! И в конце концов, устраивай жизнь! Сережи давно уже нет! А ты есть, ты живая! Вот и живи и радуйся, что живешь! Ты посмотри на себя. На кого ты стала похожа? Смотреть ведь тошно!
Этот ее короткий и беспощадный монолог был жесток и ужасен, она перечеркивала всю мою жизнь, с пренебрежением перечеркивала. Обрывала ее, окорачивала, обесценивала. Пыталась стереть Сережу как пыль.
Как мне было больно.
Нет, я понимала – она хотела как лучше, хотела вывести меня из анабиоза, встряхнуть, привести в чувство. Но это было оскорбительно для меня. Я ничего не ответила. Просто еще глубже ушла в себя. И еще раз поняла – у них по-другому. Они – и мама, и Ника – продолжают жить, как будто ничего не произошло.
Почему так случилось? Ведь мы были вместе. Все вместе, семья – Сережа, Ника, я и мама. Мы дорожили друг другом, ценили друг друга, волновались и переживали друг за друга. Как быстро они смирились с нашей потерей. После Сережиного ухода нас вместе больше нет и не будет! Мы все по отдельности – мама с огородом и банками. Ника с друзьями и весельем. Я – со своей тоской и одиночеством.
Вот как получилось.
Перед сном я разглядывала себя в зеркало. Тошно смотреть? А ведь мама права! Мне и самой стало тошно – зеркал я тогда избегала. Как я постарела, господи! Я никогда не была красавицей – обычная женщина, таких миллион. Среднего роста, средней упитанности, чуть курносая, сероглазая, светло-русая. Женщина приятной наружности – никакой красоты. Сережа говорил, что я милая. В смысле, что у меня милое лицо. Он любил, когда я красилась – тушь, помада, любил, когда я наряжалась, например, перед походом в гости или в театр. Я видела, как загораются его глаза:
– А ты, оказывается, Маруська, красавица!
Я кокетничала и делала вид, что обижалась:
– Ах так? Ты только заметил?
И мы смеялись.
Сейчас я не была ни красавицей, ни милой – я была замученной и измученной, блеклой и серой. Я была никакой. Думаю, если бы меня увидел Сережа, то вряд ли бы он подошел познакомиться.
Максим
Я открываю почту. О, чего там только нет! Письма от читателей и почитателей – по первой строке, по приветствию можно понять сразу все. «Дорогой и глубокоуважаемый Максим Александрович!» «Мой любимый автор!» В основном это так и начинается. Бывает немного по-другому, но смысл тот же.
А уж если начинается, например, так: «Товарищ (господин, гражданин) Ковалев! Хочу вам сообщить (поделиться, высказать свое мнение), так как имею на это право», то дальше будут критика, возмущение, негодование, яростное желание высказаться, вылить свой гнев и корыто помоев, оскорбить, даже унизить и плюнуть в лицо. Таких желающих тоже навалом. И самое смешное – они все имеют на это право! Что ж, трудно с этим не согласиться.
Письма хулителей читать куда интереснее, чем письма «хвалителей» и поклонников, и даже фанатов. Есть такие придурки, которые ищут в тексте ошибки. Вычитывают, наверное с лупой – очкам не доверяют. Ну а потом полным списком мне, автору, и копию – в издательство. С жалобой.
Это такие «спецы» различного пола, скучающие по партийным собраниям. Обличители, борцы за правду. Наверняка участники митингов, клеветники, пишущие жалобы в разные инстанции. Полно и тех, кто высылает свои опусы – мнят себя писаками или робко предлагают «глянуть одним глазком». Есть среди них настырные, наглые, уверенные в своем таланте, непоколебимые и тупые: «Прочитайте, и не пожалеете! Это – бомба! Жду вашей рецензии». А если я робко и тактично напишу чистую правду, могут пойти и угрозы!
Есть робкие, интеллигентные, тактичные люди: «Если бы вы смогли», «если найдете минутку», «Мне так важно ваше мнение», «Так приятно ваше внимание». Рукописи от таких я стараюсь прочесть.
Кстати, что интересно! Среди этого бескрайнего и беспредельного (от слова беспредел) моря текстов всего пару раз попадались стоящие. И я был счастлив, что не пропустил их, связывался с издательством и просил посмотреть. Мне, разумеется, не отказывали. Одну рукопись, правда, забраковали, не взяли. Сказали, что подобного чересчур много. А вот вторую…
Из второй кое-что получилось – чудная тетка из славного города Ростова выпустила уже третью, кажется, книгу! Горжусь. А как переживал, что напряг, отнял время.
С тех пор из щедрого южного красивого города мне приходят посылки с красным вином, виноградом, грушами, помидорами, вкуснейшей соленой шамайкой, жирным рыбцом и прочими вкусностями.
Общение с читателями в эпистолярном жанре – это вообще отдельная история! Сколько же сумасшедших! Просто диву даешься.
Как-то пришла в голову забавная мысль – собрать вот все эти письмишки и выпустить книгой. Ох, доложу я вам, интересное было бы чтиво, хотя и бульварное, конечно, желтое. Вот только времени на это все никак, увы, не хватает. Я или в процессе, так сказать, написания нетленки и зарабатывания денег на хлеб насущный, или в заслуженном отпуске. А в этом самом ну очень заслуженном браться ни за что неохота. Есть чем заняться, поверьте. Но письмишки эти я храню, не удаляю. Может быть, когда-нибудь… Когда, например, иссякнет «золотоносная» жила творчества. Или просто пошлют меня в родимом издательстве куда-нибудь далеко и надолго – ну, надоем я им, вот и все! Придут новые – умные, смелые и талантливые. Это ж нормально, а? И вот тогда…
Еще письмо. О, эта из постоянных и верных поклонниц! Такими не пренебрегают – Елизавета Аркадьевна Страстинская, милая дама из Санкт-Петербурга. В отношении Елизаветы Аркадьевны Страстинской язык не повернется сказать «из Питера», потому что дама эта весьма и весьма серьезная. Пишет она мне редко – что слава богу и что характеризует ее не только как слегка тронутую «петербурженку» – так называет себя она, – но и человека действительно в высшей степени интеллигентного. Письма ее осторожны, сухи и наивны, несмотря ни на что. Они тщательно выверены, сто раз отредактированы и наверняка облиты слезами. Дело в том, что мадам Страстинская в меня влюблена – давно, лет двенадцать. Она одинока, старая дева. Кажется, девственница – как-то она намекнула, и я тут же поверил. Таким, как она, непременно нужна нафантазированная любовь. Этими фантазиями мадам, собственно, и занимается последние двенадцать лет. Ей, милой и наивной, кажется, что она наконец нашла своего мужчину – единомышленника, единоверца и мечту всей жизни. Мужчину с большой буквы. Я, разумеется, этим высоким идеалам не отвечаю, но разубеждать ее было бы преступлением. Как можно лишить человека мечты и фантазии? Эх, расспросила бы она обо мне, прекрасном, мою жену Галку! А еще лучше – Нину, мою первую жену и мать моей дочери. Ох, и нарассказали бы они ей! Мама не горюй! Это был бы триллер, настоящий экшен. Драма в нескольких действиях. Слава богу, что милейшей Елизавете Аркадьевне в голову это до сих пор не приходило.
Вообще, у дам подобного склада бывают две крайности. Во-первых, они изо всех сил стараются проникнуть в дом, в самое, так сказать, чрево, в нутро жизни «гения» и там окопаться. Была у нас и такая. Звали ее витиевато – Гилария Анатольевна. Для близких друзей – Гиля. Хитростью и обманом Гиля проникла к нам в дом: в столице у нее имелась однокомнатная квартира, но Гиля соврала, что жилья у нее нет, бывший муж отобрал все, и она, бедная и несчастная, вынуждена скитаться по чужим углам. Все оказалось враньем – квартиренку свою Гиля успешно сдала, как только укрепилась у нас. Получилось это постепенно – одна случайная ночевка – у Галки был тяжелый грипп. Вторая – требовалась помощь по случаю большого приема гостей. Ну и так далее. У нее получилось. Слава богу, все это было недолго – всего-то полгода. Но и за полгода Гиля сумела многое – поссорить нас с Галкой, отвадить от дома парочку друзей, влезть в мои отношения с матерью, и без того крайне тяжелые. Словом, Гиля оказалась для нас, дураков, страшной обузой. А начиналось все самым милейшим образом – она втерлась в доверие к Галке, опутала ее сетями обожания и преданности, наобещала с три короба, и мы ей поверили. Тактика у нее была простая – попасть в разряд самых верных, самых преданных и близких друзей. Стать наипервейшей подругой жены гения, ее компаньонкой, жалельщицей, наперсницей, ближайшей поверенной. Войти не только в душевные, личные сферы, но и в повседневную жизнь. И очень скоро оказалось, что жить без нее невозможно. Только она способна была разрешать все бытовые проблемы – от варки куриного супа до оказания первой помощи при укусе осы. Гиля лихо набирала и правила мои тексты, писала за меня интервью, созванивалась с телевизионщиками. И нам стало казаться, что с ней, с такой чудесной, действительно стало проще.
Но однажды мы вдруг поняли, что мы не одни – везде, всюду, даже в постели. Там, на уютном семейном ложе, аккурат между нами лежит она, наша спасительница, в голубой ночной рубашке в отвратительный желтый цветочек, с бигуди на голове. И пахнет от нее, надо сказать, премерзко – дешевым мылом (господи, откуда оно здесь у нас?), валокордином и чем-то кислым. Она спит, тихо посапывая. Иногда, правда, всхрапывает. И мы испуганно вздрагиваем и переглядываемся, но молчим. Боимся спугнуть ее сон. И утром она уже на кухне, сидит и пьет кофе из любимой Галкиной чашки. Галка недовольна, но… молчит. Боится ее, родную, обидеть. И в туалете торчит она долго, когда вам уже невтерпеж. И она же первой хватает телефонную трубку и все решает за нас… А потом… А потом от нее не отделаться, кажется, никогда. И наступает отчаяние. А ведь это жена впустила захватчицу в ваш дом. Да, она. Потому что ей это было удобно! Потому что основную часть своих проблем, в том числе и связанных с творчеством любимого супруга, она легко и с улыбкой передала этой захватчице. Именно она ее впустила в дом.
И вот уже в лицо жене брошены обвинения, жестокие и беспощадные. Немного придя в себя, супруга не остается в долгу. И есть правда в ее словах, есть! «Это твоя поклонница! Это твоя фанатка! А фанаты не бывают нормальными!»
«А нет, милая! – снова вступает супруг. – Это тебе было удобно! Это вместо тебя, дорогая, она варила эти отвратные щи! А ты их нахваливала. А я – ненавидел! И сырники ее ненавидел, и котлеты! И рубашки она стирает отвратительно! А уж гладит – вообще не хочу говорить!»
«Ага! – находит новые аргументы жена. – Это мне она набирала текст позавчера! Это меня, а не тебя она возила к зубному! Это мне, а не тебе она достала путевку в Минеральные Воды! Копеечную, надо сказать, но очень хорошую! Это мне, а не тебе она подает чай в кабинет и делает массаж спины, да?»
Но потом все же вывешиваются белые флаги, супруги объединяются, понимая, что поодиночке не выстоять, не побороть хитроумного и коварного врага. И начинают перебирать варианты, искать выход. И это вместо того, чтобы просто дать ей от ворот поворот. Собрать ее скудные сиротские вещички и – за порог!
Но мы осторожны – просто так с ней не обойтись. Будут последствия. Потому что фанаты, маньяки и оголтелые просто так не уходят. Да, мы боимся ее. Это надо признать. Неловко, а надо. Друг перед другом неловко.
В итоге захватчица изгнана – со скандалом, смертельной обидой, планами жестокой мести. Без разницы. Понятно, что не с улыбкой и не с благодарностями. Потому что гений и его супруга оказались людьми непорядочными, неблагодарными и крайне жестокими.
Дальше эта чокнутая будет разносить сплетни, давать интервью «Моя жизнь в семье писателя К.». Ее будут рвать на куски телеканалы и желтые газетенки. Поначалу она, движимая незабываемой обидой, станет бегать туда бесплатно. А потом сообразит, что к чему, и примется зарабатывать неплохие деньжата. Но скоро к ней – и к обидевшим ее гению и его супруге – интерес будет потерян, и она, скорее всего, запрется в своей крошечной квартирке и станет страдать. Или попивать. Или найдет благодарную аудиторию среди соседок-бабулек на лавочке у подъезда.
Жалко ее? Да. Но и себя жалко.
После ее ухода писатель и его жена облегченно вздохнут, у них наступит медовый месяц, Ренессанс в семейных отношениях.
Опять я отвлекся. Опять тяну время. Опять сачкую. Нет на меня Галки, нет! Елизавета не Гиля, ни-ни! Елизавета тактична, интеллигентна и ненавязчива – радость, а не поклонница! Ее редкие, осторожные и деликатные письма никоим образом не беспокоят меня. И все-таки ее влюбленность немного смешна.
Галка вечно ругала меня, упрекала, созванивалась с моим редактором – в целях проверки и контроля. Пролистав – именно так, пробежав глазами с компьютера мою рукопись, – с похвалой она не торопилась. Указывала на мои, как ей казалось, ошибки. Поправляла, критиковала, не соглашалась. И я начинал злиться! Ох, в какую же я впадал ярость! В выражениях не осторожничал.
– Да кто ты такая? – яростно вопил я. – Нет, ты мне ответь! Ты что, филолог? Лингвист? Литератор? Литературный критик? А может, ты журналист? Или поэтесса? А я не заметил! Ах, как же я мог?
Потом, правда, на холодную голову, придя немного в себя, я понимал, что во многом Галка права. Конечно, никакой она не литератор и не критик, а простой парикмахер. Вернее – в прошлом парикмахер. Потом – деловая женщина, открывшая свой салон. Кстати, бизнес ее был вполне удачным и приносил приличный доход, на который мы жили. Но сейчас Галка занимается им в полноги, мы смогли это себе позволить спустя несколько лет после взлета моей карьеры. Мои читатели – тоже обычные люди. Значит, получается, что я должен прислушиваться к жене? Которая, кстати, к моему успеху имеет самое прямое отношение. В той, прошлой, жизни, когда она работала женским мастером, все тоже было не так примитивно, как это может показаться. Галка не просто стригла и красила в районной парикмахерской – она работала в элитном салоне, где считалась лучшим мастером. Попасть к ней было не так-то просто. Запись огромная, на месяц вперед. У нее, у моей хваткой Галки, все, как говорится, было схвачено. Клиенты у нее были совсем непростые – известные актрисы, жены актеров и режиссеров. Писательницы и жены писателей. Художницы и жены художников. Ну и, разумеется, нужные люди. Без них в те времена было не обойтись – директора гастрономов, универмагов, главврачи центральных больниц. Кассирши в билетных кассах – железнодорожных, авиа— и театральных, провизоры центральных аптек, жены важных милиционеров, гаишников и прочих чиновников. А еще ректоры и деканы самых престижных институтов, автослесари и стоматологи. И даже наглые тетки из ОВИРа были клиентками моей жены. Это была такая прослойка шустрых и умелых людей, для которых тот строй, социалистический, с вечным дефицитом и унижением для обычного человека, был Эльдорадо и вечным праздником.
Им все было легко, все доступно и все «без проблем» – любимая фраза. Когда вся страна билась в поисках сапог, детских шубок, колготок, растворимого кофе и железнодорожных билетов, билетов в театр или цирк, моя жена и ей подобные все решали «на раз» – стоило только приподнять телефонную трубку.
Это, конечно, была фантастика! В первые годы нашей совместной жизни я замирал, как жена Лота, наблюдая с открытым ртом действия своей жены.
Конечно, Галка моя чувствовала себя в то время как рыба в воде.
Впрочем, ей в любое время было комфортно и хорошо. Удивительная, надо сказать, человеческая особенность – я всегда этим восхищался. Галка была неисправимой оптимисткой и человеком легким по сути – она так и говорила: «Дело не во времени, а в человеке! Лично у меня всегда все будет в порядке, потому что люблю жизнь, ценю ее, потому что верю в себя – я всегда заработаю на кусок хлеба с маслом и икрой!»
И это была чистая правда. Моя жена никогда не сетовала на трудности, на политическую обстановку, строй, никогда не винила в своих бедах других, никогда не критиковала время и власть – так, значит, так. А мы – мы будем жить! И постараемся жить хорошо!
И жизнь платила взаимностью.
Галка никогда не ныла и не была занудой – в отличие от меня.
Конечно, дело было не только в ее золотых руках – прекрасных мастеров на свете немало. Дело было в ее коммуникабельности, легком подходе, неплохом юморе. На нее было приятно смотреть, ее было приятно слушать. И еще, она никогда не прогибалась, не юлила и не прислуживала – работу свою выполняла с достоинством английской королевы. При взгляде на нее дамы переставали грустить, обращать внимание на морщины, перенимали фасоны ее нарядов, обращались за советами – по всем вопросам. Галка тут же рекомендовала лучшую косметичку, лучшую портниху, лучшего стоматолога.
Конечно, у нее был талант. Несомненный талант – умение жить, умение радоваться, умение дружить и запросто общаться.
С Галкой и мне было легко, особенно после развода с Ниной, моей первой женой. Вот если и были два полюса, то это точно Галя и Нина! Моя первая ко всему относилась «как в последний раз». Для нее все было трагедией, драмой, из которой выхода нет. А если прибавить к этому мой «природный оптимизм»… Парой мы были сложной, потому и расстались Нина ушла, устав ждать моего успеха, в который совершенно не верила. Ее можно было понять – столько лет нищеты, столько лет пустых обещаний с моей стороны. Она не выдержала, что вполне объяснимо.
Я знал – Нина меня очень любила. Она прощала мне многое. И простила бы еще, если бы не Наташа, наша дочь. Простить, что я стеснялся Наташи, не любил ее, Нина не смогла. Сказала мне – уходи, я от тебя устала. Устала от твоего равнодушия. Всё.
И я ушел, радуясь, что она сказала это первой. По сути она спасла меня, облегчила мою участь. «Это она выгнала меня!» – твердил я себе. Сволочь, конечно.
Довольно быстро Нина вышла замуж, и ей опять не повезло. Нет, новый муж моей старой жены не мнил себя великим писателем – был он обычным человеком, стоматологом в поликлинике. Казалось бы, неплохие и постоянные заработки и никаких рефлексий и срывов – жизнь стабильна и уютна. Но нет. Нина снова впала в отчаяние – наша дочь Наташа не приняла отчима. Трагедь. Новая свекровь сноху невзлюбила – драма. Стоматолог мотается к прежней жене и родному ребенку с подарками – все, конец жизни. «А может, он все еще любит жену? Мою дочь еле терпит, а вот своего сына оправдывает во всем! Во всем самом гнусном! А моя девочка…» Ну и так далее. И бедная Нина опять не жила, не радовалась, а выживала, страдала.
Позже я понял – Нина умела только страдать. Есть такие люди – страдающие от всего.
То ли дело Галка! Не складываются у сына отношения с новым маминым мужем? Да наплевать! Ему уже пятнадцать, через пару лет упорхнет из гнезда – будет жить своей жизнью и видеть отчима по большим семейным праздникам.
Неважный муж попался? Да и черт с ним! Уйду от него – и всех дел! Найду другого. Не подойдет тот, другой, найду третьего! И даже если мне будет за семьдесят, – тут она заливалась веселым смехом, – всегда найдется тот, по сравнению с кем я буду еще молодой! Древний старик? Ха-ха! Ну и отлично! Поскорее спроважу его на тот свет и останусь с наследством!
Это, конечно, был юмор. Своеобразный юмор моей жены. Но в каждой шутке, как говорится…
Первый Галкин муж был дискоболом. Поначалу брак и карьера дискобола были удачными. Он вошел в сборную, первым не был и не был даже вторым, но из запасных, из резервных был первым. Много ездил «по заграницам», чемоданами возил тряпки – и любимой жене, и на продажу. Быстро построили кооператив, Галка села за руль новеньких «Жигулей», родила сына и принялась за строительство дачи – солидного загородного кирпичного дома, с баней и камином. Тогда, в восьмидесятых, это было еще редкостью.
Галка моталась по конторам, торгующим строительными материалами, кирпичом, кровлей и прочей ерундой. Договаривалась с рабочими, яростно торговалась и командовала строителями. Самые отпетые наглецы и ворюги считались с ней и даже ее побаивались и уважали. А между тем наш дискобол постепенно начал бухать – скорее всего, от ничегонеделания. От строительства дома Галка его отодвинула: «Нечего лезть! Ты только портишь и развращаешь рабочих!»
Это, конечно, было правдой, но так жестко делать этого было нельзя. Довольно быстро он стал алкоголиком – тяжелым, запойным. Спорт, конечно, закончился, а вместе с ним и командировки, и деньги. А денег надо было много – дом все высасывал и вытягивал, в квартире был нужен ремонт, да и Галка привыкла к сытой и обеспеченной жизни, так же как и ее бестолковый сын Герка.
Она не сразу махнула на мужа рукой – пыталась и лечить, и кодировать, и рыдать, и говорить по душам. И даже пугать.
Но он не пугался и продолжал пить. Тогда Галка забросила свои уговоры и – бросилась судьбе наперерез. Окончила парикмахерские курсы и дала взятку, чтобы устроиться в хороший салон в центре. Правдами и неправдами достала самые последние иностранные журналы причесок. И понеслось! К тому же человеком она оказалась рукастым, способным и терпеливым.
Через полтора года ее рвали на части.
Пахала она очень много – первая стадия ее профессиональной карьеры требовала адского труда и упорства. Дом был заброшен – дискобол окончательно свалился в пропасть, и руку ему уже никто не протягивал – было не до того. А мальчик Гера наглел, прогуливал школу и тоже держал направление в не лучшую сторону.
Но до поры бедная Галка об этом не знала, увы.
С дискоболом разобралась окончательно после пожара, алкаш заснул с сигаретой, выгорело тогда полквартиры. Слава богу, соседи унюхали дым и вызвали пожарных.
Две комнаты и коридор выгорели основательно, до бетона.
А сам дискобол лишь слегка угорел и обгорел. По счастью, Геры дома не было.
Сначала она определила мужа на лечение, а следом отправила в какой-то интернат, или «мягкую», по ее словам, психушку на «постоянку».
– А какой был еще выход? – искренне недоумевала она. – В следующий раз сгореть вместе с ним?
Надо сказать, что передачи она возила исправно, врачам платила. Но забирать его обратно, естественно, не собиралась. Прожил он там лет шесть и помер – царствие небесное. Похоронила она муженька достойно: солидный гроб, новый костюм, хорошее место на кладбище. Поставила памятник. И всё. Это была его жизнь, и он ею распорядился.
А следом всплыли проблемы с сыном – наркотики, фарцовка и прочее, что обычно сопутствует легкой жизни.
Галка и тут не растерялась – в середине девяностых отправила отпрыска за границу, в Англию. В суровый колледж Далвич. Спартанские условия, жесткий контроль всех, от учителей до медиков, никаких карманных денег и развлечений.
Мальчик, конечно, обалдел. Рвался домой, рыдал, что скучает по родине, и умолял мать о прощении. Но Галка была непреклонна.
И что в итоге? Да все нормально! Мальчонка выправился, окончил колледж, поступил в университет Уорика, стал адвокатом, поселился в прелестном городке Бате – в Лондоне было дороговато. Удачно женился на англичанке и родил двух дочерей.
О том, что его матери стоило оплачивать учебу и содержать его, он и не думал. Спасибо ей не сказал, а она не обиделась. «В конце концов, я это делала для себя, – говорила она. – Себе жизнь облегчала. И за себя просила прощения».
К сыну и внучкам Галка ездила часто, раза четыре в год. Внучек обожала, сыном была в принципе довольна, а вот невестку терпеть не могла – сухая вобла без сердца и души. Думаю, она ошибалась. Да, эта Линда была не шибко приятной, но, мне кажется, не злой – просто давали о себе знать британское воспитание и нордический характер.
Но и здесь моя жена довольно быстро уговорила себя: «Да мне на нее наплевать! Недовольна моим приездом? Окей, буду останавливаться в гостинице. На черта мне ее раздражать? Недовольна, что я читаю девочкам русские книги? Да пошла она! Спрашивать разрешения я у нее не буду! Этому дурику Герке нравится такая уродка? На здоровье! Было бы ему хорошо! Я езжу к сыну и внучкам, а не к этой сушеной треске».
Вот что странно – и первая моя жена, и вторая были из семей-близнецов: скромных, с более чем средним достатком. Родители первой жены инженеры, у второй – папа инженер, мама преподаватель в медицинском училище. И у тех, и у других – скромные двухкомнатные квартиры в пятиэтажках. Даже мебель одинаковая: польская стенка, ковер, кухня в голубой цветочек. Почти одинаковые парадные гостевые сервизы: у одних в зеленый горох, у других – в розовый. Я рассмеялся, увидев это.
Тещи были похожи друг на друга, как сестры: распустившаяся «химия» на голове, перламутровая помада «покойницкого» цвета и кримпленовое платье в крупных цветах. В ушах золотые сережки с красным рубином. Думаю, эти две хорошие и усталые женщины непременно бы подружились. Конечно, при других обстоятельствах.
Оба тестя выписывали «Советский спорт», потихоньку строили дачки своими руками где-то за сто первым километром от столицы. Выбивали путевки в профсоюзе – конечно же, в средней полосе, на моря давали другим. По вечерам любили срезаться в дурачка, настаивали вишневую наливочку и стремились на рыбалку – единственную доступную форму кратковременной свободы от семьи.
Они дружно копили на новый холодильник и телевизор, мечтали о машине – пусть даже скромном «Москвиче». Обожали выпить пивка после аванса с коллегами, разгадывали кроссворды и перечитывали старые детективы Конан Дойля.
Они ходили в брюках со слегка потрепанными обшлагами, в самопальных свитерах, любовно связанных женами из старой маминой кофты. Не роптали – так, слегка покусывали надоевшую власть.
В праздники накрывались обильные и вкусные столы – и это при общем дефиците и экономии: салат «мимоза», селедка под шубой, студень и рыба под маринадом.
Как могли, радовались, как умели, отдыхали. И все они были хорошими людьми, скромными и неприхотливыми трудягами.
А вот их дочери получились совершенно разные – ну это вы уже поняли. Нина решила продолжить жить, как родители, «скромно и неприхотливо». Жить лучше, богаче было как-то неловко.
Все, что она вынесла из детства и юности, – абсолютно схожую модель семьи и поведения, да и всей жизни. Хорошо живут только ворюги и спекулянты. Жить нескромно – стыдно и плохо. Покупать у фарцовщиков, переплачивать (плодить спекулянтов) – стыдно и неудобно. Лучше носить советский ширпотреб, чем туфли за сто рублей и платье за двести. Неприлично. Что подумают люди, откуда такие доходы? «На труды праведные не построить хором каменных» – любимая поговорка семьи. «Жить скромно, при этом не теряя достоинства». «Жить бедно, но честно» – тоже любимые присказки. Достоинство она понимала именно так – не роптать и быть всем довольной.
Галка пошла от противного – ей было страшно представить, что свою драгоценную жизнь она проживет точно так же, как ее мать и отец. Отстаивать очереди за вареной колбасой? Давиться за бананами и лимонами? Унижаться перед наглой продавщицей за коробку шоколадных конфет? Штопать колготки, ходить в стоптанных туфлях и саморучно сшитых юбках из дешевого мнущегося сатина? Ну уж, увольте!
При этом она обожала родителей. Обожала, ни на грамм не уважая.
В институт она не пошла – а зачем? Чтобы корпеть в учреждении за сто двадцать рублей? Или стоять у доски в классе перед балбесами, надрывая осипшее горло? Э, нет! Уже в шестнадцать лет Галка решила, что ей и самой под силу разукрасить, облегчить и разнообразить свою жизнь. И у нее это, надо сказать, получилось. Думаю, если бы моя вторая жена выбрала себе другой путь, например, врачебное или учительское дело, это бы тоже получилось у нее замечательно. Человеком она была безусловно талантливым. Но торопливым и нетерпеливым. Ей хотелось всего и сразу, и желательно – побыстрее.
Мы встретились с ней спустя восемь лет после моего развода. Тогда я уже пришел в себя от обиды на Нину, которая выгнала меня и почти тут же выскочила замуж. Правда, обида на жизнь еще оставалась – я по-прежнему работал в своем скучном журнале, клепал дурацкие пустые заметки о тружениках полей и сталеварах, а по вечерам писал для души. И не верил уже ни во что. А уж в то, что у меня получится, – и подавно. За эти восемь лет у меня были, конечно, истории и романы. Один – вполне серьезный, кстати. Я был влюблен и даже рассчитывал на совместную жизнь. Но не получилось. Было слишком много всяческих трудностей. Дама моя была замужем и жила обеспеченной жизнью. Позвать ее замуж – за себя, неудачника и нищеброда, – мне казалось кощунством. А она, как выяснилось позже, этого очень ждала. А потом ждать просто устала. Я не чувствовал себя виноватым. Куда? Куда я мог ее привезти? В свою восьмиметровую комнату? В коммуналку с соседями, пьющим Вованом и его верной подругой Раиской? На свой односпальный диванчик? Нет, любить ее там, на нем, было замечательно. А вот жить – невозможно.
Она приходила ко мне «дыша духами и туманами» – после нее надолго оставался шлейф чудных запахов и уверенности в себе.
Раиска, моя соседка, ее почему-то ненавидела. Увидев, шипела вслед:
– О! Шалавы пошли! Жди дождя!
Прекрасная дама быстро проходила в мою комнатенку, плотно закрывала дверь и плюхалась на диван. Ее лицо было бледным от волнения и от стыда.
Она очень любила что-нибудь придумать, присочинить. Думаю, жить ей было скучновато и пресно. Ей хотелось страстей, даже страданий. С первым было у нас неплохо, а вот со вторым как-то не очень.
Она часто плакала, моя возлюбленная. Кажется, мнила себя Маргаритой – да, да, как похоже: богатый и серьезный муж, отсутствие в том доме любви и понимания. Достаток, не приносящий ни счастья, ни даже радости. А тут почти полуподвал – нет, конечно! Я жил на третьем, и довольно высоком, этаже – каморка Мастера. Вот то, что каморка, – так это точно. Скромный и аскетичный быт, рукопись на столе – наверняка гениальная. И он, всеми покинутый, заброшенный и несчастный… Ждет только ее, свою Маргариту.
Все это, конечно, была полная чушь. Я радовался своему одиночеству, о высоком не мечтал, а мечтал заработать немного денег. Стать успешным, известным? Не знаю, я в это не верил. Да, мечтал выбраться из этой каморки, жить в нормальной квартире, носить настоящие джинсы и батники, слушать японский магнитофон и есть твердую колбасу – сколько хочешь, от пуза, запивая ее настоящим французским «Курвуазье».
Я жил низменными, приземленными мечтами обывателя – и все про себя понимал.
Понимал и то, что я – далеко не гений. Но при этом – человек не без способностей, пишущий понятно и складно. И кажется, проникновенно.
Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что могу зацепить чужую душу, цапануть за сердце – проза моя была стройной, ироничной, душевной и человеческой. Я много читал – современных и модных авторов. Среди них было много достойных. Конечно, я сравнивал, и часто в свою пользу. Человеком я считал себя объективным и очень земным.
Кстати! Спустя годы, когда меня взяли, именно эти слова повторил мой редактор: «Вы пишете для людей и о людях, а это всегда интересно читать. К тому же вы пишете честно и без прикрас – в том числе о любви и человеческих пороках. Пишете с юмором и с иронией – и это точно понравится вашим читателям. Вы читабельны». О как! По-моему, кошмарное слово.
Я отдавал себе отчет, что не пишу вещи эпохальные, что моя проза далека от прозы высокой. Это, скорее, проза о бытовом, общечеловеческом. Но меня это не расстраивало и не смущало – это был мой огород, и я окучивал его, кажется, довольно успешно. И еще – у меня были преимущества: я писал легко и с удовольствием. И еще я почти всегда оставлял людям надежду. Слишком сложна и тяжела наша жизнь. И без надежды… И людям, моим читателям, это нравилось.
Итак, мой затянувшийся роман с той дамой изжил себя, и мы, помучив изрядно друг друга – а без этого она жизни не мыслила, – все же расстались.
Кстати, спустя лет семь или восемь, точно не помню, я встретил ее в ресторане. Был я с Галкой, а она с мужем. Все такая же красивая, стройная и веселая. И я с облегчением подумал, бросив короткий взгляд на жену: «Мы поступили тогда мудро и правильно».
Моя женщина – это та, что напротив. Спокойная, выдержанная, уверенная, не способная на истерики. Мне с ней спокойно и, как говорят сейчас, очень комфортно.
Я вспоминал нашу первую с Галкой встречу. Как она обратила на меня внимание? Не понимаю. На смурного, потасканного мужика с затравленным взглядом? Я и сам себе был противен тогда…
Как старый и опытный ловелас я при первом же на нее взгляде сразу отметил – хороша! И очень даже хороша. Средний рост – не люблю ни слишком маленьких, дюймовочек, ни высоченных, огромных бабищ, – стройная и ладная фигура, длинные ноги. Лицо – скорее всего, довольно обычное, но вполне милое и симпатичное, ухоженное. Темноглазая крашеная блондинка, очень модная и современная. На все времена и на любые вкусы. Без каких-то явных изъянов и без яркой демонической красоты. Почему-то я всегда сторонился ярких и громких женщин. Может, побаивался? «Милая женщина, – подумал я. – славная. И кажется, одинокая». Почему я так подумал? Да черт его знает! Почувствовал, что ли.
Так сложилось, что за столом мы оказались рядом. Хозяйка квартиры, вездесущая и ловкая Оля Рошаль, наверняка нас «подсадила». Весь вечер поглядывала на нас, отслеживала. Оля – умелая сваха. А я не возражал. Я строил из себя джентльмена, ухаживал за своей приятной соседкой с большим, надо сказать, удовольствием. И она не возражала – я это видел и чувствовал.
С вечеринки ушли мы вместе. В гости ее я, по вполне понятным причинам, не приглашал – ее встреча с Вованом и Райкой в мои планы не входила. И она не приглашала – впрочем, я ничего про нее не знал – замужем, живет с детьми, с родителями?
Вечер был чудным – с легким морозцем, пощипывающим носы, с медленно и плавно летящим крупным снегом – красота! И к тому же погодка явно способствовала романтическому настроению. Говорила она мало, по делу и без глупостей, что особенно ценно. Никаких дурацких кокетливых смешков, закатывания глазок – что и в молодые-то годы меня раздражало, а уж сейчас, в зрелости…
Девочку она из себя не строила – сказала коротко и скупо: «Живу с сыном, формально замужем, но это не так. Работаю много, но работу свою люблю. Содержу родителей-пенсионеров». Про мужа, находящегося в психушке, она ничего не сказала. И про то, что несколько лет ездит к нему, возит продукты, лекарства и деньги врачам, обмолвилась не скоро, через год, и то случайно. «Ни на что не жалуюсь, – улыбнулась она. И всем довольна».
Я, как известный зануда и нытик, очень ценил людей, способных находить во всем позитив. Восторгался ими, зная, что на подобное сам не способен – сколько хочешь тренируйся, читай умные книги, прислушивайся к церковным канонам и заповедям, что уныние – страшный грех.
Я проводил ее до дома, и мы распрощались. Она оставила свой телефон, чему я очень обрадовался. В ту ночь я не спал – смотрел в окно, наблюдая, как падает мягкий, пушистый снежок. На душе впервые было благостно и спокойно. Даже мои извечные творческие муки куда-то отступили и на время оставили меня в покое. Помню, что заснул я с улыбкой.
Я позвонил Галке на следующий день и, признаюсь, волновался как мальчик. А она была все так же сдержанна и вполне доброжелательна. Согласилась на встречу в тот же вечер – мне это понравилось: не ломалась, не набивала себе цену – вела себя как умная взрослая женщина, к чему терять драгоценное время?
Мы сидели в кафе, что-то ели, пили кофе и белое вино.
На улице она посмотрела на меня испытующим взглядом – с легким прищуром и чуть заметной улыбкой.
– А может, ко мне? Сын у моих стариков – каникулы.
Я только поспешно кивнул, боясь, что она передумает.
Мы взяли такси и всю дорогу молчали. Я осмелился взять ее за руку, и руки она не отняла.
После всего, что произошло – а это было прекрасно, – она потянулась за сигаретой, перегнувшись через меня, и, усмехнувшись, спросила:
– Ты удивлен?
– Чем? – Я сделал вид, что не понял вопроса.
– Да всем этим. – Она обвела взглядом кровать.
Я помотал головой – дескать, о чем ты?
– Знаешь, – тихо продолжила Галка, крепко затянувшись, – мы ведь не дети, верно? И времени на эту лабуду, типа свиданий, букетов и лимонада с пирожными, у нас не так-то много. К чему корчить из себя недотрогу? Мы ведь оба этого хотели.
– Ты совершенно права! – жарко откликнулся я. – Ты настоящая женщина. И все эти глупые атрибуты… К чему нам они? И что они изменят?
Я испугался, что за этим монологом последует ее: «Не думай обо мне плохо. Я не такая. Так – только с тобой. И в первый раз, поверь!»
Но слава богу, ничего этого не последовало – она просто легла на мое плечо и быстро уснула.
Я был поражен – обычно так поступают мужчины. И эти вечные женские обиды – а понежничать? А поговорить о любви? О нас с тобой, о совместных планах? Где-то я вычитал, что мужик так устроен – после хорошего секса он засыпает. Что-то там с гормонами, а не с безразличием и равнодушием. А вот дамам надо поговорить – проговорить, так сказать, все произошедшее. Услышать подтверждение, что ты ее любишь, что она тебе стала еще дороже.
Спала Галка крепко и спокойно. Не спал я – рефлектик и идиот. Это мне, а не ей хотелось поговорить о любви. Я боялся утра – утром всегда сложнее. Но и утром она меня не разочаровала – выглядела свежо, не вскочила спозаранку, чтобы навести марафет и сделать горячий завтрак – что-то вроде только что испеченных блинов или сырников.
Она сладко потянулась, выгнулась по-кошачьи, провела пальцем по моему лицу и, не открывая глаз, сказала:
– А кофе в постель? Тормозишь! – И тут же открыла глаза и засмеялась чудесным и звонким, девичьим смехом.
Я только развел руками:
– Не знаю, где у тебя кофе, прости! Но обещаю исправиться!
Ей надо было спешить на работу – впереди был Новый год, и дамы торопились навести марафет. Она быстро оделась, вскипятила чайник и нарезала хлеб и сыр. Торопясь, на ходу, мы выпили кофе и выскочили за дверь. Внизу стояла ее машина. Вела она смело, умело и ловко. У метро я вышел. Мы ни о чем не договаривались – просто помахали друг другу рукой. Весь день я мучился – мне казалось, что для нее эта ночь была чем-то незначительным, привычным, рядовым. И мне было тревожно и обидно. Слишком прагматичной, слишком уверенной, слишком прозаичной показалась мне эта история.
Стало немного не по себе.
Галка позвонила мне тем же вечером и тихо сказала:
– Спасибо тебе!
Я смутился:
– О чем ты?
– Спасибо! – настойчиво повторила она. – Ты был так нежен, так осторожен. Поверь, пойти на это мне было непросто! Совсем непросто, но… очень хорошо!
Я чувствовал, как жар волнения и нежности, благодарности и радости заливает меня с макушки до пят.
– И тебе… спасибо, – хрипло ответил я. – Ты была… замечательной!
С того дня и начался наш роман.
Мы не теряли напрасно времени – встречались почти каждый день. Пару раз посидели в кафе и даже сходили в кино. Правда, фильм не досмотрели – она наклонилась ко мне и шепнула:
– Слушай, мы дураки! Зачем мы теряем драгоценное время? Тем более на такую вот чушь! Пошли, а? И побыстрее!
Я кивнул, и мы стали пробираться сквозь ряды.
Уже дома, чуть выдохнув, она сказала:
– Ну? И кто был прав? А ты бы и не решился, верно?
И мне оставалось только кивнуть – она все равно все понимала, моя Галка. Хотя никто не обязан понимать другого всегда – ни мать дитя, ни отец сына, ни муж жену и наоборот. Ведь кроме понимания важно еще и ощущение того, что человек, который рядом с тобой, тебя чувствует, даже если не понимает.
Сошлись мы довольно скоро – через полгода после первой встречи. Быстро стало ясно: нам вдвоем хорошо.
Тогда еще был жив Галкин муж, и расписались мы только после его смерти. Гера жил у ее родителей – она много и допоздна работала и уследить за ним не могла. Но каждые выходные его навещала или забирала к себе.
Я так и не привык к пасынку – я его не растил. Когда он находился у нас – точнее, у себя, в квартире его матери, – то сидел у себя в комнате или болтался во дворе.
Было видно, что нами он тяготится и стремится поскорее вернуться к бабке и деду.
Ко мне, как мне казалось, он был вполне индифферентен – в разговоры не вступал, вопросов не задавал, а на мои отвечал коротко и скупо. Но и я не стремился к близости – меня это вполне устраивало.
Правда, однажды у жены проскочило:
– Тебе были выгодны такие отношения с Геркой – меньше спросу и меньше ответственности!
Она была права, но я сделал вид, что немного обиделся.
Хорошим отчимом я не стал. Впрочем, и отцом я был никудышным. Да и вообще я понял, что отнюдь не чадолюбив. Что уж поделать. Наверное, я был слишком погружен в себя, слишком много думал о неудавшейся карьере и нескладной судьбе.
Я был эгоистом и никогда этого не скрывал.
Опять растекаюсь мыслью по древу! Это моя, так сказать, профессиональная и человеческая особенность. За это меня ругает редактор, моя дорогая Лариса.
Все, все! Все. Я начинаю работать!
Марина
Я очнулась и поняла, что жизнь проходит мимо, в один день. А вот отношения мои с Никой довольно быстро испортились. Я слишком рьяно и горячо включилась в воспитательный процесс. А ей, давно отвыкшей от контроля, это, естественно, не понравилось.
Я без конца цеплялась к ней, зудила и «приматывалась», по ее словам. Я так ретиво взялась за дело, что у нас начались кошмарные и постыдные скандалы. Она отвыкла от моего участия в своей жизни и воспринимала все это критически: «А, наша мама очнулась! Вспомнила о своих обязанностях!»
Я контролировала ее учебу – требовала тетради и дневник. Ника саркастически и театрально смеялась: «Наивная мама! При чем тут дневник? Это уже анахронизм, если ты не в курсе!»
Конечно, она исхитрялась иметь несколько дневников – для учителей и для меня.
Я грозила ей, что пойду в школу, – на мои угрозы она отвечала, что уйдет из дома.
Я испугалась. Цель была достигнута. В школу я не пошла, но скандалы по-прежнему затевала и сдерживать себя не могла. Это было моей ошибкой. Я словно попрекала дочь ее же несчастьем – неудачной первой любовью, ее легкомыслием и, как следствие – абортом.
К тому же мне очень не нравилась ее новая подружка Тихонова – Тишка, как называла ее дочь.
Тишка ушла из школы после восьмого класса и работала в какой-то гостинице на окраине города. Кем? Говорила, что горничной. А кем бы еще ее взяли с восемью классами образования? А что было на самом деле, не знаю. Но деньжата у Тишки водились.
Тишка была девицей перезрелой и наглой – нахально, без стеснения, курила у нас на балконе, бесцеремонно лазила по кастрюлям и в холодильник, оставляла пепельницы, полные окурков, и, кажется, чувствовала себя полноценной хозяйкой. На мою глупую дочь она действовала как удав на кролика – эта дурочка, открыв рот, с восторгом слушала басовитый голос новой подруги.
Тишка была красивой девицей, если бы не чрезмерная, не по возрасту полнота и слишком агрессивный макияж.
Я боялась всего – предполагая, какие у этой Тишки друзья, например. Моя бурная фантазия представляла, как она продает мою дочь заезжим кавказцам или чернокожим. Я залезала в Никины карманы и сумки – не завелись ли там деньги? Нет, слава богу. Хотя она могла бы их где-то прятать – например, у той же Тишки. Запросто.
Семейка у этой Тишки была тоже, прямо скажем, не фонтан – пьющий папаша и мамаша торгашка. Мамаша стояла на улице «на лотке», торговала яйцами. Я рассматривала ее из-за угла – ужасная, страшная бабища. Красное отекшее лицо, ополовиненный от зубов рот, бордовые, мужские ручищи. А как она цеплялась с покупателями!
Хотелось швырнуть ей яйца в лицо. Правда, разве это – лицо?
Тишка часто оставалась у нас ночевать. Мне, конечно, это было неприятно. На кухне стояли чашки от чая и кофе с красными ободками от помады, нестерпимо воняло окурками и резкими, убойными духами непрошеной гостьи. Бр-р-р-р!
Я оттирала чашки содой и ошпаривала кипятком. Мне казалось, что от этой Тишки можно запросто подхватить что-нибудь венерическое.
На мои вопросы и крики: «А что у вас общего? Ты же девочка из приличной семьи! Папа был бы в ужасе, увидев такую твою подругу!» – Ника демонически усмехалась и отвечала: «Лучше такая подруга, чем никакой!»
И это была чистая правда – подруг у меня давно не было. Те, кто был, давно исчезли. Вот удовольствие – общаться с вечно страдающей женщиной! А мне ни с кем не хотелось обсуждать свою жизнь, ныть и жаловаться на злодейку-судьбу. А на чем она зиждется, женская дружба? На откровениях, искренности и доверии, так ведь? Откровенничать мне не хотелось. И доверять тоже. Да и что доверять? Секретов у меня не было, личной жизни тоже. Вспоминать мою жизнь с Сережей? Нет уж, увольте! Это мое и только мое. И прошлое счастье только мое. И мое необъятное горе. У меня нет любовников. Я не интересуюсь тряпками, не люблю сплетни. Мне не нужны утешения в виде разговоров. Мне совершенно неинтересны чужие проблемы – хватает своих. Я не хочу обсуждать свою дочь – потому что мне стыдно. У меня нет свекрови – она давно умерла, царствие ей небесное! – не хоронила своего сына, бог ее пожалел. На чем будет держаться эта дружба? Не понимаю.
И вообще – от пылкой дружбы, что была в юности, у меня осталось странное послевкусие – некрасивая тогда получилась история. До сих пор больно… зарубка на сердце осталась – как ни крути.
Свою подругу Аню я обожала – умная, смелая, ловкая. Аня много читала и в отличие от меня имела на все свое мнение. Я восхищалась ею и немного завидовала – ах, мне бы так! Мне бы чуть-чуть Аниной смелости и красоты!
Я смотрела ей в рот, повторяла ее жесты, стриглась «под Аню», читала то, что читала она. И сама не замечала, как говорю с ее интонацией.
Кончилось все довольно печально – Аня, моя верная и единственная подруга, которой я так восторгалась, украла у моей мамы кольцо и деньги. Да, именно так. Мама копила, откладывала деньги на летний отпуск, отказывала себе во всем, мечтая вывезти меня на море. Деньги были в маминой комнате в старой деревянной шкатулке с репродукцией картины Шишкина «Рожь». Там же лежали и мамины «драгоценности». Ну это вообще громко сказано: обручальное колечко, которое она сняла с руки после ухода отца, пара золотых недорогих сережек, бабушкины золотые часики без браслета – конечно же, неработающие, просто память. И единственная более-менее ценная вещь – золотое кольцо с аметистом. Для нас с мамой это было богатством.
Мама, хватившись колечка и денег, стала спрашивать:
– Марина! Кто у нас был?
– Никого, – спокойно ответила я. – Никого мам, честное слово! Только Анька, и все!
– Анька? – повторила задумчиво мама – Анька, и все?
Я беспечно кивнула:
– Ага!
Мама тяжело опустилась на диван и проговорила мертвым голосом:
– Марина! Море отменяется. – И заплакала. Заревела и я. Я кричала, что моя Анька сделать этого не могла!
– Украсть наши деньги? Мама, ты что! Как ты можешь такое подумать? Анька – мой самый близкий друг и честнейший, порядочный человек!
– Тогда кто? Ты? – все тем же мертвым голосом спросила мама.
Помню, что я на маму сильно обиделась – сама небось куда-то засунула и очернила человека!
Мама перерыла весь дом. Ничего. Назавтра дом перерыла я. Все то же.
Потом я принялась вспоминать. Я готовила на кухне чай, а Анька оставалась одна в комнате. Минут десять, не больше. А разве для того, чтобы украсть кольцо и деньги, нужно больше?
И до меня наконец дошло. Как же я плакала, господи! Как же убивалась! Не из-за денег и не из-за кольца, о котором я, кстати, мечтала! Я не думала о море, которое мне снилось несколько лет. Я думала о предательстве.
Я доверяла Аньке самые сокровенные мысли и секреты. Я рассказала ей про уход отца, а это было самым болезненным. Анька охала и утешала меня.
Ну а мама вообще замолчала – тяжело переживая потерю денег и утрату нашей мечты о море.
Это случилось в пятницу после школы. Обычно на выходные мы созванивались и, конечно, встречались. Ездили в центр, ходили в кино, болтали. В эти выходные Анька не позвонила. Я увидела ее в понедельник, через два дня. Увидев меня, она слегка покраснела и нахмурилась. Я пересела за другую парту. Анька меня ни о чем не спросила. Тогда я окончательно убедилась в справедливости своей страшной догадки. Я еле высидела тот день и после уроков нашла силы к ней подойти.
– Как ты могла? – хриплым голосом спросила я. – Как ты могла?
Анька мотнула головой:
– Ты о чем, Мань? Не пойму!
Но я видела, как бегают ее глаза.
Я смотрела ей в лицо и понимала, что я ее ненавижу. Ненавижу так сильно, как не ненавидела еще никогда и никого. Даже отца, когда он нас бросил. Мне хотелось вцепиться в ее наглое и красивое лицо, исцарапать его, исхлестать. Кричать на всю улицу, чтобы все знали, что она воровка и предательница!
Но я ничего этого не сделала. Не смогла. Не смогла даже дать ей пощечину, плюнуть в ее подлые глаза. Не смогла крикнуть – горло словно перетянули тугим жгутом.
Я ничего не смогла! Я половая тряпка! Насекомое. Пыль под ногами.
А она усмехнулась и покрутила пальцем у виска – дескать, лечиться надо! И с наглой ухмылкой пошла прочь. А я осталась стоять на месте – оплеванная и униженная.
Через три месяца Анька с родителями переехали в другой район, в новую квартиру. Я слышала, как Анька хвастается новыми хоромами и приглашает девчонок в гости. Кстати! Гуляла она теперь в новых джинсах! Настоящих, синих, шикарных «Вранглерах».
Слава богу, она укатила, и мне стало легче дышать.
Все, все! Не буду. Больше не буду! До сих пор больно.
Моя карьера концертмейстера закончилась – я сломала два пальца на правой руке. Поскользнулась на мокрой ступеньке в подъезде. Я потеряла любимую работу. Я аккомпанировала певцу – немолодому баритону и хорошему дядьке. Пик его короткой известности давно прошел, и мой шеф колесил по маленьким городишкам и поселкам. Ну и я вместе с ним. Я относилась к нему как к отцу, немного жалея его. Он был женат на молодой женщине, которая, как мне казалось, была страшно рада его гастролям. В гостинице я стирала ему рубашки и отпаривала брюки – мне было неловко, что он неопрятно выглядит на сцене. Кажется, и он сам все понимал про свою молодую жену – однажды я застала его плачущим в номере.
Денег мы зарабатывали немного. Меня пару раз пытались переманить – я считалась неплохим аккомпаниатором. Но я не бросала его – жалела. После травмы у меня был один путь – музыкальная школа. Что ж, думала я. Так – значит, так. В конце концов, командировки семье не на пользу. И я довольно легко с этим смирилась, разве что поплакала пару ночей.
Кстати, Сережа тогда смеялся:
– Нашла от чего плакать, Маруся! Главное, что мы вместе! А все остальное – фигня. Просто будем видеться чаще – что, разве плохо?
В музыкальной школе я, конечно, общалась с коллегами. Почему-то мне было приятнее общаться c женщинами в возрасте. Они не хвастались мужиками, а были озабочены детьми, внуками, болячками и говорили об учениках. Молодым все это было до фонаря.
Коллеги не лезли мне в душу, понимая, как мне тяжело – у них уже был жизненный опыт. Конечно, они жалели меня – такая молодая, а уже вдова. Такая молодая, а профессию потеряла!
Нежнее всех я относилась к Тамаре Павловне – завучу нашей школы. Ей было хорошо под пятьдесят, и она все время боялась, что ее «уйдут» на пенсию. А на руках у нее был престарелый лежачий отец и взрослая нездоровая дочь. Об этом все знали.
Мы вместе ходили обедать и вместе пили кофе в комнате отдыха.
Тамара Павловна все еще оставалась красавицей – невысокая, стройная, с сохранившейся талией и хорошими ногами. У нее было гладкое лицо и прекрасные зубы. В молодости она занималась гимнастикой и фигурным катанием. Первым – почти профессионально, а вторым – по зову души.
Она была сдержанной, невозмутимой и остроумной. Говорила мало, но мысли свои выражала четко, смело и с большим юмором. Как говорится – не в бровь, а в глаз. Она ни разу не задала мне ни одного вопроса про Сережу, о котором, конечно, все знали. Но она не была любопытной. Она спрашивала про Нику, интересовалась здоровьем мамы. Говорили мы про кино, про книги, про театры.
Тамара Павловна была киноманкой и театралкой. Прекрасно знала русскую классику и современную живопись. Это она открыла мне Муху и Климта – до нее я про них и не знала.
Мы никогда не сплетничали про коллег, не обсуждали начальство, не жаловались на родню и на болезни. Мы тихо и приятно дружили.
Однажды Тамара моя заболела, и я поехала ее навещать. Вызвалась сама, не предупредив больную. И это было ужасной ошибкой. Я долго не могла себе этого простить. Дверь мне открыла девушка – если можно это назвать девушкой. Это была огромная, горообразная туша с лицом олигофрена – отечным, раздутым, бессмысленным. Крохотные, абсолютно пустые, без каких-либо эмоций глазки, крошечный, словно с лица младенца, нос. Полное отсутствие бровей и ресниц и огромный, мокрый, бесформенный, полуоткрытый рот. Волос на голове тоже почти не было – розовая кожа просвечивала сквозь утиный пух. Все это довершали огромные, раздутые ноги в шерстяных носках и байковый серый больничный халат. И это была дочь моей прекрасной, красивой, стройной Тамары.
Девушка смотрела на меня в упор – растерянно и с испугом.
– Кто там, Леночка? – услышала я голос Тамары. – Доктор?
Леночка замычала и довольно проворно юркнула в комнату.
– Кто здесь? – взволнованно выкрикнула встревоженная Тамара – Кто?
Мне бы рвануть вниз по лестнице, убежать, утечь, как меня не было. И никто бы не узнал, что это приходила я.
А я… Я не сообразила.
Я вяло откликнулась:
– Я. Это Марина, Тамара Петровна! К вам, навестить…
Молчание. А потом чуть хрипловатый, со вздохом голос:
– Марина? Ну проходите.
И я прошла. Я старалась не смотреть на Тамару. А она уже взяла себя в руки.
– Да, Мариночка. Такое вот горе. Такая, выходит, судьба. У меня и у Леночки – что тут поделать?
Я молчала. Мое горе показалось мне… Нет, не мелким и не незначительным, конечно же нет! Мое горе было бездонно, черно и вечно. И все-таки я подумала о своей Нике – вполне симпатичной, здоровой и нормальной Нике. Перед глазами пролетели наши скандалы и ссоры. Господи! О чем это я? Какие скандалы? Какая учеба и тройки? Какая там Тишка, предмет моих недовольств и страданий? Какая же это чушь, какие мелочи! Моя дочка здорова. Все! И дальше нечего обсуждать.
Я выложила на стол апельсины, бананы, конфеты и сок. И тут же сообразила – какая же я идиотка! Нужно было взять курицу, кусок мяса, сыр, колбасу, пачку масла и яйца, Тамара болела давно, недели две – пневмония. Наверняка в доме не было никакой еды.
Я всполошилась и заторопилась в магазин. Тамара меня остановила:
– Не надо, Мариночка! Спасибо, я ничего не ем – только пью чай и теплое молоко, все это приносит соседка. А Леночка всегда ест одно и то же – белый хлеб и варенье. И больше ничего, представляете? Только хлеб и варенье, – с тяжелым вздохом повторила она. – На завтрак батон, на обед и на ужин. Полкило варенья на день. Ах да, еще она любит сгущенку! Но ее невозможно достать. А наши запасы давно истощились. Вот и разнесло мою девочку – ну вы и сами видели. Леночка очень упрямая – это свойство ее болезни. И настаивать ни на чем нельзя – начинаются нервы и слезы. Вот я и смирилась. Куда деваться?
– Это… с рождения? – тихо, не поднимая глаз, спросила я.
– Да, – ответила Тамара. – Муж скрыл от меня свою семейную историю – боялся, что я не стану рожать. Его родная сестра была такой же, как Леночка. Но она жила в специальном доме, вы понимаете. А я свою дочь не отдала. Не смогла. Хотя понимала, что ждет меня впереди. Он, конечно, каялся, чувствовал свою вину. Но через семь лет ушел. Сказал: прости, я не выдержу. Слишком хорошо знаю про это.
Конечно, ему хотелось нормальную семью, здоровых детей. Я его понимаю. Совсем молодой и крепкий мужик. И у него получилось – двое прекрасных детей, двое мальчишек. И слава богу – здоровы! Он счастлив.
– А вы? – вырвалось у меня.
– Я? Что говорить про меня? Вы сами все видели. Значит, такая судьба.
Я молчала. Ну почему? Почему эта чудесная, эта прекрасная женщина и – такая судьба? Она вполне могла выйти снова замуж, родить здорового ребенка и быть счастливой! Разве нет? А Леночка жила бы спокойно в специальном интернате. Вряд ли она что-то понимает про эту жизнь. Но я, разумеется, промолчала. Это чужая жизнь и чужая судьба. А я лишь случайно, по неосторожности, коснулась чужой беды, чужого горя.
– А дома может одна оставаться? Это не страшно?
Тамара покачала головой.
– Конечно же нет! Приходит няня, хорошая женщина. Готовит ей чай, приносит свежий хлеб – каждый день свежий. Вчерашний она есть не будет. Няня, конечно, недешево, но деваться некуда. По крайней мере, я могу работать и зарабатывать хоть какие-то деньги. Нет, ее отец помогает! Это подспорье. Алименты давно закончились – Леночке уже двадцать три, но ее отец исправно нам помогает. К тому же ее пенсия по инвалидности. Но это, конечно, копейки. Газ я перекрываю, окна на специальных запорах.
Мы помолчали.
– Слава богу, три месяца назад ушел мой отец.
Я вздрогнула.
– Слава богу?
– Да, да! Не удивляйтесь, Марина! Именно так – слава богу! Последние восемь лет жизнь его была невыносимой – он не вставал. Отмучился, как говорится. Ну и я вместе с ним – признаюсь, это было ужасно.
– Но вы же могли выйти замуж, такая красавица!
– Замуж? – рассмеялась она. – Да господь с вами, Марина! Куда я с таким багажом? Кто это выдержит, а? Если родной отец… Зря вы пришли. Вот, расстроились, да? И зачем вам это, правда?
– О чем вы? – возразила я.
– Да, зря. Упрямая вы! Но понимаю, хотели как лучше. И значит, спасибо! А то, что вы стали свидетелем…
– Не волнуйтесь! – перебила ее я. – Никто не узнает! Честное слово! Вы же знаете – я умею молчать!
– Ну и спасибо! – Тамара накрыла мою руку своей. – Езжайте домой! И не думайте о нас. У всех свои беды и своя судьба, верно? Только вот что, Марина, – она замолчала, подбирая слова, – вы должны помнить о том, что жизнь – увы! – коротка! Вы молоды, да… Но все так быстро проходит. Словом, вы меня поняли! Не отказывайтесь от своего человека – ни в коем случае не отказывайтесь!
– А как понять, что он мой? Он уже был у меня, этот мой.
– Да почувствуете! Уверяю вас – сразу поймете! Родство душ – это же сразу понятно! А про то, что был… Вы слишком молоды, чтобы поставить крест на себе. Запомните это! И еще – нельзя жить в постоянном горе. Нельзя! Нельзя уничтожать себя, изводить. Лучше и легче никому от вашей тоски не будет – и вам в первую очередь. Отпустите свое горе, Марина! И это не будет предательством, уверяю вас!
Я шла медленно и повторяла: «Своя судьба. Да. У всех своя судьба. Горе и счастье. Печали и радости. Значит, так надо».
И еще я думала о достоинстве. Человеческом достоинстве. О Тамаре. Ни слова нытья. Ни минуты жалоб. Ни одной слезы на людях. Хотя, наверное, и слез у нее не осталось – все давно выплакано. Бедная, бедная, бедная моя дорогая подруга! А я несносная и бестактная дура. Ну почему я не сбежала?
Только после этого визита я кое-что поняла и ослабила хватку в отношениях с Никой. Стало лучше. То есть польза от того разговора с Тамарой была. Но еще долго я переживала из-за своей бестактности. Это был урок – быть сильной, терпеливой, терпимой. И еще – никогда, ни при каких условиях не забывать, для чего тебе дана твоя жизнь, единственная и неповторимая.
Которая больше никогда не повторится.
С этого ужасного дня мне стало легче жить. Чужие горести не утешают, но немного примиряют с собственной жизнью.
Я впервые обратила на себя внимание и ужаснулась. Я стала похожа на зачуханную, несчастную пенсионерку. Знаете, из тех, что бредут, опустив голову, и что-то бормочут себе под нос. Глаза у них пустые, равнодушные, застывшие. А если вдруг они слегка оживают, то на мир смотрят с растерянностью или, что хуже, с ненавистью. Они вне социума, вне жизни. Вне всего. Их не интересуют даже собственные дети, они не желают вылезать из своей скорлупы, потому что банально боятся.
Я такая же. Я живу в своем мирке, в своей ракушке, и ничего не хочу видеть и знать. Мне не то чтобы комфортно в нем – нет. О комфорте речь не идет. Мне в нем не так страшно. Я привыкла к нему, даже пригрелась и обустроилась. А выглянуть из своей скорлупы мне страшно. Просто страшно, и все. Я боюсь всего – людей, машин, музыки, разговоров, новостей и событий. Не дай бог – новых знакомств! Перемен и перемены участи – вот этого я боюсь больше всего.
Только дома мне становится легче, меня чуть отпускает, потому что здесь, дома, меня никто не трогает, никто ни о чем не просит и не докучает. Я коротко отзваниваюсь маме – едва сброшу туфли и надену халат. Старый халат, в заплатках и с дыркой на рукаве. Он большой и теплый – советская байка. Когда-то он был голубым, сейчас почти серый. Серый и выцветший, как моя жизнь. Букетики мелких цветочков давно стерлись от многочисленных стирок и расплылись – их почти не заметно. Но мне в нем тепло и уютно – он, этот старый и страшный халат, моя домашняя скорлупа. Даже здесь, дома, мне нужна скорлупа. А вот тапочки у меня новые – старые выкинула Ника, сказала, что они оскорбляют ее эстетический вкус и портят интерьер квартиры. Господи, какой там интерьер! Просто смешно. Интерьера давно нет – есть только стены. Но они меня скрывают, защищают и оберегают. А на прочую красоту мне наплевать. Когда был Сережа, мы мечтали сделать ремонт, купить новую мебель, поменять холодильник. Я не смотрю по сторонам. А зачем? Это слезы. Разползшиеся швы на обоях, плеши на линолеуме, серый потолок, длинная узкая прорезь от ножа на кухонной клеенке. Да уж, печально. Но много лет меня все это не волновало. Или так – я не видела всего этого, не замечала.
А в этот день увидела и ужаснулась. Боже мой, как мы живем! Бедная Ника! Я поняла, почему моя дочь стремилась сбежать из дома – такая тоска и такая разруха!
Но старый и любимый халат в тот вечер я все же не выкинула – не поднялась рука.
План действий мне был теперь понятен и ясен – слава богу, впереди были длинные выходные. Уж что-нибудь я успею. Я открыла холодильник. На меня пахнуло холодом и запахом фреона. Не еды, а именно фреона. Холодильник был пуст, если не считать пачки подсохшего сыра и сморщенных огурцов. В морозилке болтались пачка пельменей и пакет с картофелем фри.
И снова на меня навалилась тоска. Бедная моя девочка, несчастный мой ребенок… Господи, я ужасная мать!
Меня зазнобило, и я поставила чайник. Потом набрала маму. В последнее время наш разговор был коротким – стенографический отчет, а не разговор: «Я дома, я на работе, у меня все нормально, Ники пока еще нет. Где? Да гуляет, наверное. Откуда я знаю? Какая я мать? А я и не спорю – плохая».
Я начинала раздражаться, мама – обижаться, и разговор становился до предела нервным. В итоге я или мама бросали трубку. Сейчас я дала себе установку, что буду сдерживаться изо всех своих слабых сил. Бедная мама! А ей каково было смотреть на весь этот ужас? Я была ласкова и терпелива. Старалась отвечать подробнее. Мама немного растерялась. В конце разговора хлюпнула носом или мне показалось?
Выпив чаю, я взяла лист бумаги, уселась на диван и стала составлять план ближайших действий.
Уборка, пусть и генеральная, ничего не решала, это я понимала. Нужен был ремонт – пусть косметический, щадящий: обои, потолки, пол. Черт с ними, с дверями, со старой мебелью и плитой. Черт со старыми шторами и раковиной – это все будет потом, когда я накоплю немного денег и наберусь сил. И тут я вспомнила про себя! Я вскочила, почти подбежала к зеркалу и – разревелась. Старуха. Я просто старуха! Мне противно мое отражение.
Потом я открыла свой шкаф. Три платья. И все старье. Такие же блузки, свитера и юбки. Что удивляться? Я не обновляла свой гардероб несколько лет. За все эти годы я не купила себе ничего, кроме нескольких пар колгот. Все эти годы я закручивала старушечий пучок на голове, а раньше у меня была модная стрижка. Потом мне стало не до стрижек, волосы отрастали, и я закрутила их на макушке – так проще и, конечно, дешевле. Гладкие волосы мне не шли – но мне было на это решительно наплевать. К тому же появилась и седина. В ванной не было кремов и духов – все давно закончилось или испортилось. Остатки шампуня и кусок мыла – вот и вся моя косметика на сегодняшний день.
Я глянула на свои руки – длинных ногтей я никогда не носила, музыканту, тем более пианисту, не положено. Но раньше я за ногтями следила – маникюр, светлый лак. А теперь…
Я встряхнула руками, словно хотела сбросить их уродство.
Кожа… Бледная, серая, измученная кожа. А ведь когда-то у меня была прекрасная кожа, тонкая, нежная, с еле заметным румянцем и редкими, как говорил Сережа, забавными веснушками. Многие мне завидовали.
Морщины под глазами. Морщины у рта – «скобки печали».
Неужели это невозможно исправить? Я почувствовала, как холодею от страха. Значит, меня это волнует? Меня волнует моя кожа, мои руки, мои волосы? Значит, я живая? Или это не значит ничего? Так, сиюминутное настроение? А завтра мне будет опять на себя наплевать?
Я плюхнулась на диван и подумала: «Как же было хорошо, когда меня все это не волновало! Как хорошо, а главное – дешево! А тут… Даже представить страшно! Ремонт. Парикмахерская. Магазин». Как же я испугалась!
«Я не потяну всего этого. Просто не потяну, и все. Тогда – зачем? Может быть, снова в старый халат, на облезлый диван?»
Нет. Я поняла – я больше так не хочу. И не просто не хочу – не могу!
Я хочу по-другому!
Наревевшись вволю, я отправилась спать. Утро вечера мудренее. Именно завтра я начну новую жизнь.
Сквозь сон я услышала, как открывается дверь и в квартиру заходит Ника.
«Слава богу! – подумала я. – Теперь точно спать! Потому что мне теперь очень нужны силы. И еще – не дай бог, если наутро, когда я проснусь, все исчезнет – мои планы, мои дерзкие замыслы. Мое вдохновение».
Все, с нытьем покончено. И с прошлой Мариной тоже. Я вспомнила, как на меня накатило чувство брезгливости, когда я разглядела себя в зеркало.
Я намеренно губила себя, уничтожала, топтала. К своей единственной и драгоценной жизни я относилась с пренебрежением, словно проживала черновик, а набело еще успею! А не успею, так и слава богу, не очень и хочется.
Мне стало страшно. В те минуты я думала, что жизнь давно должна была на меня рассердиться, разобидеться, запрезирать и даже возненавидеть. Я совсем не ценила ее, она откровенно меня тяготила.
Утром, открыв глаза, я прислушалась к своим ощущениям – не дай бог, чтобы я оставалась прежней. Это было бы страшнее всего. Больше так жить я не хотела. Но, слава богу, впервые я проснулась бодрой, хоть и страшно перепуганной предстоящими действиями и грядущими переменами. И все же я была готова к борьбе за саму себя. А это, знаете ли, самое сложное.
Ника сидела на кухне и пила чай. На доске лежал кусок подсохшего хлеба и такой же кусок старого сыра, похожего на отломанный кусочек пластмассы.
Я брезгливо взяла его двумя пальцами и, сморщив нос, выкинула его в помойное ведро.
– Мам! – От возмущения и удивления моя дочь поперхнулась. – Ты что, совсем ку-ку?
– Почему? – весело спросила я, отряхивая пальцы. – В каком смысле, Никушка?
От моего веселого тона, от моей улыбки и слова «Никушка» – давно позабытого, разумеется, – дочь еще больше округлила глаза.
– Ты лишила меня завтрака! – возмущенно выкрикнула она. – Мам!
– Ерунда – ответила я. – Ну какой это завтрак? Кусок линолеума, а не сыр! Туда ему и место! А завтрак я сейчас тебе сделаю.
Я достала из шкафа пакет с остатками муки, из холодильника – старый кефир и яйцо, нашлась и горсточка засохшего изюма – и принялась за оладьи. Ника смотрела на меня, не отводя глаз. Она ничего не говорила, но в глазах ее явно читался испуг.
По кухне поплыл давно забытый запах свежего теста и только что смолотого кофе – запах жизни. Мы сидели напротив друг друга, пили кофе, макали горячие оладьи в густое засахаренное земляничное варенье – спасибо маме – и молчали. Дочь рассматривала меня исподлобья, но с интересом.
Наконец она решилась:
– Мам, ты в порядке?
Я громко выдохнула:
– Теперь да, Ник! Я в этом уверена. Ну почти, – нерешительно добавила я.
Дочка подошла ко мне и обняла меня за шею. И в эту минуту я точно почувствовала, что я точно жива.
На ремонт мы взяли кредит. Совсем небольшой, но иначе не справиться. Кое-что подкинула мама – у пенсионеров всегда есть заначки. Конечно, все было очень скромно и очень расчетливо – обои, клей, краски и прочее мы покупали на строительных рынках, дотошно выбирая, где подешевле.
С рабочими нам помогли родители моей ученицы. Из Брянска приехала их родня – муж и жена. За две недели сделали все, о чем мы договаривались. Эти дни мы жили у мамы.
Я словно только проснулась, очнулась от зимней спячки и с удивлением разглядывала окружающий мир. В нем было и кое-что новое – новые магазины, новая мода, новые книги и новые фильмы.
Я принялась жадно читать, проглатывая по ночам книгу за книгой.
Тогда мне попалась первая книга Максима Ковалева. Какое же это было открытие! Какое же счастье!
Конечно же, я постриглась, покрасила волосы и, кажется, помолодела. Я стала красить глаза и ногти – по счастью, у моей дочери было навалом косметики. Мне хотелось яркое платье в крупных цветах, босоножки на каблуке, сумку с блестящим замком. Сладких цветочных духов. Крупных серег и браслетов.
Мне хотелось мяса – большой, толстый кусок хорошего мяса, истекающий соком.
Мне ужасно хотелось пива – крепкого, темного, горького.
Мне очень хотелось сладкого – жирного торта с разноцветным кремом, высоких пирожных со сложным декором.
Маринованных огурцов, шампанского, ванильного мороженого.
Мне хотелось! И это было огромным счастьем. Жизнь победила. Победила меня.
Конечно, на все не хватало. Но Ника, чуть пришедшая в себя от радости за меня, тут же устроилась на работу – по выходным, официанткой в кафе. Ну и я набрала учеников. Теперь мой день был расписан почти по минутам. Еще мы купили в кредит новую кухню и диван для Ники.
Я приходила домой, плюхалась в кресло и оглядывала квартиру. Чувствовала, как на моем лице расплывается глупая и счастливая улыбка.
Свой обожаемый старый халат я все-таки выкинула, если честно, после долгих раздумий. Этот несчастный халат олицетворял мою старую жизнь – серую, заштопанную, пыльную и унылую.
И еще я снова стала готовить, да с таким удовольствием, как, кажется, не делала это раньше. Даже для своего Сережи.
По выходным я пекла пироги – с капустой, картошкой, грибами и луком. Пекла и торты – моя Ника большая сластена. «Наполеон», «рыжик», «медовик» и «сметанник». Кажется, наша квартира пропиталась запахом ванили, лимонной цедры и медовых коржей.
По одежде, которая мне стала чуть тесна, да и по отражению я видела, что поправилась – налились и округлились бедра и грудь, порозовели и наполнились щеки, гладкими стали плечи и руки.
У меня изменилась походка – я стала ходить плавнее, слегка покачиваясь, как груженая лодка, смеялась моя остроумная дочь.
– Спасибо, что не ледокол, – отвечала я.
Ника стала чаще бывать дома. С порога кричала:
– Мам! А что у нас сегодня на вкусненькое? А на основное? А на десерт?
Мы брали диски с новыми фильмами – конечно, это делала Ника – и усаживались перед телевизором. Вместе. Перед нами стояла тарелка с какой-нибудь закуской, пиво или чай, орешки и семечки.
Мы смотрели кино, переговаривались, делились впечатлениями, спорили, соглашались друг с другом или нет, но главное, мы были вместе. И мы были счастливы.
Я нашла в себе силы жить дальше. И моя дочь помогла мне в этом.
Максим
Нина появилась через год после моих бурных загулов, и началась наша семейная жизнь.
Почему я вдруг решил жениться? Да потому, что почувствовал страшное одиночество. Мне надоела бесконечная череда случайных подружек – на ночь, на две или на месяц.
Никого у меня не было. Ни матери, ни отца, ни любимой. Даже близкого друга не было – так, приятели. Петька Васильев, дружок детства, уже год как уехал на Север, заколачивать бабки.
От него пришло пара писем – тяжелой жизнью он, кажется, был доволен. «Да, пашем как негры, – писал Петька, – но и денег здесь можно заработать! Приезжай, Макс! Соберешь на тачку, на прикид, рванем на юга – а там такие девчонки! Гульнем от вольного, а? Напишешь парочку репортажей про нашу веселую жизнь! Пойдет на ура! Здесь, дружище, такие персонажи, такие экспонаты – закачаешься!»
Мне хотелось рвануть к Петьке на Север, но я все откладывал – то одно, то другое. Я понимал, что могу собрать по-настоящему интересный, богатый материал. И это было бы отличным пропуском в хорошую газету или журнал. Но я тянул, думая, что еще успею. А через полгода Петька погиб. Сидел на обочине пьяненький, и на него наехала машина, тяжеленный самосвал с прицепом. Кошмарная смерть – прицеп мотнуло и Петьке снесло башку.
Похоронили его там же, в поселке старателей. И никто на его похороны не приехал – деда давно не было в живых, а Петькины родители давно и тяжело пили, совсем потеряв человеческий облик. А я узнал о его смерти спустя пару месяцев.
Итак, я был одинок.
Наверное, сам виноват. Хотя в чем, господи? В том, что мой слабовольный папаша спился? В том, что мать никогда не любила меня? В том, что сбежал от Даши и не женился на Ирке?
Не знаю.
Нина мне нравилась. У нее был спокойный и добрый нрав и правильный взгляд на вещи. Она была взрослой. По сути своей, по природе, Нина была пуританкой, синим чулком, старой девой, которая неожиданно вышла замуж. Во всем она любила порядок, и в мыслях – в первую очередь. Она была скуповатой на эмоции, скрытной и сдержанной. В ее семье не было принято обсуждать личное – это казалось чем-то неприличным, слишком интимным. Рассудительная и мудрая Нина – это не бесшабашная и беззаботная Ирка. И я совершенно искренне думал, что именно такая женщина мне нужна. В каком-то смысле это был брак по расчету – по моему расчету, конечно. Я рассчитал, что так будет правильно. Ирка, мои постоянные загулы, череда женщин – все это меня утомило, я хотел устроенности, порядка, покоя. Только вот я не подумал, что устроенность и покой – не всегда счастье.
Что Нина будет идеальной женой, я понял в ту же минуту, когда попал к ней домой. Там царил идеальный порядок, пахло чистотой, уютом, едой. Было видно, что здесь живет здоровая, нормальная, даже патриархальная, семья, где главу семьи все уважают и немного побаиваются, где мать – хранительница очага, прекрасная хозяйка и верная подруга.
Где соблюдают семейные традиции, поддерживают семейный уклад – елка на Новый год, кулич и красные яйца на Пасху. Где большая родня вместе справляет дни рождения и другие праздники. Где непременно дети звонят родителям и навещают пожилых родственников. Где всегда помогут друг другу – деньгами, советом и делом. Где все встают стеной, если пришла беда. Где, наконец, в августе варят варенье, а осенью квасят капусту.
Мне нравилась их квартира на Власова – маленькая, но уютная, теплая. На стенах фотографии родных, в вазах – цветы. В чайнике – свежая заварка, на столе, под рушничком – аппетитные пирожки.
Меня это каждый раз поражало и радовало – мне казалось, что я наконец обрел семью.
Моя многомудрая теща учила дочь всем тем премудростям, которые знала сама. Даже в ранней молодости Нина, моя будущая жена, прекрасно готовила, отлично вязала и шила, умела планировать бюджет и грамотно экономить. Это в семье считалось совсем не зазорным.
«Нина будет моей женой! – с радостью думал я. – Как же мне повезло! Как я все правильно сделал. Нина – человек для жизни, надежный, уверенный, правильный. А ее семья – это подарок. Компенсация за мое одиночество».
Родители Нины приняли меня как родного сына. Конечно, Нина рассказала им про мою жизнь. Сначала меня пожалели, а потом полюбили. Ну или готовы были любить. Правда, через несколько лет, когда родилась Наташка, меня просто терпели. Как мужа дочери и как отца своей внучки. Никчемного мужа и никчемного отца. Никчемного кормильца и неудавшегося литератора. Помню, как теща шептала дочке:
– Ниночка! А что он там пишет? Книгу? Господи, а зачем?
Тесть намекал про вторую работу, раз на первой платят копейки! Он считал, что это нормально – пахать во благо семьи. «Мужик должен кормить семью» – его любимая присказка. Он искренне удивлялся, что я торчу дома и сижу за пишущей машинкой.
– Чего это он? – недоуменно спрашивал он у дочери.
Что они обо мне думали?
Их дочь я не ценил и не жалел. К больному ребенку был равнодушен и даже брезглив. Денег не зарабатывал и не старался.
Нахлебник и бездельник, к тому же любитель поныть, позанудствовать, поразмышлять о несовершенстве жизни. Иногда мы сцеплялись с тестем по поводу власти – он, конечно, стоял за нее, а я пытался ему объяснить, как может быть по-другому. Споры у нас были жаркие, женщины нас разнимали. Как-то теща упрекнула меня:
– Ты бы помолчал, Максим! Отец ведь психует, а тебе нравится!
Я принялся все отрицать, но она была права – мне нравилось дразнить и подзуживать тестя. Конечно, потом они меня почти ненавидели. Получалось, что эти радушные и хорошие люди встретили меня с открытым сердцем. А оказалось, что я мелкий, никчемный подлец. И уж конечно, они не могли простить мне Наташу.
Последние годы с Ниной мы жили ужасно. Унизительно, в сплошных скандалах и претензиях, которые никогда не кончались.
Когда дочке исполнилось два года, мы поняли, что девочка наша больна. Это была странная и довольно редкая болезнь, которая, увы, не лечилась. Мы мотались по неврологам, ортопедам, хирургам. Обошли всех светил и просто хороших врачей. Ездили к бабке на Украину – во что не поверят несчастные родители, когда разводят руками врачи? Дочка лежала год в гипсе. На короткое время гипс снимали, и мы возили ее в коляске. Это было странное зрелище – большая, крупная, даже дебелая, девочка сидит в детской коляске. Я страшно стеснялся ее. Да, очень стеснялся. Я видел здоровых и шумных детей, играющих в мяч или в салки, ковыряющихся в песочнице, прыгающих в «классики». И сердце мое рвалось от тоски. Я смотрел на дочь и ловил себя на стыдной мысли, что мне неловко от того, что у меня родился такой ребенок. Я понимал, что я не люблю ее. Это было ужасно.
Я называл себя последними словами, презирал, ненавидел, взывал к совести. Но ничего поделать не мог. Я так и не смог ее полюбить. Жалеть – да. А вот любить не получалось.
Я был молодым, и мне хотелось свободы. А больной ребенок сковывал по рукам и ногам. В доме говорили только о болезни Наташи, больше тем не было. А я жаждал свободы! Какой ценой? Да не важно, я об этом не думал.
