Голуби над куполами бесплатное чтение
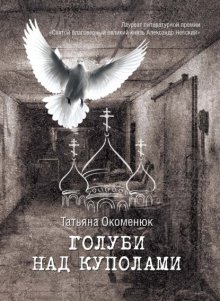
© Перископ-Волга, 2022
Глава 1
В каменном мешке
«Один очухался!» – услышал Пашка рядом хриплый надтреснутый голос. «Господь милостив! – прошамкал еще кто-то из кромешного мрака. – На все его воля».
С трудом разлепив глаза, мужчина смутно различил очертания трех склонившихся над ним фигур. «Глюки! – прошептал он себе под нос. – И ведь не пил же вчера ни капли, а башка гудит, как церковный колокол».
Павел осторожно приподнялся на локте – в нос ударил тошнотворный запах. Букет состоял из мочи, немытых тел, испорченных продуктов и еще чего-то такого, что он не смог идентифицировать. Голова закружилась, к горлу подступили рвотные спазмы, и его вытошнило прямо на бетонный пол.
– Сотрясение мозга, – без эмоций констатировал Хриплый. – Вон и кровь у виска запеклась. Сопротивлялся небось.
– Владик, дружочек, принеси влажную тряпку, – вздохнул Шепелявый.
Отделившаяся от серой стены фигура послушно прошаркала в дальний угол. Пашка прищурился. Склад, что ли? А, может, подвал? Да точно подвал: ни окон, ни дверей – сплошной бетонный мешок, опоясанный по периметру ржавыми булькающими трубами. Бурые стены – в унылых подтеках и черной плесени. Под потолком – пыльные, одетые в «намордники» лампочки. Посреди комнаты – длинный деревянный стол с низкими скамьями без спинки, какие обычно ставят на деревенских свадьбах. Рядом еще один, поменьше. На нем – мини-печь с двумя электроконфорками, большая разделочная доска, электрочайник, металлическая посуда.
К стенам по-сиротски жались четыре пары двухэтажных нар. Если бы на железном каркасе крепились панцирные сетки, их можно было бы назвать двухъярусными кроватями. Но сеток не было. Их заменял деревянный настил, который в местах заключения именуют палубой. Постельного белья на нарах не было. Подушек с одеялами тоже не наблюдалось. На грязных истрепанных матрасах валялись лишь потасканные спальные мешки.
Весь пол помещения был уставлен картонными и дощатыми ящиками, металлическими бочками и чем-то набитыми мешками из полипропилена.
– Где я? – простонал мужчина.
– В тюрьме, братишка! – изобразил пальцами решетку высокий худой тип средних лет, удивительно похожий на киноактера Леонида Филатова.
– Шо, опять? – охнул он, подобно герою мультика про волка и собаку. Хотел еще что-то добавить, но снова потерял сознание.
Очнувшись, Павел обнаружил себя лежащим на нижних нарах поверх сбитого в ком туристического мешка, от которого разило, как от помойки. У стены напротив какие-то странные персонажи пытались привести в чувство мужика в дешевом спортивном костюме и белых китайских кроссовках. Сами персонажи были похожи на ряженых с карнавала.
Один был в черном, до пят, подряснике с длинными узкими рукавами и наглухо застегнутым воротом. На талии – узкий кожаный ремень. На голове – мягкая черная шапочка, не то из бархата, не то из велюра.
«Монах, – определился Пашка с его «статусом», – только изрядно потасканный: сутулый и худой, как жердь. Под глазами – черные провалы. Из-за отсутствия нескольких зубов шепелявит. Жидкие рыжеватые волосенки зализаны назад. Пегая бородка полностью закрывает висящий на груди крест. От настоящего пилигрима не отличишь».
Второй, дядька партизанского вида, вызывал острое сочувствие. Был он каким-то заторможенным и потерянным. Глубоко посаженные водянистые глаза холодно блестели из-под косматых бровей. Волосы были сбиты в кудель. Седая щетина на щеках и подбородке выглядела как плесень. Бледная до синевы кожа, бескровные губы, цыплячья шея с острым кадыком свидетельствовали о крайней степени нездоровья. Обряжен он был в истрепанную байковую рубаху, не имеющую ни пуговиц, ни манжет. Остатки брюк, открывающие худые, в язвах, ноги, пузырились на коленях. На ногах – короткие войлочные сапожки с дырками, через которые наружу торчали грязные кривые пальцы. «Ну, этот, скорее всего, играет Зомби», – решил Павел, переводя взгляд на третьего, похожего на киноактера Филатова.
Вот он-то как раз оставлял простор для воображения. Тонкое лицо, умные глаза, гладкий, без единой морщины, лоб, породистый нос с аристократической горбинкой. Разбавленные сединой волосы схвачены в хвост аптечной резинкой. Мужчина был элегантен, несмотря на застиранную до асфальтовой серости рубашку, потертые брюки и засаленную костюмную жилетку. В комплекте с ними неплохо бы смотрелась изъеденная молью бабочка, но ее почему-то не было. «Разорившийся аристократ? Кто-то из свиты Воланда? Артист погорелого театра? – мучился Пашка в догадках. – Что эта труппа здесь делает? А главное – что делаю здесь я?».
Почесав ушибленное место, содрал запекшиеся корочки. Теплая липкая субстанция обагрила пальцы. Увидев кровь, Павел мгновенно вспомнил события минувшего вечера.
Он направлялся к Лильке на «перепихон». Прыгнул к «ямщику» на переднее сидение – на заднем уже кто-то сидел. Попутчиков не разглядывал – был погружен в раздумья. Через десять минут езды услышал за спиной странный треск, почувствовал острую боль в районе шеи и отключился.
«Вроде, без драки обошлось. Когда ж я по черепушке успел огрести? А, может, меня сюда с высоты сбросили? Дверей-то нигде не наблюдается».
Мужчина поднял голову. Под потолком зияло забранное решеткой круглое отверстие вентиляционной системы. Чуть ниже, через каждые два метра вдоль всей стены торчали мощные ржавые крючья с наброшенной на них ниткой толстого черного кабеля. «Крепко вмонтированы. Можно спокойно вешать свиные туши, а при нужде и самому повеситься», – невесело подумал он.
И тут его взгляд зацепился за примыкающую к стене металлическую платформу, опасно зависшую на девятиметровой высоте. «А если это – пресс, и сатанисты проводят здесь черную мессу? Тогда – тухляк реальный».
Он живо представил себя лежащим на полу, беспомощно взирающим на опускающуюся на него платформу. Вот та достигает цели, со скрежетом размазывает его по бетонному полу, и шнырь Владик привычно бежит за тряпкой, дабы вытереть мокрое место, оставшееся от раздавленной плоти.
Внутри у Павла все похолодело. Он нервно сглотнул и вытер вспотевшие ладони о вонючий спальник. Рука автоматически потянулась к карману. Ни айфона, ни портмоне, ни выкидного ножа, сделанного по спецзаказу на зоне, там не оказалось. Даже котлы с руки смылили, ушлепки. А вот на выигранные им в карты гадальные кубики «чернокнижники» не позарились. С выточенными из слоновой кости астрагалами Пашка никогда не расставался, сверяя с ними все свои решения. «Выберусь ли я из этой передряги?» – мысленно сформулировал он вопрос и подбросил кубики вверх. Выпала комбинация 1/1, что означало: «Судьба молчит».
Спортсмен, тем временем, пришел в себя и жадно пил воду из литровой железной кружки, которую Монах поднес к его губам.
– Спасибо, – пробасил мужчина, утолив жажду.
– Во славу Божию! – ответил тот.
– Где я?
– Можно сказать, что в тюрьме, – кашлянул обладатель простуженного голоса.
– Не прикалывайтесь, мужики! – не поверил тот. – Программа «Розыгрыш», да? Кто меня заказал, Мамаев или Сивокоз? Завтра убью обоих!
– Не волнуйтесь вы так, – погладил его Монах по плечу. – Присаживайтесь к столу. Вон и товарищ ваш уже пришел в себя. Владик, организуй нам чайку и перекусить. Паек новеньких вооон в той коробке, – указал он пальцем в дальний угол.
Павел со Спортсменом недоуменно переглянулись. «Чей товарищ? Какой паек? Кто тут новенький?» – читалось в глазах у обоих. Однако они послушно сели за стол и, молча, уставились на ряженых.
– Сахара нет. Его дают раз в месяц, если план выполняем, – просипел Актер, пододвигая к незнакомцам дымящиеся алюминиевые кружки. – Хорошо, что хлеб есть и консервы. Хоть и несвежие, но вполне съедобные.
Через минуту на столешнице с въевшимися в деревянную поверхность темными пятнами, появились обрезки заветренной колбасы, банки просроченной морской капусты, черствый хлеб и сильно побитые яблоки – по одному на брата. Все молчали. К трапезе никто не приступал.
– Кто в этой блатхате за старшего? – не выдержал напряжения Пашка.
– Я… наверное, – дернул плечом Артист. – Батюшка моложе меня на три года, а Владик… он ничего не помнит. Его по голове били. Вот память и отшибли.
– Ты че, мужик, с дуба екнулся? Мне твои анкетные данные нафиг не вперлись. Я спрашиваю, кто бригадир в вашей мишпухе?
– Бригадир нам без надобности, – замялся Монах, не зная, как приступить к убийственным новостям. – Так случилось, ребята, что попали вы в … рабство. Вас, как и нас в свое время, выкрали кавказские бандиты.
– Ради выкупа? – в один голос воскликнули новенькие.
– Ради бесплатной рабочей силы. Этот подвал – нелегальный производственный цех. Здесь мы пакуем фальшивые лекарства, варим клей, фасуем сыпучие продукты. В данный момент – муку. В прошлом году собирали детские коляски и санки…
– Как в прошлом? – взвился Павел. – Вы хотите сказать, что живете здесь больше года?
Артист отхлебнул из кружки крутого кипятка, слегка подкрашенного в цвет мочи.
– Владик, примерно, три, я – два, батюшка – полтора.
– Япона мать! – процедил сквозь зубы Спортсмен. – Говорила мне бывшая: флеш-игры на ночь до добра не доведут.
«Точно! Это геймеры! – отлегло от души у Пашки. – Насмотрятся в Инете всякой фигни, а потом реконструируют. Идиоты, заглюченные на вирте».
В помещении воцарилась тишина, нарушаемая лишь гудящими, как орган, трубами.
– Бог терпел и нам велел. Нет тех скорбей, которые были бы выше страданий Спасителя, – вернул Монах в реальность расслабившихся мужчин. – Давайте, ребятки, знакомиться. Меня зовут отцом Георгием. Фамилия Русич. Я – монах Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Заочно учусь… учился в Московской Православной Духовной Академии. Во время паломничества в Городну, к святому источнику Николая Чудотворца, мне стало плохо – уж больно солнце в тот день припекало. Какие-то парни вызвались отвезти меня в ближайшую больницу, а доставили сюда…
– А я – Иван Бурак, – театрально поклонился Артист, приложив руку к груди.
– Иван… Дурак? – привстал со своего места Пашка.
– Бу-рак. Свекла по-белорусски. Артист я. Служил в Гродненском областном драматическом. В Москву приехал на съемки сериала «Послание с «того» света». Роль, правда, эпизодическая, но очень выразительная…
«Надо ж, какая у меня чуйка! – подумал Павел. – Безошибочно вычислил обоих. Прикольно будет, если третий сейчас скажет: «Я – Зомби!».
– Так вот, – продолжил Бурак, – выпил я на вокзале бокал пива с незнакомцем, вместе с ним сел в такси – нам было по пути. Помню, стала сильно кружиться голова и… все. Очнулся уже здесь. А Владик, я уже говорил, не помнит ничего, даже собственного имени.
– Откуда ж вы тогда знаете, как его зовут?
– Так у него татушка есть. Он же не гей, чтобы чужое мужское имя себе накалывать. Правильно я рассуждаю?
Кивнув нечесаной головой, Зомби вытянул перед собой морщинистые конечности в крупных пигментных пятнах. На тыльной стороне правой руки голубела полувыцветшая татуировка: парящая в небе чайка, а под ней – имя «Владик».
– Браво! Классно лицедействуете, – захлопал Павел в ладоши. – Но со мной вы рамсы попутали: я на реалити не подписывался. Дома дел до хренищи. Завтра вообще в Питер еду. Выпустите меня.
– Как говорил доктор Ватсон в одном пародийном ролике, ваша дедукция, Шерлок – фигня, – печально произнес Артист, снимая со стенок жестянки остатки морской капусты. – Вы, парни, действительно, попали… Как вас хоть зовут?
– Паштет – мое погоняло. Сокращение от имени Пашка и фамилии Тетух.
– Петух? – взял реванш за Дурака белорус.
Лицо Павла налилось кровью и увеличилось в размерах, будто кто-то надул его изнутри.
– Закрой хлебало! Еще раз услышу это слово, порву, как газету. Еще у кого-то вопросы будут?
– Давно откинулся? – подал вдруг голос Спортсмен, гревший руки о горячую кружку.
На шее Павла вздулась вена толщиной с палец. Этот качок ему сразу не понравился: резкий голос, пронзительные глаза, нахмуренный лоб, квадратный подбородок. Твердые, как гантели, кулаки со сбитыми костяшками. Взгляд, транслирующий угрозу. Дурацкие – ни к селу, ни к городу – усы. Такие же, как у его, Павла, ненавистного отчима. Рожа и так интеллектом не блещет, а с этой щеткой над верхней губой – просто Ванек из деревни Красная Глухопердь.
– Не понял прогруза, – цыкнул зубом Паштет, брезгливо отодвигая от себя плохо помытую миску с подозрительным харчем. – Ты кто такой, чтобы мне допросы устраивать?
– Капитан Юрий Лялин. Оперуполномоченный Отдела уголовного розыска Криминальной полиции Управления внутренних дел города Москвы.
– Ураааа! Нас нашли!!! – бросился на шею правоохранителю Монах. – Господь услышал мои молитвы. Я знал… я знал…
На радостях и Артист подпрыгнул вверх, подняв над головой погнутую алюминиевую кружку.
– Давайте выпьем за тех, кто в МУРе. За тех, кто в МУРе, никто не пьет.
И только Зомби не разделил радости коллег. Сосредоточенно набивая рот колбасными обрезками, Владик не спускал глаз с пайки, отвергнутой Тетухом.
– Вы кушать будете? – робко поинтересовался он.
– Дерьма не жру – у меня язва. Убери с глаз этот блевонтин, пока я опять не начал фарш метать.
Дважды повторять не пришлось. Зомби резво подхватил тарелку Паштета и жадно накинулся на добавку. Сегодняшний день у него, определенно, удался. В отличие от остальных.
Как только до старых узников дошло, что Лялин – не освободитель, а очередная жертва, а до новых, – что старые не комедианты, а рабы, все впали в отчаяние. Особенно Пашка, люто ненавидевший порядкоблюстителей. Отмотав три срока, он и в страшном сне не видел, что четвертый будет тянуть в одной «камере» с действующим ментом. Ему, «честному бродяге», по понятиям не полагалось контачить с «мусором», а уж спать с ним на соседних нарах и жрать из одного котла – самое настоящее «западло».
Опер тоже подрастерялся. Так глупо попасть в передрягу ему еще не доводилось. И надо ж было на ночь глядя попереться в круглосуточный супермаркет за кормом для Спинозы. Не помер бы пес до завтра. Разделили бы с ним на двоих банку тушенки и сковородку жареной картошки… И как он мог так бездарно купиться на стандартную разводку: «Там, во дворе, девушка лежит без сознания, помогите, ради бога». Помогать-то, конечно, надо, но поворачиваться спиной к незнакомцам… Доигрался, япона мать!
– Не сковырнуться бы с голоду, – чертыхнулся Лялин, проталкивая в горло кусок черствого хлеба. – Да и чаек у вас тоже… «забористый», – отхлебнул он глоток безвкусного, как помои, напитка. – Где вы это дерьмо берете?
– Суточный выброс из супермаркета, – зашелся в кашле Бурак. – Все, что пришло в негодность. Еще нам разрешено кашу варить из того, что в данный момент фасуем. В пределах разумного, конечно. Раз в три дня чуркобесы являются за упакованной продукцией и забрасывают нам еду. Если норму не выполняем, пайка урезается. Как говорят у нас в Беларуси, обедаю, а живот не ведаю.
– Я хренею в этих камышах! – почесал затылок Паштет. – Это ж – дерьмо три раза. Его не станут жрать даже шакалы!
– Шакалы не станут, а человек – такая скотина, которая ко всему привыкает, – расфилософствовался Актер. – Брезгливость постепенно проходит, а необходимость выжить остается, и уже спустя недельку ты, не моргнув глазом, давишься тем, что бог послал. Поначалу меня тоже выворачивало, потом втянулся, как та кошка из анекдота про пылесос.
– А где лестница, по которой бандиты сюда спускаются? – поинтересовался оперуполномоченный.
– А они к нам не спускаются, – прошепелявил Монах. – Видите, под потолком подвесную платформу? С помощью этого подъемника джигиты доставляют вниз новых рабов, мешки с крупами, бочки с таблетками, коробки с едой и поднимают наверх расфасованную продукцию. А лестница здесь и впрямь когда-то была, но давно осыпалась. От нее осталась только груда строительного мусора, – ткнул он пальцем куда-то в темноту. – Там, наверху, рядом с платформой, есть площадка. От нее к выходу ведут ступеньки. Судя по лязгу, от свободы нас отделяют две металлические двери. Но на такую высоту нам все равно не взобраться.
Пашка вышел из-за стола. Усевшись на набитый чем-то мешок, взял со стола свою кружку. На зоне у него была такая же – большая, металлическая, с погнутой ручкой.
– Ни тебе столового серебра, ни мейсенского фарфора, ни чешского хрусталя. Все, как на киче: алюминиевое весло и металлический тромбон. Судьба снова устроила мне вырванные годы.
– А почему тромбон? – полюбопытствовал артист. С веслом, судя по всему, он и сам разобрался.
– Потому что кружку зеки используют в качестве концентратора звука при переговорах с соседней камерой. Прикладывают ее дном к стене, вставляют рот внутрь – и орут. При этом ни во дворе, ни в коридоре их никто не слышит. Кроме того, конечно, кто стоит с той стороны стены, приложив ухо ко дну тромбона.
Монах с артистом переглянулись. «Только зека нам для полного счастья и не хватало», – читалось в их глазах.
– А на прогулку здесь часто выводят? – завертел головой Тетух в поисках двери.
Бурак удивился оптимизму новенького.
– Какие прогулки?! Мы света божьего несколько лет не видели. Из этого склепа – только вперед ногами.
Павел сорвался с места и начал мерить помещение широкими быстрыми шагами. На его лице застыл неописуемый ужас.
– Да это ж Гуантанамо! Без свежего воздуха и солнечного света я уже через месяц боты заверну…
– Кончай истерить! И без тебя тошно! – стукнул по столу Лялин похожим на гирю кулаком.
Паштет замер на бегу, как стреноженный конь. Затем мужчина подскочил к оперу и встал перед ним в боевую стойку.
На лице Юрия не дрогнул ни один мускул.
– Не бренчи нервами! – повторил он спокойно, сжимая и разжимая в руке пружинный кистевой эспандер – единственную вещь, оставшуюся в его карманах после бандитского аудита. – Думать мешаешь.
– Ах, ты ж лось менторылый! – бросился на него Павел с кулаками.
Лялин сделал молниеносное движение ребром ладони. Ноги Паштета мелькнули в воздухе, и он оказался на полу. Уткнувшись носом в грязный, усыпанный мукой бетон, Тетух принялся пугать капитана ответкой.
– Не прекратишь бузить, свяжу! – пообещал ему Юрий, разминая кисть правой руки.
– А почему у вас такой срач? – обратился он к застывшим с открытыми ртами старожилам. – Уж пол-то подмести можно было?! Вон господин Паштет в вашем свинарнике свой парадный фрак испачкал.
Нервно дернув коленкой, Павел стал подниматься. Минуту назад он выглядел довольно прилично: модная куртка необычной текстуры, джемпер с оригинальным принтом, плотные черные джинсы со множеством накладных карманов, кроссовки из натуральной перфорированной кожи. Все новое, чистое – муха не сидела.
Вывалявшись же в муке, мужчина стал похож на загулявшего мельника. Его короткие, стриженые под «площадку» волосы, лоб, нос, щеки, ресницы – все было кипенно белого цвета. На этом фоне глубокий дугообразный шрам над левой бровью смотрелся как кровавый рубец, а нереально синие глаза – как лесные незабудки на снегу.
Тетух тягуче сплюнул на пол, отряхнулся и неожиданно для всех стал яростно отбивать чечетку.
- Впереди идет ГАИ
- (вечно пьет не на свои).
- А потом ОБэХаэС
- (бабы йес и бабки йес).
- А потом идет ОУР
- (вечно пьян и вечно хмур).
- А за ним, задроченный,
- Опер полномоченный,
– сопроводил он хореографию вокалом.
– Слезы умиления, аплодисменты, занавес, – три раза хлопнул в ладоши Иван Бурак. – Как говорил артист Евстигнеев, в степе[1] главное – кураж!
– Плюсую, – поддержал его Юрий. – Имеем готовый номер для «Калины красной»[2]. Жаль, что местному начальству больше нравится лезгинка. Осваивай новый репертуар.
В ответ Пашка раздраженно пнул ногой мешок с мукой.
– Че здесь так ссаками воняет? – вызверился он на старых сидельцев. – Тут че, даже сортира нет?
– Туалет? Есть. Зайдете за угол и метров десять – вперед по коридору, – хрустнул белорус суставами тонких аристократических пальцев. – А что мочой пахнет, так Владик ею язвы на ногах лечит, у нас ведь нет ни лекарств, ни перевязочных материалов. А моча – отличный антисептик. Ее издревле использовали для обработки гнойных ран. К тому ж, у нас нет моющих средств. Да если б и были, не шибко постираешься – сменки тоже нету. В чем когда-то забросили, то и донашиваем. Так что, пардону просим за наше амбре.
– Пральна, мужики, часто мыться вредно. Грязь сама отвалится, когда наслоится до килограмма.
У аккуратиста Паштета нестерпимо зачесался шрам. В моменты эмоционального напряжения он всегда давал о себе знать. «В сравнении с этим гадючником, тюрьма – правительственный дом отдыха, – расстроился Тетух. – Ежедневные прогулки, раз в десять дней – баня и смена постельного белья. Телик в комнате отдыха, библиотечка с книгами и периодикой. По выходным – самодеятельные концерты и киносеансы. С воли приходят посылки со жрачкой и теплыми вещами. В столовке – каши на комбижире, но если дружишь с хлеборезами, то и мясца с рыбкой можно перехватить. В ларьке продаются сигареты, конфеты, пряники… Чем не блаженство? Правду говорят зеки: «Пока не наступит завтра, не узнаешь, как хорошо было вчера».
– Вот что, хлопцы, – отвлек его Лялин от невеселых мыслей. – Я должен иметь четкое представление о нашем узилище. У вас, вижу, и фонарь мощный имеется. Лицедей, неси его сюда, будешь меня сопровождать. Остальные поступают в распоряжение отца Георгия. Батюшка, ознакомь господина Тетуха с нормой выработки.
Русич с Бураком синхронно кивнули головами, Паштет же снова встал на дыбы.
– У тебя ниче не жмет, когда ты команды раздаешь? Не парят они тут никого! Усосал?
– Павел, вы бы не расписывались за всех, – тихо, но твердо произнес монах. – И давайте без эмоционального фона. Мы хорошо слышим.
– Шандец! – ощерился Тетух. – Мусор, значит, будет вату катать, а Паштет – вкалывать? Че за дискриминация?!
– Горло свое сократи! – съехали вниз уголки губ Лялина. – А будешь цирковать, жестко умиротворю.
– Мне твои угрозы по большому африканскому барабану. Я лучше сдохну, чем буду жить под ментовской диктатурой. Ты тут, кстати, не в мусарне, а такой же раб, как и все остальные. Так что, или пашем вместе, или вместе шаримся по подвалу.
– Не вопрос! – согласился вдруг Юрий. – Просто я думал, что совместные рейды с работником правоохранительных органов для «крутопацана» – «голимое западло». Ошибочка вышла.
От неожиданности Павел затоптался на месте, но любопытство все-таки победило. Соблюдая дистанцию, он двинулся следом за опером и белорусом.
Глава 2
Ориентирование на местности
Лялин ощупывал стены, всматривался в щели, изучал встречающиеся на пути груды мусора. Завернули за угол. Впереди был длинный неосвещенный коридор. Слева – ниша с какими-то странными металлическими конструкциями.
– Что это за фигня? – поинтересовался опер.
– Понятия не имею, – сдвинул плечами Бурак. – Похоже на гидранты для пожаротушения.
– Соображаешь! Они родимые. Плюс вместительный пожарный шкаф. И что там в нем? Дай-ка сюда фонарь. Тааак: огнетушитель, пожарный ствол, рукав и вентиль. Интересно, что они делают в пустой бетонной коробке? Чему тут гореть? В любом случае, шкафчик сгодится в хозяйстве, огнетушитель тоже. Таким, если врежешь по темени, башка враз превратится в скворечник.
Через десять метров обнаружился следующий объект. Открыв входную дверь с наклейкой, на которой был изображен желтый треугольник с черной молнией внутри, Бурак щелкнул выключателем. Натужно загудев, зажглись лампы дневного освещения. Маленькая комната, больше похожая на кладовку, по всему периметру была уставлена металлическими шкафами с панелями, усеянными многочисленными проводками, ручками и кнопками.
– Электрощитовая, – предположил Лялин. – Надо будет с ней разобраться.
– Зачем? – не понял Бурак.
– Мало ли… Если, к примеру, свет вырубится, не сидеть же в темноте несколько дней. Ладно, пошли дальше.
Следующее помещение оказалось огромным и совершенно пустым, если не считать густой бахромы из паутины и огромной зловонной лужи на полу. Потоптавшись на пороге, мужчины вернулись в коридор.
– Наш сортир, он же душевая, – махнул Иван фонарем в сторону открытой металлической двери.
Это комната освещалась ржавой люминесцентной лампой, издающей звук, похожий на сигнал зуммера. «Стартер козлит, – скривился капитан, не переносивший сбоев в работе техники. – Если сдохнет – хана. Придется гадить с фонарем».
В сравнении с рабочим помещением, туалет был вполне сносен. Вдоль левой стены – три писсуара, вдоль правой – три умывальника. К крану одного из них ржавой проволокой примотан старый потрескавшийся шланг. По всему видать, – заявленная «душевая точка». Капитан повернул вентиль, потекла ледяная вода. «Мдааа, мыла нет, полотенец нет, горячей воды тоже. В помещении – холодрыга. Тут выбор невелик: либо становись йогом, либо ходи вонючкой», – промелькнула в голове паническая мысль.
Юрий перевел взгляд на толчок. На небольшом возвышении – две ступеньки вверх – выстроились три кабинки без дверей. Внутри каждой – самое настоящее «очко»: наступаешь на рифленые следы для ног, принимаешь позу полного приседа и метишь в дырку. Судя по следам окаменелого дерьма, «снайперов» среди здешних обитателей немного.
Высоко над головой нависал чугунный сливной бачок. Вниз от него змеилась металлическая цепь, увенчанная тяжелой фарфоровой ручкой. «При необходимости ее можно использовать в качестве «головоломки», – подумал Лялин. – Нужно сделать прочную петлю для ладони, и… нунчаки отдыхают. А, если к ней присобачить полутораметровое древко, то и средневековый кистень нервно закурит в сторонке».
– Значит, щетки для чистки отхожего места у вас не имеется, туалетной… да никакой… бумаги – тоже. Чем же вы, пардон, задницу вытираете?
Бурак молчал, опустив глаза на коричневые квадраты неглазурованной керамической плитки пола. Откровенничать на эту тему ему не хотелось.
- – Усы мужчину украшают.
- Усами улицу метут.
- Усами жопу подтирают,
- Когда бумажку не найдут,
– показался в дверном проеме заскучавший в одиночестве Паштет. – Никогда не мог понять, почему мусора и «сапоги» так любят носить усы. Теперь, наконец, уяснил.
– Конем отсюда! Настохренел уже!
– Сам – конем! Я здесь – по нужде, – стал Пашка расстегивать ширинку.
Опер чертыхнулся и вышел наружу. Из коридора повеяло холодом. Толстый слой грязи на полу, повышенная влажность, чернота грибка, покрывающая потолки и стены, свидетельствовали о полном беспределе грунтовых вод.
– Вот что я думаю, Иван. Туалет – это элемент жилого помещения, а рабочая комната – обычная бетонная коробка. О чем это говорит?
– Ээээ…
– Что никакой это не подвал.
– А что?
– Бомбоубежище или бункер, оставшийся со времен холодной войны СССР с «загнивающим» Западом. А это сильно осложняет наше, и без того незавидное, положение.
Через десять метров справа показалась еще одна дверь со штурвальным механизмом задраивания. Такая же массивная и ржавая, как в туалете.
– Что и требовалось доказать, – похлопал Юрий по штурвальному колесу. – Дверь герметическая. Весит не меньше тонны. Такие устанавливают в бункерах для защиты от проникновения ударной волны. Что за ней находится?
– Не знаю, – захлопал Бурак ресницами. – Дальше туалета мы никогда не ходили.
Лялин попытался провернуть колесо – никак. То ли заржавело, то ли заклинило. Он снял с себя куртку, обернул ею штурвал, изо всех сил потянул его сначала вправо, затем влево. Через полминуты повторил попытку. Наконец дверь выдохнула стравленным воздухом и распахнулась. Внутри – сырость, вонь и темнота.
– Свети! Что застыл на пороге? – вскинул подбородком запыхавшийся опер.
Белорус прошел вперед. Яркий луч фонаря вырвал из мрака три больших резервуара, стоящих на метровых подставках, один – на пять кубов, два других – на три. Мужчины подошли ближе. «Техническая», – гласила надпись на пятикубовом, «питьевая» – на остальных. На каждой емкости – стеклянная трубка, демонстрирующая уровень воды в цистерне.
– Ну, вот и ладушки! Запас живительной влаги нам не помешает. А потому что без воды…
– … и не туды, и не сюды! – подхватил белорус старый киношлягер.
– Пральна, Ваня, дай пять!
Тот освободил от фонаря правую руку, хлопнул ладонью о ладонь Юрия, и они двинулись по лабиринту, который то и дело упирался в тупики. Мужчин восхищала четкая симметрия прямоугольных комнат, расположенных по обе стороны коридора и удивляла форма тоннеля, неоднократно изгибавшегося под углом девяносто градусов.
– Ни фига себе коридорчик, – присвистнул изрядно продрогший Лялин. – Сплошное приволье для диггеров! Здесь можно запросто снимать «Сталкера».
– Или «Сияние» Стенли Кубрика. С удовольствием бы сыграл у него Джека Торренса, – прохрипел Артист, являвшийся крупным знатоком отечественного и зарубежного кинематографа. – А вот и еще одна «Сезам, откройся!».
Помещение оказалось техническим залом, в котором находилась система очистки воздуха. Толстые трубы с вентиляционными фильтрами, множество приборов со стрелочками. Чуть дальше – дизель-генератор. На стене – какая-то инструкция. Ничего интересного, хотя…
– Иван, а что это за дыра слева в стене?
– Сквозная? Ннне знаю… – вытаращился тот. – Не исключено, что – портал в преисподнюю.
– Не чуди, – расхохотался опер. – Это – гермофорточка вентиляционной шахты. Туда только кошка и пролезет. А жаль…
– Если видишь в стенке люк,
Из него течет вода.
Не пугайся – это глюк,
Так бывает иногда, – просочился в комнату Паштет.
– Опять торчишь перед глазами, как забытая клизма? Че те надо, каторжанин?
– У меня к тебе влечение вплоть до умопомрачения, – оскалился Пашка. – Зуб даю на холодец, что не найдешь ты выхода из этих катакомб. Здесь все двери задраены, как на подводной лодке. Надо штурмовать вход в момент прихода чуркобесов. Эффект неожиданности, так сказать.
– Ты что – ниндзя, умеющий бегать по стенам? Обладаешь информацией, сколько их будет и как они вооружены? Тебе известно точное время появления бандитов? У тебя есть хотя бы перочинный ножик? Наша армия – полуживой служитель культа, чахоточный комедиант и полоумный Владик. Ни один вменяемый букмекер на нас в таких условиях не поставит. Любую операцию нужно готовить, если тебя интересует результат.
- – На собственном горбу и на чужом
- Я вынянчил понятие простое:
- Бессмысленно идти на танк с ножом,
- Но если очень хочется, то стоит[3],
– пропел Паштет, имитируя игру на воображаемой гитаре. – Или, по-твоему, у нас вообще нет выхода?
– Выход есть всегда. Даже если тебя съели, – их целых два, – и Лялин жестом указал собеседнику на оба. Тот заржал дурным смехом. Следом зашелся и белорус. Вскоре смех последнего перешел в кашель, а затем и в лай.
– Хроническое воспаление легких, – пояснил он новеньким. – Стоит здесь простудиться и – считай калека. Согреться можно, только сидя на трубах. При этом одному месту горячо, другое леденеет. У меня от этого – целый букет болячек: простатит, гайморит, нефрит и еще добрый десяток всяких «-итов». А что делать? Нет у нас ни спирта, ни меда, ни травяных сборов, ни теплой одежды, ни даже одеял. Про антибиотики я вообще молчу.
– Херасе… я в шоке! – зябко передернул плечами Тетух. – У вас же таблеток целые бочки!
Поставив фонарь на пол, Бурак устало присел на корточки.
– В бочках не антибиотики. И вообще не лекарства. Фальшак. Его джигиты гонят из Китая. Контрабандой. А мы упаковываем в бутылочки, коробочки и блистеры. После этого таблетки превращаются в средства от аллергии, отравлений, стенокардии и т. д. Внешне все выглядит довольно солидно: упаковка и инструкции по применению – прямо из типографии, все пузырьки и коробочки имеют специальную голограмму. На деле же, это – мел, которым можно писать на трубах. Еще таблетки можно растирать в порошок, чистить им зубы и присыпать раны… А больных, покупающих это дерьмо, нам, конечно, жалко, но жить-то охота.
На скулах Юрия заиграли желваки.
– Только за это чуркобесам светит от пяти до восьми лет. А по совокупности огребут по самое «не балуй».
– «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе», – процитировал Бурак Некрасова.
– Не ссы, отобьемся! – похлопал его по плечу Паштет. – Мы на их похоронах еще не одну гармошку порвем.
В луч света, испускаемый стоящим на полу фонарем, попала какая-то крупная движущаяся точка. Ползла она прямо на мужчин со стороны технического зала.
– Япона мать! – едва слышно прошептал Лялин. – Это что еще за явление?
– Че, мент, дристанул чуток? Это тебе не сокамерников в муке валять.
– Нет, правда, что это? – вжался в стену белорус.
Со словами «щасс познакомимся» Тетух двинул навстречу неведомому существу. Последнее предусмотрительно замерло на месте, прикинувшись камешком.
- – Я кукарача, я кукарача,
- а я черный таракан.
- Я кукарача, я кукарача,
- А ну, налей еще стакан,
– заголосил вдруг Пашка, вскидывая ноги высоко вверх. Исполнительницы канкана могли бы ему сейчас позавидовать.
– Еще один артист в звании народного, – хмыкнул опер. – Принимай его, Иван, в свою труппу. Будет у тебя на подтанцовке.
Существо тем временем продолжило движение, неспешно перебирая своими мохнатыми лапками. Оно и впрямь оказалось огромным усатым тараканищем, ярко-фиолетовым и блестящим, как спелая слива.
– Между прочим, это – тропический вид, – Павел поднял вверх указательный палец. – Я по зомбоящику передачу про него смотрел. Там профессор Букашкин втирал, что размножаются они молниеносно, поэтому плотно оккупировали подвалы домов и тоннели метро. Но москвичам не стоит впадать в отчаяние. Если тропиканы уже завелись, все другие виды тут же сливаются. Потому как с ними соседствовать – себе дороже. Это называется эээ… видовой нетерпимостью. Ну, как у нас с муровским правохрЕнителем!
Лялин подошел к таракану и с хрустом размазал по бетонному полу его пятисантиметровую тушку. Белорус вздрогнул. Сам он и муху убить не мог. Потому как та – живое существо. Даже в детстве, когда его ровесники привязывали к хвостам кошек консервные банки и стреляли по воробьям из рогаток, он часами загонял в сачок залетевшую в квартиру пчелу, чтобы потом выпустить ее на улицу. Носил к речке заблудившихся лягушек, уговаривал пауков уходить к соседям, хоронил раздавленных червяков.
– Плохая примета, – прохрипел Иван. – Нельзя так обходиться с хозяином подземелья. Будет мстить.
– Кончай бредить. Нам дела нет до чужих тараканов. У нас собственные строем маршируют, – почесал Юрий висок, глядя на Пашку.
Тот недовольно засопел, но от реплики воздержался.
Следующая дверь, пятнистая от осыпавшейся краски, тоже оказалась закрытой. И опять заржавевший штурвал нельзя было сдвинуть с места. Когда Лялин окончательно выбился из сил, на смену ему пришел Паштет. Минут через пятнадцать коллективными усилиями мужчины добились проворота. И только. Штурвал бестолково вращался на круглом штыре, а дверь все не открывалась. Тетух вытер со лба пот, выматерился. Потом достал из кармана свои астрагалы, подбросил их вверх: 6/5 – скорее всего, желание сбудется. «Интересно, каким образом, – произнес он вслух. – Гранату, что ли, под дверь швырнуть…».
– В эту дырочку, под штурвалом, нужно засадить гвоздь, шпильку или кусок проволоки, – догадался опер. – У вас есть что-нибудь похожее?
Артист отрицательно замотал головой. Павел же завел руку за спину и, как фокусник, достал из-за пояса джинсов стальную канцелярскую скрепку. Затем выпрямил ее верхнюю часть, присел на корточки и вставил острие в нужное отверстие. «Вошла, как свечка в попку», – потер он руки, услышав щелчок.
С лязгом и скрежетом дверь отворилась. Новый объект дохнул на узников сыростью, затхлостью и … резиной. Света в помещении не оказалось. То ли лампочки перегорели, то ли их там и не было.
– Прометей, твой выход! Публика с нетерпением ждет! – подтолкнул Лялин Ивана в спину. Тот поднял фонарь вверх и без особого энтузиазма нырнул в темноту.
– А че табло такое скорбное? – «участливо» поинтересовался Паштет. – Ты ж у нас – служитель Мельпомены, призванный улучшать окружающим настроение.
– Вы перепутали, – насупился белорус. – Мельпомена – это муза трагедии. А музу комедии зовут Талия.
– Извиняюсь, виноват.
Из деревни – быковат.
– Лирик, блин! Ни дня без куплета, – чихнул Юрий, вдохнув висящую в воздухе взвесь из пылинок и микрочастиц осыпавшейся побелки.
– Лирик-не лирик, а на конкурсе рэп-исполнителей мой трек в свое время занял третье место. Если б не обстоятельства, я б уже… Не срослось, короче.
– Дали мешалкой под зад? Понятное дело, это тебе не мелочь по карманам тырить.
– Во тебя плющит! – оскалился Тетух. – Ты что, меня за руку ловил?
– Да у тебя диагноз – поперек лица. Я таких столько насмотрелся, что ни с кем никогда не перепутаю.
– Шел бы ты, мусорюга, в пешее эротическое, пока я тебе скрепкой гляделки не выколол.
– Не по Хуану сомбреро! – раскатисто рассмеялся. Лялин. – Чтобы что-то кому-то выколоть, надо бицепс полировать, а не пивасик сосать да на харю давить.
Пашка удивился прозорливости мента, ведь он, действительно, обожал пиво и поспать часиков десять-двенадцать. А почему нет? На работу ходить не надо. Он – свободный предприниматель, хозяин трех киосков, торгующих подержанными телефонами. Один колотит ему копейку на рынке «Южные ворота», другой – на Козе[4], третий – на Абельмановской, возле кафе «Академия». «Это – зависть, – успокоил себя мужчина. – На пивбары у мента нет денег, а на сон – времени. Впахивает, как конь педальный, зарабатывая себе орден Сутулова».
Помещение оказалось мусорной свалкой. Оно было доверху набито старыми автомобильными покрышками, металлоломом, пустыми деревянными ящиками и поддонами. Порывшись в кучах хлама, опер обнаружил там массу полезных вещей: моток электрокабеля, шесть защитных строительных касок, несколько металлических прутов, десятка два рогожных мешков, набитых технической ватой, два мотка проволоки, тридцатисантиметровый огрызок собачьей цепи, невероятное количество пластиковых полуторалитровых бутылок, тучу хозяйственных полипропиленовых мешков, частично изгрызенных крысами.
– А это что такое? – достал Бурак из-под покрышек какие-то железяки.
– Походу, двусторонние баллонные ключи для снятия с автомобиля колес. Шиномонтаж тут раньше был, что ли? – предположил опер. – Надо б их с собой прихватить. Если в нижнее отверстие пропустить шнур и сделать для руки петлю, получится идеальная «головоломка».
Вытащив в коридор деревянные ящики, мужчины обнаружили на них маркировку: «Партия № 20. VIII 1979».
– Екарный бабай! – стал отряхивать запыленную одежду Тетух. – Тут все древнее, как дерьмо мамонта. Мне ж только три года тогда было.
– А мне – четырнадцать. Самый паскудный возраст – биопоросль, находящаяся в контрах со всем окружающим миром, – припомнил свой пубертат белорус.
– В семьдесят девятом мне тоже было три года, – выбрался в коридор Лялин, с ног до головы обмотанный паутиной. – Япона мать! Новый же был костюм. Второй раз надел, – присел он устало на ближайший к нему ящик. – Перекур, мужики.
Те хохотнули, поскольку курить было нечего. Сам Юрий вел здоровый образ жизни. Бурак за годы плена успел отвыкнуть от вредной привычки, зато Паштет без курева буквально лез на стену. Потому и скандалил на пустом месте.
– Павел, я могу вас о чем-то спросить? – робко поинтересовался белорус.
– Чего тебе надобно, старче?
– Вы всегда носите с собой скрепки?
– Всегда.
– Зачем, если не секрет?
– Полезная вещь. При определенной сноровке ею можно открыть множество замков и защелок. Например, полицейские наручники.
– Отстал ты от моды, болезный, – ехидно хмыкнул Лялин. – Таким способом можно было открыть лишь старые ППСовские браслеты. У оперов же сейчас – современная модель с заглушкой на внутренней стороне. Клешни сжимает намертво. А еще имеются пальцевые. Их надевают на большие пальцы рук. Как ни изощряйся, не отожмешь. А недавно из Пиндосии пришли образцы одноразовых пластиковых «стяжек». Урки сильно впечатлены. Говорят, полный кайф для мазохистов. Так что, на каждую хитрую жопу найдется свой болт с резьбой.
Последняя реплика взбесила Пашку. Зона приучила его к непереносимости шуток на тему однополого секса. Тюремные нравы требовали от сидельцев немедленной ответной реакции. Если таковая не поступала, могли и опетушить. Тетух, конечно, понимал, что здесь – окружение совсем иное, но многолетняя, доведенная до автоматизма, привычка осталась – автогеном не выжечь. Уж три года, как на вольняке, а флешбэчит до сих пор.
– С Марухой своей будешь эту тему тереть, врубился, окорок? – выпучил он глаза, как мышь, сидящая на горшке.
– Маньяк с сезонным обострением, – постучал по лбу опер. – Бульбаш, ты че-нить понял?
Тот лишь сдвинул плечами, решив не вмешиваться в процесс установления иерархии.
– Че скалишься? – не унимался Паштет, наступая на сидящего на ящике Юрия. – По щам давно не получал?
– Дав-нооо, – протянул капитан, приподнимаясь.
– Могу напом… – и Пашка взлетел вверх. Мужчина пронесся метров пять, грубо приземлившись рядом с трупиком «хозяина подземелья».
Какое-то время он лежал плашмя, уставившись в мокрое место, бывшее недавно кукараччей. Повторить судьбу насекомого ему, конечно, не хотелось, но позорная капитуляция перед «мусором» в его планы тоже не входила.
Кряхтя и охая, Паштет принял сидячее положение, сложил ноги кренделем и, сплевывая кровь на пол, зловеще процедил:
– Как говорят хоккейные комментаторы, настоящие спортсмены играют до конца матча.
– А футбольные комментаторы утверждают, что каждый играет так, как ему позволяет соперник, – отчеканил опер, не поворачивая головы в сторону поверженного противника. – Пойдем, Иван, дальше, а то желудок уже марш играет. Мне тот сухарь, которым я позавтракал, – что слону дробина. Надо закругляться с первичным осмотром, – и они неспешно скрылись за углом.
Там лабиринт заканчивался, упираясь в последнюю дверь. История со штурвалом повторилась, только теперь рядом не было Паштета с его скрепкой. Пришлось возвращаться к свалке, где у двери лежала куча добра, признанного «годным». Бурак вытащил из нее моток проволоки и потопал обратно к пыхтящему в тупике Лялину.
Пашка растерялся. С одной стороны, ему было интересно, что находится за последней дверью. А, с другой, нельзя было после ссоры идти на контакт первым. Не по понятиям это…
Прислушавшись к звукам, долетающим из-за поворота, он понял, что проволока недругам не помогла. Тетух подбросил вверх кубики: 2/2 – «нет ни малейшего шанса». «Гыыыы!» – злорадно потер он руки и налегке отправился обратно.
- У опера с Петровки порядок с подготовкой,
- Захват, подсечка, самбо, карате.
- И сердце замирает, когда он вынимает
- Из кобуры свой табельный ТТ,
– заполнило гулкое эхо коридоры лабиринта.
Глава 3
Притирка
Батюшку с Владиком Паштет застал за работой. Те восседали на перевернутых набок дощатых ящиках над горой муки, высыпанной на пол из пятидесятикилограммового рогожного мешка. Зачерпывая зерновой продукт большими мерными стаканами, мужчины рассыпали его в яркие бумажные пакеты, украшенные рисунком мельницы. Видя, как Владик то и дело засовывает в муку грязные, в язвах, руки, предварительно почесав ими давно не мытую голову, Тетух с трудом сдерживал рвотные спазмы. Присмотревшись внимательно, он понял, что продукт лежит не на голом полу, а на прозрачной полимерной пленке. Из такой же пленки на работниках были защищающие одежду самодельные пелерины. Но их руки, ноги, волосы, лицо были белыми и пушистыми, совсем как у реликтовых гоминидов йети.
Фасовщики работали споро, их действия напоминали движения роботов: раз – зачерпнули, два – высыпали, три – сорвали защитную пленку и зажали пальцами самоклеющееся отверстие пакета. При этом они что-то бубнили себе под нос. Павел напряг слух – ну да, не показалось: монах разучивает с Владиком девяностый Псалом «Живые в помощи». Он уже слышал его на зоне от одного сидельца. Посмеялся тогда над набожностью нестарого еще мужика, а слова молитвы – поди ж ты! – запомнил…
– Что ж вы так долго? Мы уж волноваться начали, – всплеснул Русич испачканными мукой ладонями. – А где же ваши товарищи?
– Тамбовский волк им товарищ! – харкнул Паштет на пол. – Дай че-нить пожрать.
– Свежего завоза не было. В ассортименте – все тот же блевонтин, – в голосе монаха не было ни малейшей иронии.
– Давай блевонтин!
– У нас не принято в одиночку трапезничать. Вот придут остальные, тогда и…
– Че за гонево, Жорик? У меня – язва. Если я с утра за ворота ниче не закину, через час-другой начинаю блевать вприсядку. Оно тебе надо?
– Не Жорик я, а отец Георгий. Именем сим наречен при постриге в малую схиму в честь преподобного Георгия Исповедника.
– Вот те нате – хрен в томате! – присвистнул Павел. – А как тебя мамка с папкой звали?
– Александром.
– Гыыы… И чем же тебе родное имя не потрафило?
– Оно относится к прошлой, мирской, жизни. Дав Богу обет безбрачия, послушания и нестяжания, я начал новую духовную жизнь с новым именем, – кротко улыбнулся он бесноватому придурку.
Пашка присел рядом на свободный ящик. Протянул руку к стопке бумажных пакетов. «Мука пшеничная цельнозерновая специального помола. Высший сорт. Масса нетто 2 кг. Наполни выпечку здоровьем! – прочитал он вслух. – Мдааа… Со здоровьем, канеш, круто загнули. Если выйду отсюда, никогда не куплю в магазине ничего сыпучего. Буду жрать только в Макдональдсе». Крест на пузе!
– А там, по-вашему, мука откуда? – ухмыльнулся Русич в бороду.
Тетух печально вздохнул, комкая в кулаке жесткий бумажный пакет с яркой мельницей на этикетке. Повторив манипуляцию с еще двумя экземплярами, засунул их в карман.
– Павел, что вы делаете? У нас же все лимитировано!
– Подтирачку для задницы заготавливаю. Впрочем, с вашей хавкой гадить все равно нечем.
Подивившись наглости новенького, монах развел руками.
– Я бы, на вашем месте, не дразнил бандитов понапрасну.
– Волков бояться – в хате ср… опорожнять кишечник! – ощерился Тетух. – Или вы тут совсем в быдло превратились, непротивленцы хреновы? Учил же вас классик по капле выдавливать из себя раба…
– На все воля Господа! Кто мы такие, чтобы спорить с нею? – провел Русич пальцами по усыпанной мукой бороде.
Пашка уже настроился на дискуссию, но тут из-за угла показались навьюченные трофеями Лялин с Бураком.
– Бог в помощь! – шутливо бросил опер фасовщикам.
– Во славу Божию! – на полном серьезе ответил ему монах. – Давайте, братья, перекусим и совместно добьем дневную норму.
Быстро сварили пшеничную кашу и липкие сосиски, обрезали гниль с помидоров и огурцов, вскипятили чай. В этот раз никто не жаловался на отсутствие аппетита. Голод, как известно, не тетка, пирожка не поднесет.
После обеда все уселись кружком вокруг мучной кучи. Поскольку совков и мерных стаканов на всех не хватило, Паштет был назначен «старшим по заклейке», а Лялин – упаковщиком малых, двухкилограммовых, пакетов в большие хозяйственные мешки из полипропилена. Спустя несколько часов все свободное пространство помещения было заполнено готовой продукцией.
– Давайте закругляться, мужики! – стопорнул Пашка коллег, направившихся за новым мешком. – Если джигиты зафиксируют наш трудовой энтузиазм, обязательно поднимут норму выработки. Оно нам надо?
– Он прав! – поддержал его Лялин. – Не будем рвать жилы. Посмотрим, как пролезет первый блин. Отряхиваемся, моем руки, убираем рабочее место. И это… мы с бульбашом приволокли много разного добра, которое, надеюсь, улучшит наши бытовые условия. Надо только приложить к этому руки и голову. Где тут у вас инструменты? От их наличия напрямую зависят и наши возможности.
Владик махнул рукой в сторону большого фанерного ящика, подпирающего наполненные мукой рогожные мешки. Там оказались: топор, несколько молотков, ножовка по металлу, пила, коробка с гвоздями, гайками и шурупами, набор отверток, плоскогубцы, кусачки, шило, ножницы, стамеска, долото, зажимы, дрель с набором сверел и прочая дребедень, при помощи которой они в прошлом году мастерили санки и детские коляски.
– Что ж, на безрыбье и рыба – раком, – вздохнул Лялин, перебирая поступивший в его распоряжение арсенал. – Попробуем довести облик нашего узилища до уровня мировых стандартов.
Для начала нужно было составить список обнаруженного в подвале добра и наметить фронт работ. В привычной для себя роли писаря выступил Бурак. Зачерпнув из бочки пригоршню таблеток, он вместе с Лялиным направился к горячим трубам, на которых уже сушились найденные на свалке мешки с пластами технической ваты.
Каллиграфическим почерком артист вывел на трубе цифру 1 и вопросительно уставился на опера.
– Слышь, Иван! – вскинулся тот, дотронувшись ладонью до шершавой металлической поверхности. – Может ли быть такое, чтобы трубы были горячими, а воды горячей в помещении не было?
– Я не по этому делу, – поправил Бурак очки. – В туалете есть только холодная. Для помывки мы греем воду на плитке.
– С тобой все ясно, лицедей батькович! Пошли шукать нужный вентиль.
– Спроба – не хвароба[5], – буркнул тот, топая за правоохранителем.
Искомое обнаружили не сразу. Пришлось провернуть около десятка спрятавшихся среди труб вентилей. Когда же наконец из крана потекла теплая жидкость желтоватого цвета, по коридорам подземелья пронесся победный крик. На шум сбежались все обитатели темницы. Не веря своему счастью, мужчины тут же устроили в умывальниках помывку и постирушку. Без мыла, без шампуня, без стирального порошка, зато с горячей водой, совсем, как в «мирное» время.
– Сюда б еще коврик резиновый на пол, – размечтался Бурак, – и была б душевая точка не хуже, чем в трехзвездочном отеле.
– Будет! – пообещал Паштет. Он болезненно переживал тот факт, что все сегодняшние успехи связаны с инициативой Лялина, а вовсе не с его, Пашкиной. – Будет! – повторил он, – и исчез за дверью.
Оплетенный паутиной, он вскоре появился в производственном помещении, которое, с его легкой руки, все стали называть рабочкой. В руках у него был ворох больших хозяйственных мешков синего, зеленого и черного цвета.
– Вот! – кивнул он подбородком на доставленный полипропилен.
Мужчины недоуменно переглянулись.
– Навозну кучу разрывая, Тетух нашел жемчужное зерно, – перефразировал Крылова Бурак.
– Не Тетух, а Тетух, – поправил его Пашка. Судя по спокойной реакции последнего, текст басни не был у него на слуху. – Объясняю для дебилов, мешки – рабочий материал для будущих ковров.
В этом месте Владик громко засмеялся. Остальные тоже с трудом сдерживали улыбку.
– Че ржете, как кобылы тыгыдымские? – психанул Павел, ожидавший иной реакции «социума» на свои инициативы. – Как-то в зоновской библиотечке мне на глаза попалась брошюрка «Полезные вещи из мусора». Я, по приколу, ее изучил, делать-то на киче все равно нечего. Так вот, коврикам этим там целая глава посвящена. Изготовить их совсем несложно. Нужно по спирали нарезать из пакетов полоски шириной три сантиметра. Связать их между собой и смотать в клубки. Затем при помощи толстого крючка вывязать цепочку из воздушных петель и обвязать ее столбиками без накида. Форма коврика может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. Лично у меня лучше всего получаются овальные…
Рассказ Тетуха прервал истерический хохот его друзей по несчастью. У белоруса от смеха слетели с носа очки. Русич своей бархатной шапочкой-скуфейкой вытирал текущие из глаз слезы, а сползший на пол Владик дергался в конвульсиях, как припадочный.
– А крестиком ты, случаем, не вышиваешь? – всхлипнул Юрий, держась за живот.
– У ментов нет мозгов ни на децал, – обиделся Павел. – Причем тут крестик? Лежать на мягком каждый хочет, а как помочь, так всем – по сараю. Зубы они скалят… Вы че, сами не видите, что спать на этих досках просто невозможно? Тут коврики нужны в три слоя… и на пол тоже… и в душевую.
– Да ладно тебе, на обиженных воду возят, – обнял его за плечи Бурак. – Мы очень рады, что вы с Юрием у нас появились, как ни кощунственно это звучит. На самом деле, мы давно так не смеялись, все больше печалились. А помощь тебе мы, конечно, окажем. Говори, что нужно делать.
И работа закипела: монах нарезал ленточки, Бурак связывал их между собой, Владик сматывал сырье в клубки, Лялин вытачивал из металлического штыря крючок.
Тетух был счастлив – наконец-то все вертелось не по ментовскому, а по его, Пашкиному, сценарию. Сам он тем временем приволок с мусорной кучи мешок пластиковых бутылок. Из одной вырезал совок, из шести других при помощи проволоки, гвоздя и палки изготовил вполне приличную метелку. Глава «Поделки из пластиковых бутылок» в брошюре «Полезные вещи из мусора» была его любимой.
После ужина, состоящего из кислого, с душком, творога, подгнивших бананов и все того же жуткого чая, стали готовиться ко сну. На зоне Пашка как «белый человек» всегда спал внизу, но здесь предпочел верхотуру – от проходящей рядом трубы исходило тепло, да и грызуны на второй этаж не допрыгивают.
К ужасу новеньких, выяснилось, что спать придется при включенном свете, иначе не избежать визита крыс. Последние до того обнаглели, что умудряются не только хозяйничать в коробке с продуктами, но и безнаказанно скакать по спящим людям.
– Не, мужики, так не пойдет, – зазвенел металлом голос Тетуха. – Мне световых пыток хватило в следственных изоляторах. Надо что-то другое придумать.
– Уже придумал! – соскочил с нар Лялин, направляясь за угол. Вскоре он вернулся с несколькими оранжевыми строительными касками, предварительно отмытыми им от слизи и грязи. Опер нахлобучил их на защитные проволочные каркасы лампочек, получились вполне приличные бра, съемные в рабочее время суток.
От зависти у Пашки аж в глазах потемнело – опять мент обошел его в сноровке. Он долго вертелся в своем спальнике, стуча зубами от холода, пока его не осенило: бутылки!
Еще в его первую ходку они с пацанами грелись зимой при помощи наполненных горячей водой двухлитровых пластиковых бутылок. Шутили, что те заменяют им женщин. Запаса тепла двух горячих емкостей хватало на всю ночь. Однако бывали случаи, когда отдельные сидельцы получали во сне ожоги, не почувствовав прямого соприкосновения бутылки с голым телом. Тяжелые были времена.
С подачи своего муженька, матушка от него отказалась. Гревака не было совсем – ни писем, ни свиданий, ни посылок. Отчим считал, что он, Пашка, – «позор семьи» и не заслуживает даже панировочных сухарей. Руководство колонии злобствовало: за малейшую провинность – дубинкой по почкам, ШИЗО, лишение ларька. Чтоб не стать калекой и не потерять авторитет в глазах «честных бродяг», приходилось крутиться, изворачиваться, обдумывать каждый шаг, напрягать все извилины… Тогда ему казалось, что он переживает худший отрезок своей жизни. Но нет! Вышло совсем, как в анекдоте: «Помнишь, я говорил тебе, что жизнь – дерьмо? – Помню. – Так вот, в сравнении с нынешней, она была повидлом». А ведь еще сутки назад он даже представить себе не мог, что жизнь начнет выписывать такие зихера, что тюрьма ему покажется раем.
– Але, гараж! – издал возглас триумфатора Павел. – Предлагаю простое и эффективное средство для сугреву. Набираем в пластиковые бутылки горячей водички, обкладываем себя со всех сторон и до самого утра смотрим африканские сны. Дешево и сердито!
Пашкина идея пришлась узникам по душе, благо, бутылок в подвале было по ноздри и выше. Впервые за годы плена «старички» спали в тепле с мягким притушенным светом.
А вот Тетух с Лялиным уснуть не могли. Лежали, таращась в потолок, хоть глаза зашивай. Да и как уснешь при таких шумовых эффектах: Бурак всю ночь кашляет, Русич вскрикивает во сне, Владик немилосердно храпит…
А под утро явились крысы, гадкие, огромные, с двадцатисантиметровыми хвостами. Они по-хозяйски обошли территорию и ничего, кроме банановых шкурок, не обнаружили – Юрий успел превратить в холодильник большой герметический шкаф, выбросив оттуда всю противопожарную начинку.
Неожиданные перемены в рационе безумно разозлили грызунов. Диета, по всей видимости, в их планы не входила. Крысы стали возмущенно пищать, шипеть, угрожающе скрежетать зубами. «Погрызут в отместку мои новые кроссы, – с досадой подумал Паштет. – А мусорские шкары, ясен пень, не тронут. Они ж не дебилы, чтобы жрать дешевый китайский дерматин». Мужчина снял со своей лампы каску, и делегацию пасюков, словно ветром сдуло.
– Слушай, я вот что думаю, – подал вдруг голос Лялин. – Бомбоубежище – это, как правило, поддомник. В таком случае, прямо над нами – подвал, а выше – какое-то предприятие или длиннющий многоквартирник.
– И в чем тут трабла? – зевнул Павел.
– Понимаешь, если у нас есть воздух, вода и работает канализация, значит, у бункера имеются хозяева.
– Ну, так чичи – и хозяева. Открыл Америку…
– Да нет, – наморщил лоб опер. – Такие помещения обязательно состоят на учете у местных управляющих компаний. Рано или поздно там должны заметить существование левой точки, потребляющей воду, тепло, электроэнергию.
– Жди, пока заметят, если нечего делать. Я же сольюсь, штурмуя выход. Сначала усыплю бдительность хачей, потом вырублю их чем-то тяжелым.
– Нет, Джавдет мой, – хохотнул Юрий. – Встретишь – не трогай его.[6]
– Ты че, стебешься надо мной? – начал заводиться Пашка.
– Упаси меня бог! Я добрый, белый и пушистый.
– Хороший мент – мертвый мент, – процедил Тетух сквозь зубы, поворачиваясь лицом к стене.
Открыв глаза, Павел не сразу сообразил, что вокруг происходит. Стена, в которую он уткнулся носом, пахла плесенью, по ней ползали мокрицы и бегали тараканы. На одной ноте гудела труба, проходившая как раз над его головой. Свет в помещении был довольно тусклым, воздух затхлым и влажным. Сам он, полностью одетый, валялся на нарах. С соседних – на него щерилось лохматое небритое существо с лицом землистого цвета. За столом восседал тощий дядька с бабским хвостом на затылке. Макая указательный палец в ложку с белым порошком, он сосредоточенно чистил им свои зубы.
В углу комнаты на коленях стоял самый настоящий батюшка. Уставившись в карманный иконостас, состоящий из трех образков – каждый размером с открытку – он что-то бормотал себе под нос. Пашка прислушался. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день и всецело предаться Воле Твоей Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня…».
«Утренняя молитва, – догадался он, переводя взгляд на усатого, коротко стриженного качка, подтягивающегося на вбитой в дверной проем металлической трубе. – Куда я попал? Фантасмагория какая-то!».
Во рту был неприятный медный привкус, живот урчал, в ушах стоял высокочастотный звон, похожий на стрекот кузнечиков. Руки и грудь Павла были покрыты мелкой сыпью и немилосердно чесались. Беспокоила боль в подложечной области. Мужчина попытался встать, сделав рывок корпусом, но приподняться удалось лишь наполовину.
Увидев в своей постели пластиковые бутылки с прохладной уже водой, Паштет вспомнил все. Лучше б не вспоминал… Жил бы счастливо в полном неведении и, подобно Владику, тянул бы всем счастливую лыбу.
– С добрым утром, Павел! – поприветствовал его Русич. – Как самочувствие?
– Издеваешься, бесогон? – спустил тот ноги со шконки. – Как в этом замесе можно себя чувствовать? Только, как камбала, которая уже лежит на сковородке, но глазами еще вращает.
– Ничего, бог управит, – не обиделся Русич за бесогона. – Жизнь от идеала, мил-человек, отличается так же, как метр плотника от эталона в палате мер и весов. Всякое наказание в настоящее время кажется печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности.
В глазах отца Георгия, пойманных в сетку красных воспаленных капилляров, была такая бездонная глубина, что Пашке стало не по себе. Однако согласиться с услышанным не позволяла натура.
– Че-та я не вкурил: причем тут наказание? Ты что, всерьез думаешь, что твой бозя превратил нас в рабов именно за наши грехи? Лично я за свои уже ответил.
Отложив в сторону карманный молитвослов, монах присел на скамью. Его серые, с прищуром, очи смотрели на собеседника остро и испытующе. Пальцы механически поглаживали длинный черный шнурок, на котором висел простенький крестик из белого металла.
– Один древний философ, проданный в рабство, воскликнул: «Хорошо! Теперь я смогу расплатиться за старые долги!». Мудрые люди понимали, что в своих прошлых жизнях не обошлись без того, чтобы взять в долг. За все приходится платить: за успех, за малодушие, за упоение собственным горем… Я уже не говорю о семи смертных грехах.
Тетух спрыгнул с хлипкой шатающейся конструкции.
– Не, я фигею от поповской интерпретации бытия! – всплеснул он руками. – Грехи смертные! Смешно, братцы. Подумаешь: уныние, чревоугодие, гнев… Да это – обычные качества человеческой натуры! Пусть себе гомо сапиенс гневается, завидует, унывает, ест все, что хочет… Кому это мешает? Ой, сера с небес на меня еще не пролилась? – уставился он «испуганно» в потолок. – Кажись, пронесло… Так вот, Русич, поверь мне на слово: районный суд куда стремнее суда Cтрашного.
Переступив через отжимающегося от пола Лялина, Пашка помчался в туалет – его опять тошнило.
– Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства, а Господь хочет, чтобы менялись мы, – бросил ем в спину монах. – Все, что с тобой случается, принимай как доброе, зная, что без Бога ничего не бывает.
Когда Тетух вернулся обратно, все, кроме Юрия, сидели за столом. Лялин же отрабатывал удары на самодельной боксерской груше. «Надо ж как у мусора чердак варит. Я бы не додумался подвесить набитый крупой мешок на торчащий из стены крюк, – подумал он завистливо. – Ну, ничего, на следующем повороте я его, по-любасу, обойду, крест на пузе».
– Павел, что с тобой? Голова не кружится? – прошепелявил монах, натягивая на голову свою скуфейку. – Не делай резких движений, приляг.
– Это не сотрясуха. Это – хронический гастрит… Походу, уже язва.
– Сейчас бы медок хорошо помог, сало, гранаты, алоэ, орехи грецкие… Но нет ведь у нас ничего, даже глины, – расстроился разбирающийся в народной медицине монах.
– Это – судьба. В зоновской медчасти тоже не было никаких лекарств, кроме цитрамона. И откуда только эти хвори берутся?
– Злоупотребление спиртным, неумеренное курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, – отчеканил опер, направляясь в «душевую».
Как ни странно, Паштет не взвился. То ли притерпелся уже к лялинским моралите, то ли счел замечание справедливым.
– Питание? – хмыкнул он. – Трехразовое: понедельник-среда-пятница. Обычное дело для штрафного изолятора, где день – летный, день – нелетный. В летные – жрачка жирная, жуткого качества. Опять же, нервяк на взводе.
– Тебя посодют, а ты не воруй, – процитировал белорус героя Анатолия Папанова.
Это был явный перебор. «Одно дело терпеть подколки мента, доказавшего свое физическое превосходство, и совсем другое – «понаехавшего в «нерезиновую» клоуна из Бульбостана», – рассудил Тетух, разворачивая корпус в сторону Бурака.
– Слышь ты, комедиант! Шуруй на Хутор Угрюмого Йоргена, и будут тебе счастье великое и пряник к чаю. Кстати, о прянике, че нам сегодня господь подогнал?
В этот день Создатель поскупился, как никогда, послав рабам своим прокисший творог и раздувшиеся пакеты кефира. Аппетита у Павла не было совсем, но он хорошо усвоил: если утром не перекусить, замучают изжога и ноющая боль в подреберье.
– Мужики, кто-нить нормально готовить умеет? – скривился он, держась пятерней за живот.
– Оладушки, например.
– Для них сахар нужен, а его у нас мало. На Новый год бережем, – развел руками отец Георгий. – Без сахара никак – нужно кислоту приглушить. Сам видишь, какая у нас молочка.
– До Нового года еще, как до китайской границы, можно и не дожить, – стоял Тетух на своем. – Давайте себя сегодня побалуем.
После некоторых раздумий Русич махнул рукой.
– И то правда. Бог даст день, даст и пищу!
Пока кипятили воду на чай, монах растер ложкой творог, добавил туда кефира, сахара, муки и все размешал. Получилось жидкое, с пузырьками воздуха, тесто. На хозяйстве оказалась бутылка просроченного растительного масла. На нем и жарились оладьи. Вкус у них оказался совсем, как у сырников. Радости узников не было предела. Давно они не едали вкусненького. Так, благодаря Павлу, завтрак превратился в настоящий праздник желудка. Оно и понятно, сырники – не вчерашняя каша на воде.
– А ты – молоток, – стал подлизываться к нему белорус. – И вязать умеешь, и балаболишь потешно, и поешь, и чечетку бьешь … Прям, человек-оркестр!
Глава 4
Паштет
Павел любил, когда ему льстили. И чем грубее была лесть, тем больше она ему нравилась. Во-первых, он сильно недобрал похвалы в детстве и юности. Во-вторых, по природе своей, был артистом, остро нуждающимся в комплиментах, восхищении, знаках внимания. Если б еще на старте его жизнь сложилась по-другому, возможно, сейчас он раздавал бы автографы, купался в свете юпитеров, растворялся в громе аплодисментов.
И все ведь к этому шло: он сочинял уморительные тексты, успешно участвовал в конкурсах рэп-исполнителей, создал собственную музыкальную группу. А многочасовые репетиции в гараже, когда от гитарных струн пальцы превращались в мозоли с прорезями и нужно было наклеивать на них подушечки из лейкопластыря? А конкурсные стрессы, когда победитель определен заранее, а остальные нужны лишь для массовки? И он, Пашка, готов был преодолевать преграды, терпеть унижения, проходить через горнило испытаний, только бы стать звездой. Не стал…
– Сегодня мы пакуем таблетки, – прервал его размышления отец Георгий. – Владик, вытирай стол насухо, Ваня кати сюда бочку с пилюльками, Юрий, ставь на стол вооон тот картонный ящик с наклейками и коробочками.
«А говорил, что у них нет бригадира, – подумал про себя Пашка. – Хотя… Кому ж еще контролировать производственный процесс? Не Зомби же, прибитому пыльным мешком, и не бестолковой богеме, способной лишь языком молоть».
– Значит так, братья мои, засыпаем пилюльки в пластиковые дозаторы – по сто штук в каждую. Иван наклеивает на емкости этикетки и пломбы-голограммы. Да не вверх ногами, как в прошлый раз…
– Бес попутал, – буркнул Бурак, виновато улыбаясь.
– …Ты, Влад, как обычно, мастеришь из заготовок коробочки, засовываешь в них инструкцию по применению и дозаторы, ровненько складываешь все в большой ящик. Ровненько! Чтобы вся тысяча уместились и крышка свободно закрылась…
Владик закатил свои водянистые глаза, приложив к груди грязные костлявые руки, что означало: «Понял, не дурак».
– … Предваряю вопрос новеньких: на глазок засыпать нельзя – не крупа. Если покупатель недосчитается нескольких таблеток, может поднять шум – означенное на этикетке лекарство стоит немалых денег. Всем понятно?
Монах обвел присутствующих глубоким бархатным взглядом. Мужчины закивали головами.
– Тогда приступим, помолясь, – и он зашевелил губами. – … прошу благодати Твоей: помоги нам, грешным, дело сейчас начинаемое нами благополучно завершить. Аминь.
Работа закипела: замелькали руки, зашелестела бумага, сгибаемых Зомби инструкций, застучали по пластиковым тубам фальшивые таблетки.
– Скучно. Ни радио, ни телика, ни прессы, – констатировал Пашка. – Расскажите хоть че-нибудь. Под бла-бла-бла веселей работается.
– Вот ты и расскажи! – толкнул его Иван локтем в бок. – Про жизнь свою, например.
– Ладно, давайте за «жили-были» калякать, – не стал кочевряжиться подобревший после еды Паштет. – Моя жизненная стезя извилиста, как путь анаконды в мусоропроводе. Первый раз загремел я на малолетку в шестнадцатилетнем возрасте. Меня здорово подставили. Жил я тогда с отчимом, Сан Санычем Чмырюком, будь он трижды неладен… Не жаловал он меня, на дух не переносил. Считал неизбежным злом, полученным в довесок к любимой женщине. Мать делала вид, что не замечает его придирок ко мне, а, может, и впрямь не замечала. Она была благодарна судьбе за то, что ТАКОЙ МУЖЧИНА взял ее замуж. Не предложил сожительство, а дал свою фамилию, забрал из Ленинградской области к себе, в Подмосковье, прописал на своей жилплощади.
Познакомились они в сочинском санатории неврологического профиля. Нервишки на тот момент пошаливали у обоих. Сан Саныч как раз развелся с супругой-изменщицей и пережил серьезную проверку столичного главка. Да и должность у него была еще та – начальник оперчасти исправительной колонии строгого режима или, как говорят зэки, кум. При такой работе надо иметь нервы из титановой проволоки. Вот он и отправился на юг их «закалять».
Мать же давно страдала депрессией. Жизнь в коммунальной квартире на четырнадцати метрах вместе с сыном-подростком, более чем скромная зарплата, отсутствие плеча, на которое можно опереться и перспективы что-либо изменить, сделали из цветущей жизнерадостной женщины разочаровавшуюся в жизни пессимистку, убежденную в том, что на ее улице никогда не перевернется грузовик с пряниками. И тут… предложение руки и сердца. Ей, ничем непримечательной гатчинской библиотекарше! Матери-одиночке, никогда не бывшей замужем! Женщине без приданого, с ребенком, у которого в графе «отец» стоит прочерк! И кто? Офицер в звании майора! С высокой зарплатой и собственным домом! Иномаркой и моторной лодкой! Без детей и алиментов! С хорошим чувством юмора и гусарскими усами! Повезло так повезло.
И как при таких раскладах я мог втолковать ей, что Чмырюк наносит мне психологические травмы. То лгуном объявит, то запретит играть на гитаре – «не бренчи на наших нервах, музыкант из тебя все равно не получится», то в краже несправедливо обвинит. Последнее было самым обидным. В то время я был настолько честен, что, найдя на улице червонец, доставал бы каждого прохожего вопросом, не он ли обронил деньги.
Где-то я, конечно, понимал: на отношение отчима к людям тяжелый отпечаток наложила его работа. Всю жизнь общаясь с уголовниками, он в каждом встречном видел своего потенциального «клиента». Как говорил в свое время Дзержинский, отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот Саныч и дорабатывал дома, оттачивая на мне методы дознания, устраивая ловушки и провокации. Проводя дежурные профилактические беседы, Чмырюк доставал мой мозг через уши и жрал его столовой ложкой, пророча при этом долгую дорогу в казенный дом.
В ответ я хватал гитару и под музыкальный аккомпанемент огрызался: «Тра-ля-ля-ля, нас путать не надо… Тра-ля-ля-ля-ля, мы – из Ленинграда», сбегал из дому, ночевал в гараже. А что мне было терять? В воспитательной политике отчима пряник отсутствовал напрочь: подарков они с матерью мне не делали, карманных денег не давали, на море с собой не брали. На все лето сливали к бабке в деревню, что было для меня равносильно декабристской ссылке.
Последняя акция у Чмырюка проходила по графе «Профилактика правонарушений в отдельно взятой семье». На собственные правонарушения он внимания не обращал, считая взяточничество делом житейским. О последнем я узнал, заглянув в его партбилет, где были отмечены уплаченные им партийные взносы, которые составляли три процента от заработной платы. Заглянул и получил потрясение. Откуда при таком окладе у майора ФСИН[7] – собственный двухэтажный дом, дорогая машина, катер, швейцарские часы «Вашерон Константин», а у матери, всю жизнь проходившей в обдергайчиках на рыбьем меху, – сразу две шубы: норковая и мутоновая?
Мерзкий лицемер! Повесил у себя в кабинете растяжку с афоризмом Петра I: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребны люди твердые, честные и веселые» и на полном серьезе считал себя таковым.
С тех пор на все его «ля-ля-тополя» я неизменно отвечал: «Я вас, папенька, тоже очень люблю! Потерпите мое присутствие еще два года».
Терпеть Саныч не стал, избавившись от меня значительно раньше, и я ему в этом здорово помог.
Все началось с создания музыкальной группы. Играли мы с пацанами хорошо, но профессиональной аппаратуры, ясен пень, не имели – одно любительское гауно. Нам нужны были электрогитары, клавишный синтезатор, ударная установка, к ней – том-томы, тарелки, педали, малые барабаны и прочая лабуда, без которой звук – не звук, а завывание падающего с минарета муэдзина.
Мы уже все мозги себе исфоршмачили, а где взять денег на инструменты, так и не придумали. Просить у отчима я даже не пытался – результат знал заранее.
Пушистый полярный зверек, как это обычно и бывает, подкрался с подветренной стороны. Позвонил мне по телефону какой-то незнакомый олень: «Я от Андрея, клавишника вашего, узнал, что вам аппаратура нужна. Могу поспособствовать».
Выяснилось, что наш районный Дом культуры купил себе новые инструменты, а старые собирается списать. Они, правда, здорово потасканы, но вполне исправны – еще вчера играли на «булкотрясе». Если мы поторопимся и к десяти вечера подгоним машину к служебному входу, то сможем избавить руководство очага культуры от лишних забот по утилизации.
Короче, добакланились мы с оленем о встрече на погрузке. Он сказал, что может задержаться. В этом случае, мы можем начать сами. Дверь служебного входа будет открыта, как и дверь подсобки, в которой хранятся инструменты. Последняя находится на втором этаже, прямо напротив лестничного пролета.
От радости я чуть не подпрыгнул и так рванул к Степке-барабанщику, что аж кроссовки задымились. У них была новенькая «Волга», но ни отца, ни старшего брата дома не оказалось, а время поджимало. Не знаю, как я уговорил Степана без спросу взять ключи от машины, но через полчаса мы уже ехали к Дому культуры. Всю дорогу я клялся трясущемуся от страха парню, что никто не узнает о нашем самоуправстве. Что ехать нам всего два квартала. Что я прекрасно вожу автомобиль, дай бог здоровья моему бывшему соседу по гатчинской коммунальной квартире. Что нам несказанно повезло и, благодаря этой аппаратуре, мы сможем не просто выпендриваться перед девками, но и нехило зарабатывать на собственные нужды.
Доехали мы без приключений, поднялись на второй этаж. Дверь в подсобку, и впрямь, оказалась открытой, и там, действительно, находилась списанная аппаратура. Ждать Андрюхиного знакомого мы не стали, к погрузке приступили самостоятельно. Справившись с задачей, тут же помчались обратно – в любой момент мог вернуться отец Степана, которого он боялся, как праведник смертного греха. Скорость, естественно, превысили. Когда до их гаража оставалось всего триста метров, нам под колеса бросился велосипедист, решивший пересечь практически пустынную улицу. Сбив парня, я так растерялся, что вывернул руль вправо и врезался в столб. Передок «Волги» – конечно, всмятку, но на нас со Степкой – ни царапины.
Осознав весь ужас произошедшего, приятель стал биться в истерике. «Запомни, гад, меня в машине не было! Упорол косого – сам и разруливай! Ключей я тебе не давал, понял?! Ты их у нас из дому выкрал, когда ко мне заходил. Угнал ты нашу «Волжану» – покататься хотел. Не буду я из-за тебя рисковать своей шкурой. Это – твой личный головняк!», – проорал он и засверкал пятками в сторону своего дома.
Когда я вылез из-за руля, у меня волосы встали дыбом во всех местах. Мужик валялся на проезжей части и тихо стонал. Велик его стал похож на цирковой уницикл, а «Волга» – на вскрытую консервную банку. Я – без прав да еще и угонщик… Тут я не только печенкой – всем ливером почуял, что тупо попал в жаровню.
Из уличного автомата позвонил отчиму. Вскоре тот примчался вместе со скорой помощью и раздолбанной гаишной «Пятеркой». Велосипедиста забрали в больницу, а меня – в мусарню. Я не сомневался: неприятности будут, но чтоб такие… Родаки за меня вписываться не стали. Ни в больницу – с извинениями, ни к Степкиному отцу – с бабками не пошли. А ведь можно было замаксать – нычка у Чмырюка была нехилая. Но тот – рыльняк рубаночком и – «нихт ферштейн».
Через пару дней выяснилось, что кто-то ограбил Дом культуры, приватизировав не только инструменты, но и музыкальный центр, низкочастотные колонки, микрофоны, радиосистему, микшерный пульт. И тут порядкоблюстители вспомнили, что похожее добро видели на днях в багажнике раздолбанной мной «Волги». В ходе дознания выяснилось, что никакого оленя Андрюха ко мне не посылал, что он вообще впервые слышит о списанной аппаратуре. Степка, как и обещал, врубил Павлика: кататься на машине он мне не разрешал, об ограблении очага культуры ничего не знает. Стоял на этом непоколебимо, как пост ГБДД в кустах у дороги.
Короче, сшили мне дело не просто белыми – фосфоресцирующими нитками. Ведь если по чесноку, виноват я был только в ушибах и сотрясухе велосипедиста, который через неделю благополучно выписался из больницы.
Близкие сдали меня, как стеклотару. Мать даже на суд не пришла. А Саныч… тот явился. Вы бы видели, сколько злорадства было в его взгляде, когда приговор зачитывали! А как же! Он ведь столько раз предрекал мне казенный дом – получите и распишитесь.
Позже я узнал, что матушка все же пыталась подписать Чмырюка на дорогого адвоката, но ему удалось убедить ее в том, что колония для несовершеннолетних преступников – лучший выход для подростка, вставшего на кривую дорожку. Что там я пойму жизнь, научусь ценить родителей и отвечать за свои поступки и вообще. В итоге – высад в три года и
- Журавли над лаааагеерем,
- В сердце острый клииин.
- Журавли над лаааагеерем –
- Ангелы земли.
Такой срок в шестнадцатилетнем возрасте – это тебе не баран чихнул. Это – курсы молодого бойца под девизом: «Не верь, не бойся, не проси»… Они мне очень пригодились, я ведь там свое совершеннолетие встретил, и третий год отбывал уже на взросляке.
– А по УДО освободиться нельзя было? – закашлялся белорус.
Паштет сверкнул своими синими, бесшабашно-наглыми глазами.
– Увы! Паинькой я не был. Темперамент не тот – всегда умудрялся вписаться в блудняк, оказавшись в ненужное время в ненужном месте. За это не раз заезжал в ШИЗО. На моем личном деле была «полоса», означающая «склонен к бунту». В результате, получил следующую характеристику: «…положительного поведения не закрепилось. Требования режима содержания и правил внутреннего распорядка не выполнял. К труду относился отрицательно. Участия в общественной жизни отряда не принимал. Эмоционально неустойчив, раздражителен…» и т. д. и т. п. Какое при таких раскладах УДО? С самого начала нельзя было за решетку попадать. Зона не исправляет, она шлифует преступные навыки.
– Дааа… Неправый суд разбоя злее, – покачал головой монах, прищелкивая крышечку к корпусу дозатора.
– Ужас! – выдохнул Бурак. – Так это отчим тебя подставил с аппаратурой?
– Не исключено, – почесал Тетух шрам на виске. – Но знаю точно: если б он захотел, я получил бы условный срок – Чмырюк знал всю мусорскую и прокурорскую движуху. На зоне я спал и видел: отомщу ему так, что мало не покажется. А по выходу решил, что бог его и так покарал. Зеки в колонию приходят и уходят, а Саныч за колючкой пожизненный срок мотает. К тому же, матушка померла, пока я сидел – тромб у нее оторвался. Этот гад так убивался, что поседел весь. Посмотрел я на него издалека и отменил вендетту.
– А шрам у тебя с малолетки? – робко поинтересовался Владик, которому эта тема была до боли близка.
– Не-а, это уже позже менты приложили меня башкой к ребру металлического сейфа. Признание выколачивали. Сначала пакет на голову надевали, потом по почкам били вот такими же пластиковыми бутылками, наполненными холодной водой…
– За-чем? – одновременно произнесли Бурак, батюшка и Владик.
– Чтобы следов не осталось, – удивился Паштет их неосведомленности. – Если вода в бутылке достаточно холодная, даже синяки не появятся. И бьют ведь, мрази, пока не обоссышься. Если грамотно приложить в живот или со спины по почкам, организм сработает чисто рефлекторно, защищая мочевой пузырь от возможного разрыва… После таких ударов возьмешь на себя все, вплоть до нераскрытых терактов.
– Ангел с хрустальной арфою во длани и одуванчиками в перстах, – презрительно хмыкнул Лялин. – Трижды ошибочно изолированный от общества, трижды оговоривший себя под пытками, три срока отмотавший ни за что ни про что… Знакомая песня. Каждый зек уверен, что он не виновен. Виноват всегда опер, следователь, прокурор, адвокат, система, скверные друзья… В социальной психологии это называется фундаментальная ошибка атрибуции.
– А разве шел базар о трех разах? Два следующих срока я схлопотал абсолютно за дело…
– Расскажи, а, – стал канючить Владик.
Тетух для порядка поломался, искоса поглядывая на Лялина, но благодарная публика уговорила его продолжить исповедь.
– Судьба забросила меня на Дальний Восток. Там мы с корешем моим продавали лес одной японской фирме. Она нам – валюту на счет, мы ей – качественную древесину. Нанимали пьяниц, селили их на делянке. За жрачку и самогон мужики пилили деревья, грузили их на лесовозы…
– А криминал-то в чем?
– А в том, что разрешение у нас было лишь на старые больные деревья. Если б алкаш один не окочурился, подставив свою тушку под падающее дерево, жил бы я сейчас, господа, на собственном острове в каком-нибудь экзотическом море. Лечил бы свою язву, наслаждался танцами прекрасных аборигенок, вкушал с утра до вечера нектар и амброзию…
– А вы, поэт, ваше благородие! – вставил Юрий свои пять копеек. Ну, не мог он не зацепить рассказчика, ибо был тем самым «зятем», который не ходит без шуток мимо тещиного дома.
– Есть такое дело, сочиняю, – на полном серьезе ответил Пашка оперу. – Опять же, я – сын библиотекаря и за первые пятнадцать лет прочел столько, сколько ты за всю свою жизнь не осилишь. Папашки-то у меня не было, дедка с бабкой за тридевять земель жили, в садике и школе я все время болел, вот и провел полжизни у матери на работе. Сидел, в уголке, как мышонок, читал классику. Не детективы с анекдотами, а Джека Лондона, Марка Твена, Жюля Верна, Майна Рида, Стефана Цвейга…
– Не отвлекайся, – дернул его за рукав Владик, – рассказывай про вторую ходку.
– Повязали меня, короче. Если б я покаялся, подельничка за собой потянул, деньги сдал, с правохрЕнителями поделился, много бы мне дали, но… как говорят евреи, шоб я сразу был такой умный, как моя Сара – потом. В общем, пошел на принцип – «и вот опять предо мной: параша, вышка, часовой».
Я ведь, лошара, думал, что, оставляя дружка на воле, обеспечиваю присмотр за нашим с ним счетом. Опять же, на гревак рассчитывал и на моральную поддержку, а главное – на то, что, отмотав срок, смогу вести праведную обеспеченную жизнь, но… Время показало, что дружбану моему на меня – полный барабир: на свиданке ни разу не появился, на письма и звонки не отвечал, а через год вообще растворился на бескрайних просторах Вселенной. До сих пор числится в пропавших без вести. Меня по жизни часто предавали, но этот удар я перенес с трудом. С тех пор не верю никому. Не верю, не боюсь и не прошу ничего ни у кого.
– А третья судимость? – не отставал Владик.
– Третья? – сделал паузу Павел, отсчитывая очередную сотню таблеток. – Это я уже в зоне «раскрутку дал».
– Что… дал? – не понял Бурак.
– Совершил преступление в ИТК, за что мне докинули два с половиной года «за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения и причинение средней тяжести вреда здоровью представителя власти». Проще говоря, дал по рогам одному борзому дубаку, который смотрел на зеков, как на последнее дерьмо. Эту жестоковыйную скотину давно надо было за бейцы подвесить – достал сидельцев до глубины мочевого пузыря.
Так вот, на основании семидесятой статьи, «по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда» грузанули меня на пятерочку особняка[8]. Чтоб осознал, так сказать, где кончается жизнь и начинается судорога. «Я понял, мне не видеть больше сны, Совсем меня убрали из Весны», – прохрипел Тетух голосом Высоцкого.
– Мужики, а что это у вас так тарабанит? – привстал со своего места Лялин.
В ответ раздалось тройное «где?».
– Да вы че, совсем глухие? Вот же! – поднял он вверх палец. – Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах!
Все замерли, прислушиваясь к глухим звукам, доносящимся через зарешеченное отверстие вентиляционной системы.
– А, вот вы про что! – расслабился белорус. – Так это – наша единственная связь с большой землей. Оттуда к нам крысы приходят, там иногда филин ухает и дождь шумит… А то доносится колокольный звон, по которому мы воскресные дни определяем. У отца Георгия слух отменный. Он, как колокол заслышит, сразу креститься начинает. Ну, и мы, нехристи, – следом за ним: вдруг да поможет.
– Воистину так! – кивнул головой Русич. – Икона – это молитва в красках, храм – молитва в камне, а колокол – молитва в звуке, икона звучащая. И если колокольный звон – наш календарь, по которому мы недели отсчитываем, то этот грохот – будильник. Видать, недалеко стройка находится – в восемь утра уже начинает громыхать.
Опер напряг слух.
– Дизель-молот, – определил он. – Хотя нет… свайный вибропогружатель. Под окнами моего дома в Кунцево – такая же дискотека. Надо б у джигитов выпытать, что наверху строят. Тогда мы определимся с нашим местоположением.
– Мне в падлу контачить с чуркобесами, – вскочил Паштет на ноги, рассыпав на пол свои таблетки. – А вы, долбоклюи, унижайтесь дальше, тьху на вас…
– Совсем на башку отбитый! – констатировал Юрий. – Чтобы выбраться на волю, нужно установить психологический контакт с самым их слабым звеном, которое может стать: а) источником информации, б) поставщиком необходимых нам благ, с) помощником в осуществлении плана побега.
– Капитан дело говорит, – оживился Бурак, отдирая от дозатора приклеенную вверх ногами этикетку.
– Ну, и целуй его в десны, а хачиков – в задницу, – выкрикнул Тетух, и его рука снова потянулась к шраму. То, что недавний поклонник так быстро переметнулся во вражеский стан, взбесило мужчину, и он еще долго бубнил себе под нос различные ругательства, самым приличным из которых было «гастролер из Бульбостана».
Бурак был совершенно невозмутим. Коленца, которые выбрасывал новенький, его уже не пугали, а развлекали.
– Художника должен обидеть каждый, – картинно поправил он сползшие с носа очки. – Таков удел творца!
Глава 5
Бурак
В трудах праведных день промелькнул удивительно быстро. После ужина, состоящего из консервной банки кошачьего корма и двух кусков хлеба, на душе у Павла было особенно тяжело. Нет, к паштету, оказавшемуся внутри емкости, у него претензий не было. Вполне себе съедобная намазка и просрочена-то всего на неделю, но то, что он дожил до положения домашнего животного, не давало покоя уязвленному самолюбию. В его, полной авантюр, жизни бывали ситуации и похлеще. Чего только стоила параша в общей камере СИЗО, где на глазах у всех нужно было справлять нужду. А соседство с туберкулезниками и ВИЧ-инфицированными, отбывающими наказание вместе со здоровыми? А закрытая жестянка с консервами на завтрак, когда нет ни ножа, ни открывалки? Сидишь на корточках и трешь банку о бетонный пол, пока не стешешь жестяной край. Как говорится, бывало и хуже, но реже…
Но самое обидное то, что до уровня животного его низводят какие-то лезгиночники. В местах заключения «детям гор» сразу разъясняют их место в подлунном мире, а на воле они берегов не видят. Понаехали в столицу и давай барагозить: из ружей палят, наркотой торгуют, людей воруют, на Курбан-байрам режут своих баранов прямо на детских площадках. Была б его, Павла, воля, он бы всю эту дикую орду загрузил на ледокол и вывез бы куда-нибудь в Антарктиду. Пусть бы перед пингвинами распальцовывались.
Лялин сейчас раздумывал над тем же.
– Мужики, – обратился он к старожилам, – расскажите мне о бандитах все, что знаете: сколько их, как кого зовут, кто из них главный, как себя ведут…
– Видим мы их дважды в неделю. Приезжают на машине ближе к ночи или ранним утром, – начал, прокашлявшись, Бурак, больше года ведущий «персональную картотеку» на трубах подземелья. – Главный у них – Аслан. Мы его ни разу не видели, но неоднократно слышали, как эти черти упоминали между собой его имя. С почтением таким, с придыханием, как говорят о строгом, но справедливом начальнике. Галдели, конечно, по-своему, но по интонации было понятно, что они пугают им друг друга. Мол, если Аслан узнает, на нитки расплетет.
Являются они, как правило, тройками – один входную дверь стережет, пока два других продукцию к машине выносят. Состав банды таков: Муса, Иса, Нияз, Умар и Заман. Да, есть еще один – безымянный. Он у них – на побегушках. Между собой мы зовем его ППП – подай-принеси-пшел вон. За все время мужик не издал ни звука. Скорее всего, немой. Бригадир этого зверинца – Муса. Он и по-русски сносно говорит, и соображает лучше других, и выглядит цивилизованно. Симпатичен, высок, накачан, руки постоянно согнуты в локтях – поза драчуна, готового к нападению. Одевается элегантно: кашемировое пальто, шелковое кашне, твидовый костюм.
Нияз и Умар по-русски говорят чуть хуже, но мы их и так понимаем. Выучили уже, что бид – это дерьмо, хак – свинья, тхо диц ма де – закрой рот. Самый добрый из них – Заман, он не ругается, не угрожает, не штрафует. За него это делает Иса. Этот жесток до крокодильства и примитивен до крайности. Любит издеваться. Покажет что-то съедобное в ящике – кусок колбасы, рыбий хвост, пирожок с ливером – и со словами «лучче сабака на улица пакармлю» забирает обратно. К тому же, он редкий урод: невысокий, кривоногий, с ручищами, достающими до колен. В любое время года – в белых кроссовках, кожаной куртке и спортивных штанах с лампасами.
Заман тоже не красавец: плотный, лысая башка прямоугольной формы, иссиня-черная борода, в коротких толстых пальчиках все время теребит четки. К нам относится нейтрально, в отличие от брызжущего слюной Нияза. Тот – сильно дерганный, вечно всем недовольный, постоянно жует жвачку…
– Насвай[9], – вырвалось у Паштета, хорошо ориентирующегося в подобных вещах.
– Может, и «цвай», – пожал плечами белорус, – я в жвачках не разбираюсь. Так вот, Нияз этот высок, угловат, неуклюж. Черные волосы ниспадают на лоб, полностью закрывая левый глаз. Шею пересекает безобразный лиловый шрам. Руки дергаются, как у нервнобольного. Зол, как бездомный пес, и вонюч, как скунс. У нас тут тоже не розарий, но после его визита – хоть кислородную маску надевай.
Паштет нервно забарабанил пальцами по столу.
– Весело у вас в колхозе… Да ты продолжай, продолжай.
– Его напарник Умар та еще пачвара[10]: стеклянные отмороженные глаза, толстый мясистый нос с вывороченными ноздрями, мощные выпирающие челюсти, покрытая веревками вен шея, вечно взъерошенные волосы. Большой любитель китайских спортивных костюмов и толстых золотых цепей.
Да, чуть не забыл: у всех у них, кроме Мусы, во рту – золотые коронки.
– Так это чичи или даги?
– Хрен их поймет. Я кавказцев вообще не различаю.
Какое-то время Юрий молчал, обдумывая услышанное.
– Стало быть, самое слабое звено – толстяк Заман. С ним и будем работать.
– Работать?! – дернулся Тетух, как ужаленный. – Завалить всех в ухнарь, и все будет в елочку!
– Ну да… – задумчиво протянул Лялин, постукивая по столу пустой кружкой. – Война – фигня, главное – маневры.
– Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, – едва слышно произнес
Русич.
– Глохни, сектант! И ты, мент упоротый! И ты, лицедей самодеятельный, тоже глохни! Можете и дальше смотреть на этих ублюдков, как бараны на забойщика скота, мне с вами не по пути, микроцефалы вы тупорылые! – вскочил он на ноги и скрылся за углом.
– Если оппонент переходит на личности, значит, он плохо владеет предметом дискуссии, – спокойно заметил отец Георгий.
– Скажу больше, – добавил Бурак. – Если у Боба – проблемы со всеми, то проблема – сам Боб.
– Плюсую. Жаль, что мы больше не увидим нашего друга Паштета! – с серьезным видом произнес Лялин, и все дружно засмеялись.
Из-за угла тут же показалась рука Тетуха с выставленным вперед средним пальцем. Убойный аргумент! Оно и понятно: драться – себе дороже, а покинуть «подводную лодку» нельзя – все люки задраены.
Отца Георгия трудно было вывести из себя. Он отличался спокойствием и библейским терпением, какое бывает в генах только у обладателей многовековой культурной матрицы.
– Не судите его, братья, да не судимы будете, – прошелестел монах сухими губами. – Душа Павла мается, без веры ей опереться не на что. Ему бы открыть сердце Господу да посмотреть на мир без злости… Вера – это внутренний стержень, помогающий людям пережить глубокие потрясения. Об этом, кстати, и Солженицын писал в своем «Архипелаге», и Гроссман в романе
«Жизнь и судьба».
– Блажен, кто верует – тепло ему на свете, – с ироничной улыбкой процитировал Чацкого Бурак.
– Господь любит атеистов. Они не грузят его своими проблемами, – хмыкнул опер.
– В окопах атеистов нет, – философски заметил Русич. – Когда беда случается, человек ищет точку опоры. Ежели у него все ладно, он в церковь не ходит, посты не соблюдает, не молится, не исповедуется, не причащается, Закона Божьего не знает, Библию не читает, а потом удивляется, что Господь ему не помогает.
Что же до Павла, то парню просто не хватает любви. Человек – арена борьбы добра и зла. Сам по себе он ни хорош, ни плох, и принимать его надо таким, как есть.
– Принять мужчину таким, каков он есть, может только военкомат! У остальных есть требования. Да и кому сейчас любви хватает? Тебе, Иван? Тебе, Владик? Или, может, мне? Времена нынче не шибко вегетарианские. Так что ж нам теперь… кидаться друг на дружку? Зарывающемуся человеку необходимо указывать границы дозволенного.
Поняв, что спор повышает градус напряжения, Бурак решил вмешаться:
– Вот что, други мои, давайте сделаем перерывчик, позовем Павла и почаевничаем. Интересно, где он сейчас.
– Бродит по лабиринту, как арестант по Нерчинскому тракту. Не по понятиям ему общаться с нами, козлами валдайскими, – предположил Лялин.
– Павлуша, э-ге-гей, – сложил Русич ладони рупором. – Мы тебя ждем. Война – войной, а чаепитие – по расписанию.
Тот сразу же вышел из-за угла, где сидел на корточках, подслушивая речи сожителей. За стол он не сел, а с обиженным видом взобрался на нары, достал крючок, клубок с полипропиленовыми полосками и принялся вязать коврик.
– Как хочешь! – сдвинул плечом Русич. – Была бы честь предложена.
Иван достал из металлического шкафа хлеб и изрядно засахаренное варенье, сделал небольшие бутербродики – гулять, так гулять! «Завтра у нас – «родительский день», – сообщил он Лялину, разливающему кипяток по кружкам. – Будет новый подвоз хлеба, чая и, очень надеюсь, варенья. А то у нас с сахаром всегда напряженка.
Тетух громко сглотнул слюну.
– Ну что, Вань, теперь ты расскажи о себе, – запихнул Юрий в рот сладкую тарталетку.
– Вообще-то в моей жизни ничего примечательного нет. Но слушайте, если охота.
Мне полста лет. Родился я в Западной Беларуси, в городе Гродно в театральной семье. Родители служили в областном драматическом театре. Матушка руководила литературно-драматургической частью, батя – столярным цехом, занимающимся изготовлением декораций. Белорус я лишь наполовину – по отцу. Бабка по линии матери, Алисия Болеславовна Закржевская, – из польских дворян. Махровая католичка. Таскала меня в детстве в костел, там и окрестила без ведома родителей – мать была членом партии, отец – православным. Они бы не одобрили ее самодеятельности.
Баба Лиса ежегодно, в июле, отправлялась в паломничество к почитаемой католиками Будславской иконе Божьей Матери. Когда мне было восемь лет, она взяла с собой и меня. По дороге я от нее сбежал. Мне было жутко стыдно за бабку-богомолку, и я панически боялся встретить по дороге кого-нибудь из знакомых.
Чтоб уже не возвращаться к вопросу веры, скажу сразу: я – агностик. Верю в Абсолютный Космический Разум, а никак не в то, что насочиняли «торговцы опиумом для народа». Как сказал один мудрый философ, религия – это иррациональная вера и беспочвенная надежда, существующая с тех пор, как первый лицемер встретил на своем пути первого дурака. Убежден, что есть законы Природы. Соблюдаешь их – живешь в Гармонии, нет – погибаешь. А «Евангелие» вообще полно противоречий. Да и у Христа хватает заповедей, которые никто не соблюдает по причине их абсурдности. Человека карают только те боги, в которых он верит. А, значит, надо действовать по обстоятельствам. Так, чтоб и совесть не мучила, и он сам был собой доволен. Что же до общения с Господом, тут я солидарен с поэтом-сатириком:
- С Богом я общаюсь без нытья
- И не причиняя беспокойства;
- Глупо на устройство бытия
- Жаловаться автору устройства.
– А еще есть классный анекдот, – перебил белоруса Лялин. – «Святой отец, я хочу исповедаться. – Заведи Твиттер и отвали!» Ха-ха-ха-ха!
На губах Русича была умиротворенная улыбка. Он смотрел на них с Иваном, как отец смотрит на неразумных детей. Его открытое одухотворенное лицо вызывало безоговорочную симпатию, а плавные движения рук и тихий голос просто завораживали. Опер вглядывался в отца Георгия и не мог отделаться от мысли, что раньше его уже видел. Вот только где?
«Если ты не веришь в Бога, это еще не значит, что Бог не верит в тебя, – стряхнул он крошки с бороды. – Христос сказал: «Где двое и более соберутся вместе, там и я между вами». У каждого из нас должно быть собственное распятие, помогающее выпрямить спину, когда мозг и сердце отказываются работать».
– На эту цитату у меня есть другая: «Опасайтесь верующих, ибо у них есть боги, которые прощают им всё», – парировал Бурак.
– Вспомнил! – заорал вдруг Лялин дурным голосом. – Я вспомнил, где раньше видел твое лицо.
– Это вряд ли, – покачал головой Русич. – До этого пристанища я несколько лет жил в монастыре, в Калужской области.
– Да точно! Я ориентировку на тебя видел в позапрошлом году. И не только в Управлении. Листовки с твоим портретом «Внимание! Пропал человек» были расклеены на всех углах, остановках и станциях метро – ваши монастырские постарались, они и волонтеров из семинарии подключили. Тебя здорово искали, а ты, как сквозь землю провалился…
– ПОД землю, прости Господи мои прегрешения, – перекрестился монах.
– А меня, случаем, никто не искал? – с надеждой в голосе произнес Бурак.
Опер всмотрелся в бледное лицо с фиолетовыми прожилками, выдающими в Иване страстного поклонника Бахуса. Высокий лоб с небольшими залысинами, четкие надбровные дуги, аккуратная аристократическая бородка. Умные внимательные глаза, глядящие из-под стекол модных очков, костяные заушники которых находятся не за ушами, а поверх них, туго прижимая последние к черепу…
– Тебя б я запомнил. Да ты не расстраивайся. Батюшку вон искали, а результат-то один: все мы опустились не просто ниже плинтуса – ниже канализационных труб.
В глазах белоруса блеснули слезы.
– Не в этом дело, где я сейчас, а в том, что нет на свете никого, кто мог бы меня недосчитаться. Правду говорил великий Вертинский: «Актер всегда один. Зато он Бог! А Боги одиноки».
– Скромненько и со вкусом, – хмыкнул опер. – Не зря в старину лицедеев, хоронили за кладбищенской оградой. Заслужили, видать.
– Добрый вы у нас, Юрий, милосердный… Прям, дядя Степа из детской книжки.
Лялин снисходительно ощерился.
– Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя, на самом деле, у них – слабые нервы… и подвижная психика.
– Не обращай на мента внимания – он тебя троллит, – приступил к евербовке союзника Павел. – Рассказывай дальше.
Тяжело вздохнув, Иван продолжил:
– Родители мои умерли, друзей не нажил, жена с дочкой живут в Польше, они от меня отреклись…
– Почему? – вытаращил глаза Владик.
– Пил горькую. Как сказал персонаж Островского по фамилии Шмага, мы – артисты, и наше место в буфете…
«Не зря я в ВШМ[11] так дотошно физиогномику изучал, – подумал Юрий. – Теперь по любому фейсу читаю, как по «Букварю».
– … Нет, на жену я не обижаюсь. Ее достал мой образ жизни. Она со мной здорово намучилась: подшивала, кодировала, гипнотизировала, у бабок заговаривала, читала надо мной молитву «Да воскреснет Бог». Увы… Пьянство стало для меня образом жизни. Как премьера – ресторан, танцы на столах, битье посуды, стрельба из бутылок шампанского, солидные чаевые официантам. Домой являлся синий, как Аватар. Получив зарплату, раздавал долги. Опять же, супружеские измены по пьяни… Как пел гениальный Вертинский:
- Я знаю: даже кораблям
- Необходима пристань.
- Но не таким, как мы! Не нам!
- Бродягам и артистам!
Супруга сначала роптала, потом сделала себе «Карту поляка» (в ее генеалогическое древо затесался один захудалый пшек) и стала ездить торговать в Польшу – жить-то на что-то надо было. Там познакомилась с ляхом Болеком и навострила лыжи в Евросоюз. Со мной развелась, но оставила все добро: квартиру с обстановкой, машину, гараж. За это я подписал ей разрешение на вывоз Алеси за границу. Профукал ребенка по пьяни. Дочь мне не пишет, не звонит. Слежу за ее взрослением по социальным сетям, где она выставляет свои фотографии. Виноват я перед девчонкой: мало внимания ей уделял, часто забывал о своих обещаниях, бывал несправедлив.
Когда они эмигрировали, пить стал еще больше. Одиночество душило меня так, что потребность в горячительном стала регулярной. Сначала я пил не много, потом все больше, и вскоре ежевечерние три бутылки стали нормой. Я даже на спектакли являлся с белочкой на плече. Долго этого терпеть не стали – выгнали вон. И тут я окончательно понял, что не могу жить один. Что мне нужны забота и внимание. В крайнем случае, перебранки. Сошелся я с одной санитаркой из морга, которая таскала с работы спирт. Употребляли вместе, допиваясь до глюков. Однажды она приперла денатурат, и я чуть не отдал богу душу. Когда вернулся из «беличьего питомника» домой, с удивлением обнаружил, что я – в долгах как в шелках. Что меня лишили водительских прав. Что обо мне, как о чеховском Фирсе, все дружно забыли. И в антрепризе, и на телевидении, и в рекламных агентствах, где я иногда подрабатывал. Что денег нет не только на пойло, даже на сухари… Бяда! Пришлось продать машину и гараж.
Кинулся я в ноги режиссеру антрепризы. Напомнил ему, что играл в «Тряпичной кукле», «Возвращении Дон Жуана», «Мамаше Кураж», а за роль Уоррена в «Полете над гнездом кукушки» даже Специальный приз получил на международном фестивале «Славянский венец». Бесполезно. Тот ответил, что талант без дисциплины – как кофе без чашки: не напьешься, а только ковер испачкаешь. С тех пор моим единственным заработком стали поездки по стране с литературно-музыкальной композицией, составленной из стихов советских поэтов. Ах, какие это поэты, мужики! Один Александр Володин чего стоит! Вы только вслушайтесь:
- А легко ль переносить,
- сдерживать себя, крепиться,
- постепенно научиться
- в непроглядном рабстве жить?..
- …Мол, дотерпим до зимы…
- Проползли ее метели.
- Так до лета неужели
- как-то не дотерпим мы?
- А потом до той зимы…
Иван оказался талантливым чтецом. Хорошо поставленный, насыщенный обертонами голос, безупречная дикция, пластичные движения тонких аристократических пальцев втягивали слушателей в его орбиту и побуждали к сопереживанию. К концу декламации в глазах у Владика стояли сентиментальные слезы. Русич смотрел куда-то невидящим взглядом, и лишь легкое подрагивание рук свидетельствовало о том, что Бураку удалось задеть глубокие струны его души. Даже у Паштета, молча, орудовавшего крючком, перехватило горло и по скулам заходили желваки. Правду говорят, талант не пропьешь.
– А вот еще одна очень сильная вещь…, – дорвался до свободных ушей соскучившийся по сцене белорус.
– Вань, завязывай с кладбищенской лирикой. На душе и так тошно, – скривился глухой к поэзии Лялин. – Расскажи лучше, зачем в лицедеи подался. Не мог ведь не знать об их «профессиональной» болезни.
– А куда я еще мог податься, если вырос в театре? – поправил тот сползающие с носа очки.
– Дужки надо поджать, – заметил опер. – Давай сюда свой пердимонокль. Я правильно произнес это слово?
– Нет, – замотал головой артист, протягивая капитану очки. – «Пер дю монокль» – это старый театральный термин, означающий крайнюю степень удивления, при котором взлетает бровь и из глаза выпадает монокль. Обычно сие выкрикивают при полном восторге или полной неудаче.
– Надо же! Век живи – век учись.
– … а дураком помрешь, – процедил Паштет себе под нос.
Пока Лялин возился с очками, батюшка еще раз вскипятил воду. Чтобы придать чаю хоть какой-то вкус, порезал яблоко на тонкие, почти прозрачные, пластинки и опустил их в разлитый по кружкам кипяток.
– Так вот, – продолжил свой рассказ белорус. – Театр стал для меня преодолением комплексов. Затюканный мальчишками, незамечаемый девчонками, я был мишенью для острот во дворе, школе, пионерлагере. А все из-за своих огромных, дико торчащих ушей.
Не видевшие до сих пор отклонений во внешности Бурака мужчины стали пристально изучать его уши. Ради этого Пашка даже свесился со своей полки. Не прижатые к голове дужками очков, они оказались не столько большими, сколько оттопыренными. «Разве это трагедия для мужика?» – подумал каждый из присутствующих.
Видя недоумение в глазах сожителей, Иван продолжил:
– «Вот идут трое: Ванек и его уши», – сыпала соль на незаживающую рану математичка Гордислава Ладимировна, и весь класс покатывался со смеху. Друзей у меня не было, приятелей тоже, разве что сосед Генка, с которым мы вместе ходили в школу.
Именно поэтому я все свободное время проводил в театре. На артистов смотрел, как на небожителей и мечтал, что когда-нибудь мои обидчики придут в театр, увидят меня на сцене в главной, обязательно героической, роли и поймут, как были неправы, потешаясь над щупленьким, стриженым «под чубчик», ушастым пареньком.
– Кака трагэдь! – хохотнул Лялин, обсасывая яблочную пластинку. – Дети всегда дразнятся. Меня, например, в школе Лялькой обзывали. Мне это жутко не нравилось, но ничего – выжил.
– Вы, Юрий, часы и трусы не сравнивайте, – махнул Бурак рукой в его сторону. – У вас было отфамильное прозвище. Это не обидно. А я все школьные годы проходил Апахавэлаком.
– Кем? – не поняли мужчины.
– Апахавэлак по-белорусски – Чебурашка. И надо ж было так совпасть, чтоб и соседа моего звали Генкой. Идем мы с ним после школы домой, а нам в спину кричат: «Апахавэлак и яго сябр Алигатар Геннадзь!». Ну, вы поняли: «Чебурашка и его друг крокодил Гена!». От отчаяния в эти минуты я готов был самоубиться.
Видимо, в качестве компенсации природа подкинула мне завидную память. Голова у меня, как мусорное ведро – все, что услышу, аккумулируется и остается там навсегда. Что интересно, я и позже никогда не забывал текст, в каком бы подпитии ни находился. Так вот, ежедневно околачиваясь на репетициях, я автоматически выучил весь репертуар. Весь! Текст каждого актера в каждой пьесе. Когда это выяснилось, меня стали использовать в качестве суфлера, а чуть позже и актера. Я переиграл все детские и подростковые роли репертуара. К моменту поступления в театральный у меня уже был такой послужной список, что нужно было пройти только собеседование.
Можно сказать, что моя детская мечта осуществилась, но… ни лирических, ни героических ролей мне ни разу не предложили, все больше комедийные. А всё они – уши. Что я только с ними ни делал: прикрывал волосами, клеил к голове при помощи жевательной резинки. Чуть позже в ход пошел скотч, затем – клей для гримирования. Я много лет играл с приклеенными ушами. Дома носил обруч, на улице – бейсболку. Сколько себя помню, собирал деньги, сначала на отопластику, затем – на лазерную коррекцию ушного хряща, но не справился – слишком дорогое удовольствие. Осилил лишь очки по спецзаказу, с пружинами, прижимающими уши к голове.
– Что за чушь! – возмутился опер, сжимая и разжимая пружины дужек. – Ты что, голубой? Дмитрию Певцову его оттопыренные уши не мешают быть секс-символом и играть героев-любовников. Или этот… голливудский звездун… – защелкал он пальцами, припоминая фамилию. – Уилл Смит! Этот с лихвой компенсирует лопоухость природным обаянием и чувством юмора. Тут, батенька, дело в чем-то другом.
– Сегодня это совсем не проблема, – подключился к дискуссии Русич. – У нас в монастыре послушник один проживает – Максим, так у него за ушами находятся специальные силиконовые корректоры. Их не видно, они прозрачные. Держатся долго и параллельно лечат ушной хрящ.
– Да ты что! – аж подскочил артист. – Где они продаются?
– Как только отсюда выберемся, подарю тебе этих заушников на пять лет вперед, – протянул ему Юрий очки. – Ты не отвлекайся, рассказывай, как дошел до такой жизни.
Бурак водрузил свой «монокль» на нос, прижал дужками уши и продолжил:
– Когда я уже окончательно махнул рукой на лицедейство, раздался международный телефонный звонок. На том конце провода был мой бывший коллега Димка Ксендзевич. В свое время он женился на москвичке и перебрался к ней в Белокаменную. Супруга воткнула его в кинотусовку. Теперь Димон почти в каждом сериале снимается, поочередно играя то мента, то бандита. Он, когда устроился, и меня туда звал, но я струхнул. Лень, печать никчемности, страх перемен – мои Эринии, витающие над головой, куда б я ни подался. Да и страшно было подвести человека, зная, что вдохновение свое черпаю граненым стаканом…
На этот раз Ксендзевич предложил мне конкретную работу: «Мы запускаемся с сериалом «Послание с «того» света». На трехминутный эпизод нужен актер, способный убедительно сыграть поэта-алкоголика. В кадре он будет пить и читать прозаику-собутыльнику свои стихи». Сказал, что уже показывал мое фото режиссеру. Тот сразу одобрили предложенную кандидатуру, выкрикнув: «Какой типаж!». Вот до чего я допился… Какой срам!
С ответом я долго не раздумывал. Понял: это – последний шанс, и если я его не использую, удача всегда будет отвечать одно и то же: «Ждите ответа… ждите ответа… ждите ответа…». Дав приятелю предварительное согласие, я стал спешно приводить себя в порядок. Пить бросил. Купил палки для скандинавской ходьбы, шагомер с определителем расстояния и потраченных калорий. Утром и вечером ходил на Тропу Здоровья в наш местный лес под названием Пышки. Довел нагрузки до шести километров. Стал принимать контрастный душ. В общем, начал новую жизнь.
Вскоре курьер принес мне билет на поезд, я собрал чемодан, отдал соседке ключ от квартиры и отправился в Первопрестольную. Доехал благополучно. На вокзале познакомился с молодым человеком, он тоже приехал из Беларуси. Поскольку оба хотели есть, – в вагоне-ресторане цены «кусались» – мы решили где-нибудь перекусить. Ну, а дальше, я вам уже рассказывал, зашли мы в кавказскую закусочную, рядом с магазином «Спортивное питание». Съели по два чебурека, выпили по бокалу пива. По всему телу разлилась предательская слабость. Мне сразу стало так хорошо, что уходить не хотелось, однако нужно было еще добраться до моего отеля. Земляку оказалось со мной по пути. Он поймал какую-то машину – какую, убейте, не вспомню, – сильно кружилась голова и асфальт уже плыл под ногами. Бросил я чемодан в багажник, сел на заднее сидение и… все. Больше ничего не помню.
– Ясен перец! – чертыхнулся опер. – Одна капля препарата в напиток, и ты уже – получеловек. Причем, известный всем клофелин уже отошел в небытие. Расслабляющие препараты, которые сейчас применяют преступники, не относятся к сильнодействующим и свободно продаются в аптеках. Надо просто знать, с чем их смешивать и в каком количестве. Тогда даже самого крепкого чела развезет от одного глотка.
– Да разве ж я спорю? – произнес Иван с досадой. – Был бы умным, не сидел бы сейчас за этим столом. Не остался бы без денег, без документов, без мобильника. Спасибо, хоть чемодан вместе со мной забросили. У меня ведь там: туристический раскладной нож с вилкой, ложкой и штопором, две смены белья, банное полотенце, аптечка, несессер с бритвенными принадлежностями… Повезло. Но главная удача в том, что, в отличие от батюшки, попал я сюда в ноябре и был по-зимнему экипирован. Теперь вот своим пуховиком укрываюсь, как одеялом. Набив капюшон полипропиленом, сделал из него подушку. Опять же, термобельишко на мне из шерсти мериноса – кальсоны и футболка. Без них бы уже загнулся – у меня сосуды слабые.
– Дааа, свезло, так свезло, – задумчиво произнес Лялин. – Лучше б ты у вокзальной торговки кулек вареной кукурузы купил.
– Каб чалавек ведав, дзе спатыкнецца[12]. А Ксендзевич… тот, конечно, в розыск не подал.
Ему известно мое пристрастие к зеленому змию. Решил, видно, что я «запил и забил».
– Ладно, мужики, давайте уже спать ложиться.
Поняв, что «тюремное радио» вещание прекратило, Паштет спрыгнул с нар и с ковриком подмышкой потрусил в душевую. Кожа зудела нестерпимо. Мелкая красная сыпь покрыла уже все тело. Как избавиться от этой пытки, он не знал. Случись эта беда три дня назад, он поднял бы на ноги всех «шкуроведов» столицы. Те бы поставили капельницу, выписали нужные таблетки, помазали кожу правильной мазью, а тут…
Тетух долго стоял под струей горячей воды, направляя ее на самые болезненные участки, но облегчение наступало лишь на несколько секунд. Вытереться было нечем. Для этой цели пришлось использовать сохнущий на горячей трубе рогожный мешок с технической ватой. Одно радовало мужчину: под его босыми ногами была не холодная кафельная плитка, а удобный, массирующий подошвы коврик. Завтра его увидят все остальные и поймут, какой он, Пашка, полезный член коллектива.
Когда он пришлепал обратно, Бурак, Лялин и Владик уже лежали на нарах. И только Русич, стоя на коленях перед своим «иконостасом», сосредоточенно шевелил бескровными губами: «Господи, помоги не судить других, а отдаться воле Твоей! Дай, Господи святый, выдержать все, что ты попустишь…».
«Надо б ему молитвенный коврик сварганить, – подумал Павел. – А то, не ровен час, расквасит о бетонный пол cвой храповик».
Глава 6
Злыдень
Для Паштета эта ночь оказалась ничем не лучше предыдущей. Зарывшись с головой в спальник, отец Георгий громогласно «сражался» со своими ночными бесами. Иван насиловал слух сожителей противным лающим кашлем. Владик храпел, как рота пьяных стройбатовцев. Лялин все время ворочался, то и дело сдавливая свои пластиковые бутылки. Последние издавали щелчки, похожие на выстрелы. А еще Павлу в ухо гудела проходящая рядом труба.
«Зачем я только выбрал эти верхние нары? – подумал он с раздражением. – Все остальные спят внизу, один я, как горный орел, «высоко сижу – далеко гляжу». Завтра же оборудую спальное место где-нибудь подальше от бабахалок и тарахтелок, да хоть между цистерн с технической и питьевой водой».
Головная боль становилась невыносимой. Настолько, что мужчина на время забыл о страшном кожном зуде. Какая-то злая сила проламывала черепную коробку, взрывала мозг, заливая все внутренности горячей жижей. Сон никак не шел. Он уже и овец считал, и числа в уме складывал, и баюкал себя песнями собственного сочинения…
Только под утро Павлу удалось впасть в забытье. Снилось ему лето в деревне у родителей Чмырюка, куда мать с отчимом отфутболивали его на все каникулы. И так там было сейчас хорошо и совсем не скучно, как ему казалось раньше. Не жизнь – приволье, разворачивающее душу на ширину плеч. Соловьи поют, солнышко светит. Банька, истопленная яблоневыми поленьями, пахнет свежими березовыми вениками. А как сладок сон в шалаше из еловых лап! И грибная «охота» с сельскими мальчишками, и утренние обливания колодезной водой, и рыбалка с дедом Егором. А запахи природы? Пряный аромат левкоев, гармония боярышника, можжевельника и шиповника, оглушительная свежесть озерной воды и утренней росы… А бабВерины пироги с клюквой и брусникой? А чтение «Графа Монте-Кристо» в гамаке под старой сливой? «Каким же я раньше был дебилом, – корил себя Пашка. – Когда меня в следующий раз надумают слить в Дубровку, упираться не буду – сам туда попрошусь».
Павла вернул в реальность какой-то неясный шум. С каждой секундой он становился все более звучным и отчетливым. Мужчина открыл глаза, прислушался. Стук когтей по бетону,
громкое шуршание хвостов по полипропилену, писк и противное шипение свидетельствовали о том, что повторный обыск не принес грызунам удовлетворения. Нет еды в привычных местах и все тут! Оно и понятно: все запасы муки и круп были вчера засыпаны в сосуды, сделанные из пластиковых бутылок, а «недельные выбросы» уже третий день находились в противопожарном шкафу.
«Опять приперлись, утырки! – психанул Тетух, снимая с лампы каску. – Ведь только-только уснул». Испугавшись света, часть крыс благоразумно ретировалась. Но не все. Некоторые продолжали бесчинствовать: ворошили пакеты, грызли ножки стола, прыгали по мешкам с готовой продукцией, бегали по ногам Владика – их привлекал запах, который издавали его гноящиеся раны. Самое забавное, что сам он при этом спал сном праведника. «Интересно, прекратил бы Зомби храпеть, если бы крысы отгрызли ему причинное место? – проскочила в голове Павла озорная мысль. – А что? С них станется. Вымахали до размера выдры, хвосты вон – длиннее, чем у кошки и, определенно, толще. Не пасюки, а мутанты, переместившиеся в реальность из старого пиндосовского триллера «Крысы».
Тут два самых наглых грызуна вскочили на стол, и Пашкина кружка, которую он перед сном тщательно ополоснул кипятком, брякнулась на пол.
«Все, сволочи, вам не жить!» – скрипнул он зубами и метнул в них свою, уже остывшую, бутылку с водой. Издав странные звуки, пасюки бросились наутек, причем, не вниз, в подпол, а наверх по вертикальной стене, к воздуховоду. «Фига се, паркурщики! – проводил он их восхищенным взглядом. – А я не верил трепу Леньки Беспалого о крысах-почтальонах, натасканных зеками на переноску маляв по воздуховоду. За это в конце пути «крысокурьеры» с привязанным к ним «грузом» получали лакомство. Таким образом, сидельцам удавалось передавать даже мобильники. Дешево, сердито, надежно и безопасно. А к таким мутантам, какие водятся здесь, на пузо можно не то, что телефон – бутылку водки скотчем примотать и кусок сала на загривок».
Паштет имел собственный опыт дрессировки крыс и знал, что те отличаются умом и сообразительностью. Познакомился он с ними в карцере, куда в очередной раз загремел за нарушение режима. Трюм – это тюрьма в тюрьме. Там наступает совершенно иной отсчет времени, а само время становится безразмерным. За пятнадцать суток (если не грузанут еще пятнадцать), которые нужно провести в темноте и одиночестве, сиделец проживает целую жизнь. Вначале он отсыпается на три года вперед, потом от безделья начинает сходить с ума. Заниматься в карцере совершенно нечем – нары привинчены к стене, табурет – к полу. Доходяжная лампочка в нише над дверью едва мерцает. Ни книжки, ни радио, ни собеседника… Сидишь весь день на табурете, перебирая в памяти эпизоды своей бестолковой жизни. Или стихи сочиняешь, которые записать все равно не на чем. Тоска… И тут – они, родимые… Услышали щелчок дверной форточки, через которую еду подают, и – тыг-дым-тыг-дым-тыг-дым – всем стадом. Знают, звери, что арестанту харч подогнали. Стало быть, и им обломится.
Никогда и никому Павел не был так рад, как тем, трюмовским, грызунам. Вначале они привыкали к новому хозяину и подбирали «упавшее с барского стола» с некоторой опаской. Недели через полторы животные уже выползали из нор по хлопку Тетуха, хватая еду прямо из его рук. А к концу срока даже участвовали в крысиных бегах, которые он им устраивал.
Но это было давно. Сегодня же Павел был зол на хвостатых. Его несказанно раздражала их шумная возня, страшила возможность подхватить какую-нибудь заразу. Еще неизвестно, откуда у него сыпь по всему телу. Носятся тут, как наскипидаренные, посуду переворачивают, трясут над ней своими стрептококками. Пока не запустишь в них чем-то тяжелым, не ретируются. Бутылка с водой, кстати, помогла. Она не просто шмякнулась о бетонный пол, но еще и «выстрелила», хрустнув, как сучок под ногой. Грызуны тут же покинули облюбованные угодья. И сразу же наступила тишина. «Этот креативчик надо бы застолбить», – подумал Тетух, все еще не решаясь превратить лампу в ночник.
И тут его взгляд уперся в нечто, сидящее на втором ярусе нар у противоположной стены, как раз над головой у свернувшегося калачиком Владика. Нечто оказалось чрезвычайно упитанной крысой с гладкой глянцево-серебристой шерстью. Ее длинный толстый хвост свисал вниз. Забавные, слегка закрученные усы шевелились, так же, как и мохнатые закругленные ушки. Узкая мордочка скалилась острыми желтыми резцами. Животное совершенно не боялось лежащего напротив мужчины. Сидело и причмокивало, широко открывая рот. Совсем как человек, у которого между зубами что-то застряло.
«Вот же злыдень! – проворчал Паштет. – Всем крысобратьям страшно, а ему нет. Знает, что может по щам получить, а все равно рискует. Совсем, как я».
На слове «злыдень» пасюк издал странный звук, будто хотел опротестовать данную ему характеристику. «Не нравится? Привыкай. Не всем зекам по сердцу их погремухи, однако ж отзываются». Тот спорить не стал, но уходить не собирался. Сидел и, не мигая, смотрел на Павла, будто гипнотизировал.
«Ладно, иди сюда, – неожиданно для себя произнес мужчина. – Будешь себя прилично вести, возьму на баланс. Дружить тут больше все равно не с кем – одни муфлоны».
Два раза повторять не пришлось. Крыса бесстрашно соскочила с верхотуры на стол, перебежала по нему на другой конец и, прыгнув на свисающую вниз куртку Паштета, взобралась по ней к нему на шконку.
Тот чуть дар речи не потерял. Нет, он и раньше знал, что крысы, помимо сообразительности, отличаются терпением и упорством. Что состав их крови, геном и некоторые другие особенности организма близки к человеческим. Что известны случаи, когда ручные пасюки помогали хозяину выбраться из плена, перегрызая путы или принося ключи от темницы. Но он никогда не слышал о грызунах, понимающих человеческую речь.
Примостившись на краю спальника, животное уставилось на Пашку, мол, зачем звал? Тот, растерявшись, молчал. Крыса терпеливо ждала, не сводя с него своих необычных глаз: левый был черным, а правый – рубиновым. Наконец он взял гостью на руки, погладил ей щечки, шею и за ушами. Шерстка животного, состоящая из чередующихся серебристых и темно-серых волосков, стала вздыматься, обнажая рыжие участки с черными и белыми полосками. Мужчина осторожно приподнял вверх мощный серый хвост, под ним оказались два продолговатых яичка, размером чуть меньше желудя. «Выходит, ты у нас – крутопацан, – уважительно произнес он. – Ну, что, дружить будем?». Крысак встал на задние лапы и начал делать мордой круговые движения. При этом он шевелил усами, принюхиваясь к Паштету. Получив необходимую информацию, пасюк облизал хозяину руку. Стало быть, присягнул на верность. Тетух с облегчением вздохнул. Каким бы отмороженным не считали его окружающие, он остро нуждался в чьей-то, если не любви, то хотя бы привязанности. Что делать, если в роли друга судьба послала ему крысака? Видно, не заслужил он у нее других приятелей.
– Ладно, Злыдень, я ложусь спать, – зевнул Павел, поглаживая грызуна по хвосту. – А своим передай: увижу здесь хоть одну крысиную морду, – о присутствующих речь не идет – устрою геноцид. Давай-ка я тебя помечу, чтоб, часом, не пришибить. А то глаза твоего рубинового издалека не видать.
Из-под спальника он достал клубок с синей полипропиленовой нитью и, оторвав кусок, завязал его бантиком на шее нового друга.
– Красавец! Все твои сородичи от зависти удавятся – гарантирую.
Пискнув что-то в ответ, животное метнулось к воздуховоду. «Нет, фауна тут, конечно, стремная, не подчиняющаяся закону всемирного тяготения, – подумал мужчина. – А, может, этот, поглотивший нас, черный колодец нереален? Может, мы попали в иное измерение и, пройдя через портал, вскоре вернемся обратно, каждый – в свою привычную жизнь? Артист будет играть алкашей в сериалах, мент ловить бандитов, батюшка – венчать-крестить-отпевать. Владик подастся искать родаков в телепередачу «Жди меня», а я буду дальше торговать телефонами и коцанными иномарками, втюхивать дебилам БАДы[13] и играть на спортивном тотализаторе»… На этой мысли сознание Павла «отключилось от сети».
Разбудило его доносящееся с воли глухое баханье, которое Лялин назвал работой свайного вибропогружателя. Пашка открыл глаза. Все остальные уже были на ногах: батюшка молился, мент боксировал у самопальной груши, Владик дежурил по кухне, белорус наводил марафет: подравнивал ножницами свою бородку, маленьким густым гребешком расчесывал брови, выщипывал пинцетом волоски из ноздрей, чистил зубы порошком из фальшивых таблеток.
«Перед кем он тут выпендривается, аккуратист гребаный? – с раздражением подумал Тетух, у которого не было ни зеркальца, ни несессера с бритвенными принадлежностями, ни полотенца. – Сразу видно польскую шляхту с батистовыми носовыми платочками и кальсонами из шерсти мериноса».
Сейчас в Пашке говорила зависть. Он не выспался, был измочален и изрядно помят. Ему хотелось согреться и закурить, но ни то, ни другое не представлялось возможным. Холод на поверку оказался для него самой страшной пыткой. Курточка у Павла была стильной, но довольно тонкой, джемпер, надетый на голое тело, тоже. Это не пуховик белоруса, который тот носил внаброску поверх шерстяной футболки, рубахи и жилета.
«Пора алкаша раскулачить, – твердо решил Тетух, дрожа все телом. – Подсажу на карты, а потом выиграю у него самые теплые кишки[14]. Во-первых, он весьма азартен, во-вторых, знаком с понятием «долг чести».
В том, что его замысел осуществится, Пашка ни минуту не сомневался. Опыт мгновенного распознавания людей приходит в местах заключения очень быстро и остается на всю жизнь.
– Всем доброго утречка и не самого похабного денечка! – поприветствовал он сожителей, соскакивая с нар на пол.
Павел вел себя так, будто не помнил о своих вчерашних закидонах. Он был вспыльчивым, но не злопамятным. Жил по принципу: «Кому я должен – всем прощаю!».
Русич, Бурак и Владик ему ответили. Опер же, молча, отрабатывал удары на «груше». Он был раздет до пояса, и, казалось, совсем не чувствовал подвального холода. Богатырский рост, воловья шея, покатые плечи в буграх мышц, тренированный пресс не могли не вызвать у Паштета острой зависти. «Везет же некоторым, – думал он с досадой. – Робокоп, а не человек».
Сам Павел был далек от занятий спортом. Подобная мысль даже не закрадывалась в его черепную коробку. Ему бы как-то избавиться от жуткой чесотки, не дающей покоя ни днем, ни ночью…
Сняв джемпер, Тетух с опаской посмотрел на свой живот и ужаснулся. Вместо вчерашней сыпи, тело украшали огромные красные волдыри. «Нельзя было расчесывать, – корил он себя. – Да че уж теперь? После драки кулаками не машут».
– Мужики, че это со мной? – растерянно простонал Пашка.
– Как говорил ослик Иа, душераздирающее зрелище, – присел перед ним на корточки белорус. – Не иначе, холодовая аллергия. Не привык еще организм к низким температурам. У Владика в позапрошлом году такая же забубень была.
– И как он ее лечил? – вопрос был адресован Бураку, хотя Зомби находился рядом и был в состоянии ответить.
– Дык утренней мочой. Как гласит реклама уринотерапевтов: «Теплая моча против снадобий врача!».
Лицо Тетуха налилось кровью, на лбу набухла вена. Липкая горячая волна рванула от желудка к горлу. Закрывая рот руками, он помчался в туалет. По возвращении долго рассматривал расчесанные волдыри в зеркальце белоруса, прикидывая, чем бы можно было заменить мочу.
– Паш, а что это у тебя на боку за шрам? – оседлал любимого конька Владик, заливая кипятком китайскую лапшу из пакетика.
– След от ножевого ранения, полученного за Сигуриану.
– За кого? – вытаращил глаза Бурак.
– Да вы все знаете эти «поющие трусы» с нечеловеческим силиконовым бюстом. Ее голос звучит сейчас из каждого утюга.
- Я бы тебе отдалась – ась,
- Но я боюсь, не возьмешь – ёшь.
- Нет, это не ерунда – да,
- А настоящий песец – ец,
– пропел Тетух тонким писклявым голосом.
Лица слушателей не отразили никаких эмоций. «Нашел с кем обсуждать достоинства отечественного секс-символа, – подумал Павел. – Та еще аудитория: монах, иностранец и чел, потерявший память».
– Ладно, не в том трабла, – махнул он рукой. – Сидел я, короче, по второй ходке с хачем одним, большим ее поклонником. Задрал он уже всех дебильными песнями Сигги, которые круглосуточно гугнявил.
Однажды на рабочке я не выдержал и высказал ему свое мнение о творчестве певицы и о ее «неземной красоте». Хач выхватил из кармана сделанную из ложки заточку и пырнул меня в бочину. Вся моя непутевая житуха за миг пронеслась перед глазами, и я растекся лужей аккурат под плакатом: «Запомни сам, скажи другому, что честный труд – дорога к дому». После операции лепила[15] сказал мне, что я – фартовый, так как лезвие прошло в сантиметре от печени. Ливерка и крупные сосуды чудом спаслись – не изошел кровянкой. Шрам, знамо дело, остался, но с зеками эстетикой не заморачиваются – скажи спасибо, что вообще залатали.
После завтрака Русич сделал из технической ваты тампоны и, пропитав их чайной заваркой, прошелся по волдырям Павла. Затем присыпал их порошком из меловых таблеток. Чего-чего, а этого добра было у них выше крыши.
– Ты крещеный? – поинтересовался монах.
– Да, – произнес тот после некоторой паузы. – С какой целью интересуешься?
– Ложись на мое место и закрывай глаза.
Пашка безоговорочно выполнил указания отца Георгия. Он готов был на все, лишь бы прекратились зуд и жжение.
«О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабу Божьему Павлу, омой кровь его лучами Твоими. Прикоснись к нему силою чудотворною, благослови все пути его к выздоровлению. Боль отступит, и силы вернутся, и раны заживут его телесные и душевные, и придет помощь Твоя. Слава и благодарность силе Господа. Аминь», – шептал Русич над страждущим, осеняя его крестным знамением. Маска страдания постепенно сходила с бесцветного, словно оберточная бумага, лица мужчины, и он уснул, убаюканный тихим монотонным голосом монаха.
– Где вас гипнозу учат: в монастыре или в семинарии? – поинтересовался Лялин, наблюдавший за действиями батюшки. – Ушептал ты нашего буйного, прям, как Каа Бандерлогов.
– Тихий голос дальше слышен, – улыбнулся тот. – Не гипноз это, а молитва, через которую человек подходит ближе к Богу и становится недоступным для болезней.
– Даже такой человек, как этот?
– В музыке всего семь нот, а какое количество произведений сочинено! Вот и людей в мире миллиардов семь, не могут же все жить одинаково. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Было бы желание жить, никого не осуждать, никому не досаждать. А ты, Юрий, себя блюди, а за грехами других смотрит Праведный Судья.
– Не могу, батюшка, – развел тот руками. – Работа у меня такая – следить за грехами других. Стало быть, я и есть тот самый праведный судья. Упрощенный земной вариант.
– Все мы под Богом ходим. Не суди, да несудим будешь, – поправил скуфейку на голове отец Георгий. – Владик, иди сюда. Будем твои раны обрабатывать.
Тот закатал штаны выше колен и уселся на скамью, что-то ворча себе под нос.
– Говорил я тебе, упрямцу: не ерепенься. Моча – мочой, а ничего целебней святой воды еще не придумано. Я вон на ней заварочку чайную настоял, чтобы цветом панацею твою напоминала…
Лялин расхохотался в голос. То, что происходило вокруг последние три дня, напоминало ему сумасшедший дом. Он чувствовал себя Алисой, по недоразумению, попавшей в Страну Чудес.
– Прошу прощения, что прерываю ваш диалог, – приложил опер руку к груди, – но не могу не поинтересоваться: где вы здесь взяли святую воду?
– Из крана в туалете, – простодушно ответил Владик.
От нового приступа смеха Юрий сполз на пол. «Как можно всерьез общаться с этими комическими персонажами?» – не давала ему покоя назойливая мысль.
Закончив обрабатывать язвы Владика, батюшка повернулся лицом к хохочущему Лялину.
– Любая вода, набранная из крана в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января с 0 часов 10 минут до 1 часа 30 минут испокон века считается чудотворной. В это время «открывается небо» и молитва, обращенная к Богу, будет услышана.
– А как вы время без часов узнаете, если даже дни отмечаете таблетками на трубах?
– Так Храм Божий рядом, – прошелестел Русич сухими губами. – Крещенский сочельник – великий праздник и единственное время, когда с колокольни можно услышать особый Водосвятный Перезвон, сообщающий мирянам о чине Великого освящения воды. Его не спутаешь ни с каким другим. Это – поочередные удары от большого колокола к малому – по семь раз в каждый.
– Ну, слава богу! – выдохнул Лялин, заподозривший окружение в слабоумии. – Не так все и запущено в нашем колхозе.
