Паткуль. Неистовый лифляндец бесплатное чтение
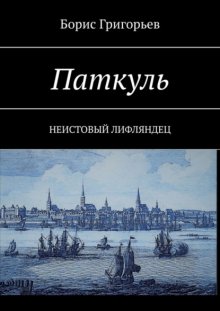
Редактор Сергей Мишутин
© Борис Григорьев, 2023
ISBN 978-5-0059-9498-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Паткуль возвышался над толпою умом светлым и дальновидным, обширными по
тогдашним временам сведениями в науках политических и в военных, увлекательным
даром слова, бойким пером и пылким нравом. В самых недостатках его обнаруживалась редкая сила души: пылкость его доходила до исступления, до бешенства;
оскорблённое самолюбие не знало границ мести; твёрдость характера соединялась с
неумолимым жестокосердием; искусство не чуждалось коварства. Чиста и непорочна
была в нём безграничная любовь к отчизне.
Н.Г.Устрялов
В своих ошибках он, истинное дитя своего времени, возвышался над всеми и по
величию духа, и по энергии своей воли и по горячей любви к своей растерзанной
отчизне.
Э. Серафим
Имя «Паткуль» до сих пор пылилось где-то на задворках моей памяти. Читал, что был такой – не то немец, не то швед, не то прибалт, каким-то образом замешанный в события Северной войны – и только всего.
Толчком для пристального интереса к нему послужило довольно тривиальное событие. Время от времени я перечитываю русских классиков, и, просматривая сочинения любимого И.С.Тургенева, наткнулся на его критическую статью «Генерал-поручик Паткуль» от 1846 года. Поводом для написания статьи для молодого писателя послужила одноимённая пьеса известного в начале XIX века драматурга Нестора Кукольника. В ней И.С.Тургенев, наряду с разбором художественных достоинств (которых он у Кукольника не находит), уделяет также внимание и исторической канве вопроса, обнаруживая при этом удивительную начитанность и широкий кругозор. Я почувствовал, что молодой сотрудник министерства внутренних дел Тургенев глубже проник в события полуторастолетней давности и точнее охарактеризовал героя, нежели сам автор пьесы. Классик он и есть классик!
После прочтения статьи И.С.Тургенева мне захотелось познакомиться с этим героем. Оказалось, что в своё время имя лифляндского дворянина Йоханна Рейнхольда фон Паткуля, волей судеб оказавшегося в самом центре событий Северной войны, было на устах всего просвещённого мира. Жизнь его во всех отношениях была удивительна и достойна описания. Не последнюю роль в популярности Паткуля сыграла и его мученическая смерть.
О Паткуле было написано огромное количество научных исследований и книг, особенно в Швеции и Германии. Сам Вольтер уделил ему пристальное внимание. Одни историки считали его патриотом и героем, другие – предателем, третьи – авантюристом. Одни приписывали его поступкам самые высокие и благородные помыслы, а другие – наоборот, называли презренным честолюбцем, эгоистом и проходимцем. Причём в доказательство своих оценок все авторы приводили конкретные и неопровержимые факты.
Прочитав некоторое количество литературы о Паткуле, я пришёл к выводу, что правы и те и другие – сама сложная и противоречивая личность героя даёт пищу и для его апологетов, слагающих панегирики (Германия), и для его хулителей, насылавших на него проклятия (Швеция). Правда – весьма капризная и многогранная субстанция, и каждому из нас она поворачивается той стороной, которая наиболее полно соответствует нашему воспитанию, мировоззрению и политической ориентации. Именно политические взгляды разделяют создателей Паткулианы на два лагеря.
Последнее время о Й.Р.Паткуле редко кто вспоминает.
Наши историки, обращаясь к истории Великой Северной войны, вскользь упоминают его имя. Кипевшие по нему страсти постепенно улеглись, и это справедливо и понятно. Наше время постоянно подбрасывает нам такие события и таких героев, что просто некогда думать о чём-то «отвлечённом» и давно канувшем в Лету. Но история строго наказывает тех, кто относится к ней непочтительно. Мы теперь уже не спорим о роли личности в истории – она может быть велика, и не учитывать этого было бы преступно. Личность Паткуля – яркий тому пример, и кто знает, как бы сложился ход Северной войны между Россией и Швецией, если бы лифляндский барон Паткуль не оказался в орбите деятельности основных её участников – саксонского курфюрста Августа Сильного, русского царя Петра Великим и шведского короля Карла ХII.
Впрочем, у сильных мира сего такие личности, как Паткуль, вызывали и сегодня вызывают двоякие чувства: они им нужны до поры до времени, пока кое-как вписываются в их «державные» замыслы, а потом, когда они становятся слишком самостоятельными, выбрасываются за ненадобностью.
История учит, что ничему не учит?
