Варварин день (сборник) бесплатное чтение
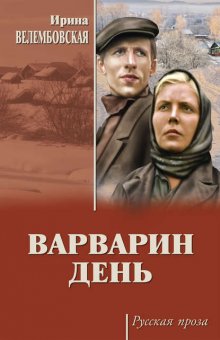
© Велембовская И.А., наследники, 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru
Мариша Огонькова
Глава первая
Осенью сорокового, високосного года в деревне Орловке, что лежит в двух километрах от Воронежского шоссе, а от железнодорожной станции Венев верстах в восемнадцати, случился ночной пожар.
Посреди деревни пролегал глубокий зеленый яр, который просыхал лишь в самое жаркое лето. Так что огню удалось смахнуть только одну сторону деревни, прогуляться по левому ее порядку. Порохом занялись соломенные крыши, сразу почернели яблони-китайки, зачадили малинники. Алым заревом вспыхнули ометы, затлел даже лежалый навоз на задворьях.
Первым загорелся дом Евгеньи Огоньковой. Хозяйки в эту ночь дома не было: поехала в Венев, повезла продавать поздние крепкие яблоки. Евгенья, баба еще молодая, миловидная и робкая, недавно овдовела и осталась с четырьмя детьми. Так что теперь было не до того, чтобы самим кушать эти яблоки. Евгенья и кадушку с глаз убрала, в которой мочили на зиму антоновку. Дома без матери остались тринадцатилетний кудряш Роман, или, как его дома звали, Романок, одиннадцатилетняя Маришка, пятилетняя Лидка и совсем малое дитя в качке, родившееся уже после отцовой смерти.
Ребятишки проводили мать до шоссе, помогли тащить два пудовых мешка. Дождались, пока она втиснулась с этими мешками в маленький голубой автобус, и пошли домой. Пятимесячная Верка, как бы догадываясь, что надолго останется без груди, всю дорогу плакала.
Именно из-за этой крошечной крикухи Евгеньины ребятишки, может быть, и спаслись: Верка не давала уснуть, тосковала без матери, изжевала себе все пальцы. Маришка поила ее разведенным молоком, давала хлебца.
– Ты уснешь ай нет? – со взрослым гневом спросила наконец сестренка-большуха. – Ведь это наказанье божецкое!..
Пошло на первый час ночи, простучал где-то далеко поезд-товарняк. Маришку валил сон, но она ослабевшей рукой отдернула шторку на окошке и поглядела наружу. Вдруг ей показалось, что по темной земле летит какой-то красный вихорек. Это был отсвет, а пожар занимался позади избы, на гумне.
Сердце у Маришки страшно заколотилось. Она хотела крикнуть громко, но лишь тихо завыла. И все же она не растерялась, стащила с кровати Романка, дала крепкую колотушку не желавшей просыпаться Лидке, с недетской догадливостью кинулась к комоду, выхватила завернутые в узелок рублевки, справки, бумажки. Уже на улице она сунула замолкшего от младенческого страха ребенка увальню-брату, а сама бросилась выпускать скотину. Мелкие, некрепкие Маришкины зубы колотились, руки сводил ужас, но она все-таки вытащила застав на воротцах, выпустила овечек и телку, шестом согнала с насестов перепуганных, дико орущих кур.
С утренним автобусом вернулась Евгенья. Дети ее вместе с другими погорельцами, сбившись в кучку, сидели в яру, в дудках и таволге. Сюда огонь не достал. Тут же стояла ручная швейная машинка и небольшая деревянная укладка, которую соседи помогли огоньковским ребятам вытащить из занявшейся избы. Сюда же Маришка с Романком согнали овец с теленком, только куры все разлетелись невесть куда. А над яром догорали, чадили избы, садочки. Их и не пытались гасить – разве ведрами такое зальешь?
Евгенья, пока бежала от шоссе к дымящейся деревне, кричала. А когда села возле своих детей, так уж и не поднялась. Напрасно Маришка пыталась подсунуть матери под грудь плачущую Верку: Евгенья отмахивалась, как будто ей подсовывали еще одну беду. И если без матери ребятишки держались и не ревели, то теперь все разом залились слезами, и Маришка, и Лидка, задергал губами, заморгал даже крепкий на слезу Романок.
Потом, уже пополудни, из соседней деревни пришла за ними тетка, сестра покойного отца.
– Идите к нам, – сказала она. – Куда же вас теперь денешь?
И Огоньковы пошли, все впятером. Романок погнал телка и овец, пятилетняя Лидка понесла лукошко с цыплятами, которых только накануне наседка нежданно-негаданно привела за собой из густых лопухов. Пятимесячную Верку взяла на одну руку мать, другой рукой прихватила швейную машинку. А Маришка, поднатужившись, потащила деревянную укладку, в которой теперь была «вся жизнь»: плюшевая жакетка, ковровый платок, пряжа от своих овец да метров десять ситца и сатина в разных кусках. Дня три назад Евгенья, как на грех, достала из этой укладки покрывало и накомодник, вывязанные из крашеных ниток: близился престольный праздник. Теперь они сгорели вместе с комодом и деревянной кроватью. В деревне говорили, что это еще пощада – не было раздачи хлеба на трудодни, а то бы и хлеб сгорел.
У тетки в избе Евгенье с детьми отвели угол за печью. С неделю они кормились от хозяев, а потом, не дожидаясь намека, Евгенья сама сообразила, что уж и хватит. Ведь им пятерым по ложке – и пустая чашка. Она нашла на пожарище уцелевшие чугунки, попросилась к золовке в печь. Но печь была маленькая, сложенная на одну семью, больше двух посудин в нее не становилось. Так что завтракали и ужинали Огоньковы чем-нибудь холодным. Капуста в огороде хоть и уцелела частью, но порубить ее теперь было не во что, а без щей крестьянский живот все равно пуст. А поскольку сгорело и сено, то Евгенья продала телка и овец, зарубила кур, которых Маришка отыскала в ближних лозинках. Надо было как-то жить дальше… Только к будущей весне колхоз обещал помочь погорельцам отстроиться. Но все равно требовались деньги: без них никто тебе ничего не принесет и не положит.
Романка проводили в Тулу, в ремесленное училище. Евгенья облила его слезами, а на Маришку ей таких горьких слез уже не хватило.
– Поезжай, моя золотая, ко хрестной маме, – сказала она. – Поживешь с полгодочка, авось не объешь ты их.
– Я мало ем, – покорно сказала Маришка. – Мне бы в обед чего, а ужинать я и не спрошу.
Маришкина крестная мать, звали которую Лушей, жила в шахтерском поселке Кирьяново, работала на шахте, выдавала фонари. Женщина она была бездетная и нелегкого нрава. Первый муж от нее уехал, со вторым, помоложе себя, жила уже без регистрации. Это немного смущало Евгенью, но Маришка была еще мала и все равно не поняла бы, что к чему. Мать решила отослать ее с попутчиками: из тех, кто погорел, многие уехали устраиваться на шахты. Она стачала для старшей дочки платье с завязочками у ворота и долгую рубашонку, в чем спать.
Когда Маришку привезли в Кирьяново, на угольных терриконах лежал первый снег. Она уже бывала раньше здесь в гостях и теперь без ошибки сама нашла Лушину квартиру.
– Здравствуйте, крестная мама и ваш муж, – с порога сказала Маришка и, как велела мать, поклонилась.
– Здравствуй, – без особого привета отозвалась крестная. – Ишь ты, какая большая стала! Проходи, садись.
Маришка села, но тут же сказала снова:
– Я вам буду в хозяйстве помогать. Мама велела. За вашу за хлеб за соль.
Хлеб-соль в доме у Луши были неплохие: Маришке отрезали три кружка колбасы, положили их на половину сайки. Но вот щи показались ей невкусными, совсем не такими, как когда-то варила дома мать: больно кисла была Лушина капуста. И первая предательская слеза чуть не капнула в эти щи.
– Чего заплакала? – не по-мужски ласково спросил у Маришки крестнин муж Троша. – Не надо.
– А где я заплакала? – мужественно отозвалась Маришка. – Это Верка с Лидкой небось там без меня заливаются.
После ноябрьских праздников Маришку свели в Кирьяновскую школу, в четвертый класс. Сначала там потребовали справку, но потом директор согласился взять и так.
– Какая с нее справка? – сказала крестная. – У них все до последней липки сгорело.
У Маришки не было ни учебников, ни тетрадок, взять сейчас их было неоткуда. Нашлась старая счетная книга, на ее свободных страницах Маришка стала выполнять домашние задания.
– Смотрите, как новенькая девочка старается, – сказала учительница Ксения Илларионовна. Увидев на переплете счетной книги надпись: «Тетрадка ученицы Огоньковой Марине Парфеновной», она исправила ошибки и добавила: «Парфеновной ты будешь еще не скоро. А пока ты Мариша Огонькова».
По дороге из школы к дому Маришка заходила в хлебный магазин, брала две буханки черного и две буханки белого. Троша был мужик большой и хлеба ел очень много. Резали для него всегда только большими кусками, тонкий ломоть у него не держался в руке.
Маришка возвращалась домой первая, поэтому считала себя обязанной управляться по хозяйству: мела полы, носила воду и грела обед на чудной штуке, именуемой «грец». Стояла рядом и следила, чтобы этот «грец» не коптил.
Вечером, после того как исправно делала уроки, она писала письма матери. Перечисляла поклоны всем домашним, даже крошечной Верке, которая еще ничего не могла понимать. Однако и ей посылался низкий с любовью поклон.
– А я вот все не соберусь своим написать, – признался Троша. – Не выходит у меня. – Троша окончил четыре класса, когда служил в армии, но из скромности всегда указывал, что малограмотный.
Маришка аккуратно вырезала еще один листок из своей счетной книги и приготовилась писать письмо и для Троши. Луша безмолвно наблюдала эту картину. Потом взяла у крестницы исписанный листок и вдруг горячо поцеловала ее в макушку. Это была первая ласка, и Маришка растерялась.
– А вы меня к маме отпустите? – спросила она. – Ведь меня не насовсем отдали.
– Отпустим, – ответила Луша и, отвернувшись, вытерла слезы платочком. И даже Маришке стало ясно: тоскует, что своих детей нет.
К весне сорок первого подоспели новости: из деревни Евгенья прислала длинное, восторженное послание, в котором сообщала, что их семью после стольких горестей наконец настигла и радость: Романок, гуляя с ребятами-ремесленниками по улицам Тулы, нашел кошелек, а в нем три сотенных бумажки, четыре десятки и на два рубля мелочи. Адреса при деньгах не было, и мастер-воспитатель велел Романку отослать деньги в деревню матери, а та посчитала, что на эти деньги сына навел сам Господь Бог, что эти рубли и сотни – первое бревнышко на новый дом.
С тех пор Маришка, когда шла по улице, глядела только под ноги. Очень ей хотелось тоже помочь матери. Но всего толко раз попались ей возле хлебного магазина зеленые три копейки.
Перед майскими праздниками Евгенья дополнительно сообщила, что в соседнем селе продают хату на своз, просят тысячу двести. Недохватки у нее было семьсот целковых. Уже продана была швейная машинка, ковровый платок и пряжа вся до последней нитки. В письме содержался явный намек, не поможет ли кирьяновская родня: как-никак Маришкина крестная доводилась Евгенье двоюродной сестрой.
Троша заморгал, а Луша промолчала. Смысл был такой: и так немало помогли, целую зиму продержали девчонку.
– А что бы Михаил Иванычу Калинину написать? – вдруг предложил Троша.
– Ты научишь! – скептически сказала Луша.
Маришка решила посоветоваться насчет письма Калинину со своей учительницей Ксенией Илларионовной. Та почему-то смутилась и идеи этой тоже не поддержала. А на другой день отозвала Маришку в сторону и сунула ей десять рублей.
Ксения Илларионовна была еще не старая, но седая и ходила всю зиму в одном и том же платье.
– Дай вам Бог здоровья! – подражая интонации матери, сказала Маришка.
– Что ты, что ты! – остановила ее учительница. – Какой там Бог. Ты же девочка умная.
В конце мая Маришка закончила четвертый класс, получила листок с четверками и пятерками и стала жить ожиданием, когда Троша возьмет отпуск и свезет ее домой в Орловку. Она уже заранее готовила прощальные слова, которые сказала бы крестной матери:
– Большое спасибо вам за ваше воспитание, за ваш привет!..
Но Троше отпуска все не давали, а потом вдруг взяли его на какую-то переподготовку. Он ушел с железной кружкой, с двумя парами носков, и весь хлеб, что Маришка принесла из магазина, Луша положила Троше с собой в мешок.
Между тем Евгенья к себе в Орловку уже перевезла купленную хату, в которой не было пока ни крыши, ни сеней. Колхоз помог ей деньгами и с перевозкой, дай соломы на крышу и кругляка на сенцы. Но весна стояла холодная, и топить было нечем. С Пасхи не мылись, не жалели воды только на маленькую Верку. Но хоть и холодный, но все-таки это опять был свой дом. Его поставили высоко над яром, на прежнем своем месте, возле обгорелых лозин, которые давали от земли новые, зеленые ветки. К Троице достроили сенцы, только не было пока двора, но в него и пускать было нечего: новую скотину нужно было еще наживать да наживать.
Приехал из Тулы Романок, теперь почти что Роман Парфенович: в черной форменной шинели с золотыми буквами, в черном картузе и в намазанных гуталином ботинках. Они с матерью принесли из засеки березовых веток, натыкали за новые наличники и под карниз. Евгенья начисто перемыла все окошки, только вот шторок к ним сейчас не было. Поставили на голый подоконник два столетника да красную гераньку.
Маришка между тем томилась в Кирьяновке. Приходило ей в голову, что ждать нечего, что нужно убежать. Но совесть не позволяла. С тех пор как Троша ушел на переподготовку, Луша взяла ее спать с собой и даже во сне почему-то крепко держала. Маришке думалось, что если она решится и убежит, то крестная мать ее обязательно догонит и воротит.
– Как мне маму охота повидать! – однажды робко призналась Маришка. – Хоть бы одним глазком!..
– Успеется, – отозвалась Луша, – живи пока.
Наверное, если бы она знала, что всего через три дня начнется война, не сказала бы, что успеется. Но ведь никто не знал…
Лето сорок первого стояло солнечное и яркое. Ни поздних заморозков, ни холодных дождей, ни сухих ветров. Такое бы лето в мирный год!.. На шахтерский поселок пока еще не было ни одного налета, и даже не верилось, что где-то полыхают деревни, пустеют поселки, уходят на восток люди. Тут, в Кирьяновке, на станции по-прежнему грузили бурым углем платформы, вагоны-пульманы. По насыпям из-под черной пыли вопреки всему лезла лебеда и полынь, в поселке, как облитые медом, цвели липы. Но на клумбах возле шахтерского клуба да и возле домов никто не поливал распустившихся цветов, они сохли, наводили тоску.
Троша с переподготовки домой не вернулся. Луша ходила угрюмая, часто плакала и не спала по ночам. Маришка понимала, что другого такого Троши, случись что-нибудь, Луше нипочем не найти: тот не дрался, не ругался, одна беда – много ел. Теперь, без Троши, Маришка приносила из магазина всего одну буханку белого да полбуханки черного. Потом и вовсе хлеб стали давать по карточкам, и на Маришкину долю падало всего триста граммов, короче говоря – горбушечка.
О том, что творится дома в Орловке, она не знала. Автобусы больше не ходили, в поезда не сажали. А кто шел куда-нибудь пешком, останавливали и спрашивали документ.
– Ангел небесный, снеси меня к маме!.. – горячо попросила Маришка.
Она уже давно догадывалась, что никаких ангелов нет, но просить больше было некого, а домой очень хотелось.
В начале августа в Кирьяновку эвакуировали из Москвы большой госпиталь, заняв под него здание той школы-семилетки, в которой училась Маришка. Сначала по железнодорожной ветке пришел эшелон с медицинским персоналом, с койками, с матрацами, с бачками и кипятильниками. Целый вагон – аптека, другой вагон – с рентгеном. А суток через пять привезли раненых: у кого гимнастерка надета в оба рукава, у кого в один, другие просто накрыты пыльными шинелями, а под ними белье и бинты.
От станции до госпиталя было около версты по немощеной улице. Лежачих раненых нельзя было трясти в машине, их клали на носилки, и Маришка видела, как молоденькие медсестры-москвички по четверо тащили их. Они и руки меняли и отдыхали через каждые двести шагов, а раненый боец стонал и бранился.
– Дайте я маленечко пособлю, – попросила Маришка и протянула руку к носилкам.
Ее не отстранили, и она вместо молоденькой медсестры пронесла носилки полные двести шагов.
– Какая девица-то крепкая! – заметила красивая врачиха со шпалой в петлице и очень строгими глазами. – Ну, хватит, девочка, уходи.
Но Маришка не ушла, а только дождалась, когда скроется из виду строгая врачиха, и опять взялась помогать. Дома крестная мать спросила ее:
– Ты Троху-то не видела? Гляди, может, и его привезут.
– Я гляжу, – заверила Маришка. – Не пропущу.
Но Трошу не привозили. Везли всяких: смоленских, орловских, московских, а Троши не было.
– Сколько же тебе лет, девочка? – спросили у Маришки московские медсестры, увидев ее снова и снова возле госпиталя.
Маришка покривила душой и сказала, что четырнадцатый год. Но и рост, и отроческая угловатость выдали ее. Разве что светлые, понимающие глаза говорили в ее пользу. Медсестры вроде бы поверили и взяли Маришку с собой в столовую.
Еда там была распрекрасная. Бойцам, медперсоналу и всем вольнонаемным давали жареного мяса, компот с урюком и еще с чем-то приятным, названия чему Маришка не знала. Приводили ее сюда потом еще не раз, она поела и мясных котлет, о которых в деревне только слыхала. Оказалось, что повар раньше служил в большом московском ресторане и готовил, как колдовал. Маришка попробовала и жареной печенки, и почек, и гуляша; детский живот ее радовался, а душа страдала: этого бы компоту сейчас годовалой сестренке Верке, а матери с Лидкой по котлетке бы!..
К Маришке пригляделись и посоветовали пойти к начальнику госпиталя, военврачу первого ранга Заславскому, попросить, чтобы разрешил помогать в палатах, разносить раненым еду, прибираться и писать письма для тех, кто сам не может.
Маришка испугалась, но пошла. Военврач первого ранга очень строго посмотрел на нее через очки с золотцем, но выслушал.
– Будьте добрые, – подражая матери, попросила Маришка, – не откажите в просьбе!..
По распоряжению начальника госпиталя, закрывшего глаза на Маришкино малолетство, ее, Марину Парфеновну Огонькову, зачислили санитаркой по вольному найму, без обмундирования, но с довольствием. Выдали только белый халат, который Маришка сама ушила и подняла карманы. За первый месяц службы она выросла сантиметров на пять, потому что сытно и вкусно ела. Сознание того, что она теперь почти военнослужащая, заставило в Маришкиной душе отступить всем другим тревогам и чувствам. Все реже тосковала она о родном доме и уж совсем не спешила вечерами к крестной. Да и та работала теперь по шестнадцать часов в сутки. Варить на «греце» было нечего, посуда стояла чистая, незакопченная и холодная.
Поначалу не во всем Маришке хватало сообразительности, кое-что делала она и невпопад. Как-то после влажной уборки она увлеченно отстирала все тряпки и дерюжки и повесила на видном месте, чтобы оценили. Но эти тряпки первой попались на глаза заведующей отделением, военврачу третьего ранга Селивановой.
– Это твоя работа? – спросила она очень грозно. – Ты бы еще подштанники здесь развесила!
Маришка страшно испугалась, даже прижалась к стенке. Красивая военврач третьего ранга взглянула на ее маленькие, красные от холодной воды руки и пошла дальше.
– Ты Селиванову не бойся, – сказали медсестры. – Она порядок любит, а так она не вредная.
Маришка изо всех сил старалась запомнить, что если нужно будет спросить о чем-нибудь строгую Селиванову, то нельзя называть ее по имени-отчеству, Валентиной Михайловной, а надо сказать так: «Товарищ военврач третьего ранга, разрешите обратиться!»
Если же вдруг в отделение придет, к примеру, сам начальник госпиталя Заславский и при нем нужно будет что-то Селиванову спросить, то следует говорить так: «Товарищ военврач первого ранга, разрешите обратиться к товарищу военврачу третьего ранга!»
– Молодец! – похвалила Маришку палатная сестра, когда та одолела эту скороговорку. – Ну, беги, разноси ужин.
– Есть, товарищ военфельдшер второго ранга! – радостно выпалила Маришка и побежала в столовую.
Был уже август, пошли дожди – для эвакуаторов самая плохая погода. Прибыл еще эшелон в пять вагонов с одними тяжелыми, откуда-то из-под Вязьмы. Этими же вагонами увезли куда-то тех, кто поправлялся, в какой-то батальон для выздоравливающих. Увозили ночью, в темень.
Утром Маришка точно в шесть пришла в палату, стала наводить порядок. Все обтерла, понесла выбрасывать окурки. Но ее вдруг окликнули с другого конца коридора:
– Огонькова! Мариша!.. Поди-ка сюда скорее!
Там, где раньше была учительская, куда Маришка вслед за своей учительницей, Ксенией Илларионовной, носила тетрадки, линейки, глобус, сейчас была операционная палата. А табличка все оставалась: «Учительская».
– Поди сюда, не бойся, – шепотом сказала операционная сестра и дала ей подержать какую-то металлическую штучку с ножами. Позже Маришка узнала, что одной из молоденьких медсестер, только что с курсов, во время операции стало тошно. Военврач третьего ранга Селиванова ее выгнала, никого другого под рукой не оказалось, и кликнула Маришку. Раненый, хоть и был под наркозом, весь крутился, выбивался. Военврач Селиванова резала ему руку пониже плеча. Когда ножик шел в тело, было слышно какое-то шипение, как будто выходил воздух. И словно не по живому телу резали, а по чему-то хрусткому, вроде бы как по замороженному киселю или по студню.
Маришка, хотя и замерла от ужаса, не отвернулась. Но руки ее задрожали, и ножики на лоточке зазвякали. Селиванова потихоньку выругалась, но не по Маришкиному адресу: трудно было резать.
Потом военврач третьего ранга сняла марлю с лица и помахала пальцами в резиновых перчатках. Раненого стали перевязывать, и он теперь лежал уже, как мертвец, очень синий.
Маришка догадалась, что ей уже здесь делать нечего. Но в это время военврач Селиванова, сняв перчатки, вдруг взяла ее за подбородок.
– Ну, крошечка-хаврошечка, хватила страху?
Потом Маришка краем уха слышала, что тому раненому нужно было переливать кровь. А так как не было в запасе нужной группы, то кровь дала сама Селиванова.
Маришке очень хотелось знать, какая у нее группа. Ей укололи палец и выяснили, что у нее третья группа, но сказали, что эта группа мало кому нужна. И Маришка с тоской пососала уколотый палец. Тот раненый, которому дала кровь Селиванова, умер на другой день. Маришке объяснили что у него была газовая гангрена, потому и воздух выходил из руки и хруст был такой. Значит, зря красивая Селиванова старалась.
С того дня Маришка стала меньше бояться военврача третьего ранга и не избегала попадаться ей на глаза.
– Ну что, Огонек? – неожиданно очень по-дружески обратилась к ней Селиванова после очередного обхода. – Как у нас с тобой дела идут?
Маришка не очень растерялась и ответила четко:
– Хорошо идут, товарищ военврач третьего ранга.
Так с легкой руки Селивановой все в госпитале стали звать Маришку Огоньком. И ей это прозвище очень нравилось.
Из Орловки наконец дошло до Маришки письмо. Там мобилизовали всех до единого молодых мужиков, ждали своего череда и пожилые. Хлеб еще не обмолочен, картошка, просо – все в поле. Успели наставить сена, но кто его будет теперь возить. Страшно выйти в луга: немец бьет с самолета, палит копны зажигалками.
«Дорогая доченька, – писала Евгенья, – сообщаем тебе, что брата Романка увезли вместе с училищем неизвестно куда, и не знаем следу. И об тебе болит душа. Такое время, что уж всем бы возля друг дружки».
Маришка заплакала. Накануне она видела в кинокартине, которую показывали раненым бойцам, немцев-фашистов. У всех у них были страшные, нечеловечьи хари, рогатые каски, кованые сапоги, как копыта. Что же будут делать мать с Веркой, с Лидкой, если такие чудища придут к ним в деревню, куда они все будут хорониться?
В начале осени стали проводить занятия по строевой подготовке. Вольнонаемному составу тоже было положено маршировать с учебными винтовками, ползать по лугу по-пластунски, осваивать приемы построения. Каждое утро с десяти до двенадцати.
Занятия проводил воентехник третьего ранга Чикин, человек не старый, но с темным, стариковским лицом. У него было что-то с легкими, однако это не мешало ему ухаживать за молоденькими сестрами, и улыбка с его темного лица никогда не уходила.
Кроме Маришки, на занятия из числа вольнонаемных выходило человек двадцать: повар, дезинфектор, бухгалтер, киномеханик, остальные санитарки, няньки, нанятые в поселке и в ближних деревнях. Все они исстрадались, пока научились без ошибок выполнять команды: на первый-второй рассчитайсь, ряды сдвой, в одну шеренгу становись, право плечо вперед, лево плечо вперед!.. Хорошо, что воентехник Чикин был человек непридирчивый, к тому же всегда влюбленный. А может быть, он придерживался того мнения, что если придет смерть, то каким плечом к ней ни поворачивайся, она все равно тебя накроет. Да и что спросить, когда народ такой не строевой, не физкультурный?
У Маришки было то преимущество, что она уже маршировала в школе, и теперь она все делала быстрее и лучше других. Лево-право выходило у нее само собой, а не после… того, как подумает. Она теперь и по коридорам не бегала, а ходила четко, считая про себя: три, четыре, левой, левой!.. Учебную винтовку она тоже привыкла носить и делать с ней приемы, но вот до настоящей стрельбы дело не дошло. Возможно, что при госпитале и не было настоящего оружия.
Занятия шли не нудно, потому что Чикин со всеми няньками и санитарками перемигивался, словно бы договаривался. Насчет вольнонаемного состава, который жил по своим домам, было не строго, а военнослужащим сестрам баловства не спускали. Маришка сама слышала, как на построении комиссар госпиталя, старший политрук товарищ Чалых сказал строго:
– Вчера во время демонстрации кинофильма «Девушка с характером» наблюдалось следующее безобразие: медицинская сестра Богданович и раненый боец занимались обниманием.
Маришка в первый раз подумала: хорошо, что она малолетка, ее никому не интересно обнимать.
В десятых числах сентября начались налеты и на Кирьяновку. Два дня подряд бомбили шахтерский поселок, наверное, хотели разрушить шахты. С самолета изрешетили пулями помещение железнодорожной станции, расколотили ветку на Тулу. Насмерть прибило двух ребят из ФЗУ, не пожелавших схорониться в щель. Лежачих раненых три раза пришлось вытаскивать в пришкольный сад, потом таскать обратно. Из окон высыпались все стекла и даже две двери от взрыва слетели с петель.
Сентябрь уходил, и темнело теперь совсем рано, еще до ужина. И каждый вечер можно было ждать нового налета. Но немцы в последние дни что-то не прилетали, хотя в прошлый раз ушли безнаказанно. Только где-то далеко, то ли в Туле, то ли на Косой горе, изредка били орудия.
Совершенно случайно Маришка услышала страшный разговор. Говорили врач по лечебной физкультуре и тот же воентехник Чикин.
– Ведь если придут, то голыми руками нас возьмут: три винтовки на всю охрану.
– Не исключено…
И Маришка в первый раз помертвела от страха. Тихонько, словно боясь быть услышанной этими проклятыми немцами, она побежала в свою палату.
– Девчоночка, куколка, может, слыхала, куда теперь нас?
Раненые уже знали, что готовится отправка. Маришка и сама видела, как отбирают истории болезни, как врач-эвакуатор переписывает какие-то списки.
– Истинный Бог, не знаю!
Пожилой боец чуть не в голос заплакал. Он был смоленский, с первых дней угодил в пекло, не ведал, что с бабой, что с детьми.
– Пусть бы смерти предали, хоть на день бы домой!..
– Врешь! – сказал другой раненый. – Не захочешь ты помереть. Я вон гляжу, ты по три каши съедаешь.
– Не плакайте, дяденька, – добавила и Маришка. Но на смоленского, видно, нашло: горько плакал, и все тут.
Пробило семь, и Маришка побежала разносить вечернюю кашу. Пожилой смолянин отсморкал слезы и достал из-под матраца собственную деревянную ложку. Когда Маришка принесла ему каши-перловки, он спросил:
– Хлебушка не прибавишь?
Этой просьбой он ей и раньше досаждал. Но она ответила вежливо:
– Персонал поужинает, останется, я вам принесу.
Ей очень неловко было собирать со столов куски, которых день ото дня становилось меньше и меньше, а на то, что оставалось в котлах, имели свой прицел повара и раздатчики. Ведь могли подумать, что Маришка эти куски для себя собирает.
Хлеба она смоленскому принесла, а он в своей горести съел и поблагодарить забыл. Что же, Маришка не обижалась.
Открылась дверь, сунулась дежурная медсестра:
– Огонек! К врачу-эвакуатору, быстро!
Сердце у Маришки дрогнуло: неужели всех увозят? А как же она? Возьмут ли ее с собой? О предстоящей эвакуации госпиталя говорили уже все, никакого секрета из этого не делали. Маришка думала, что сейчас ей велят собирать обувь, раздавать солдатские мешки, сворачивать койки.
Но составу был дан совсем другой приказ: брать носилки, и на станцию. Привезли еще человек полтораста раненых, очень тяжелых. Это эвакуировался полевой госпиталь из Сухиничей.
Таскали сухинических в полной тьме: доходил сентябрь. Из тех, кого привезли в четырех товарных вагонах, никто не шел, всех несли. Таскали и санитарки, и медсестры, и врачи, и политруки.
Маришка топила в операционной печку-голландку. Спать ей совсем не хотелось, только немножко ломило шею и плечи. Потом она не заметила, как заснула, уронив стриженую голову в коленки. А проснулась на топчане, под больничным халатом, которым кто-то ее накрыл. И вдруг увидела в окно, как через парк идут трое мужчин из числа вольнонаемных с лопатами на плече, а с ними старший политрук. Маришка не сразу, но сообразила, что идут они на шахтерское кладбище копать могилу: кто-то последнюю дорогу не пережил.
Эвакуация началась восьмого октября, перед рассветом. На станции, не освещенной ни одним фонарем, стояли вагоны с нарами из свежих досок. Только эти доски и белели в темноте, а сами вагоны были черные и грязные: здесь возили раньше не людей, а грязный товар какой-нибудь, а может, и скотину. Не было ни одного огня и в поселке, и машины, на которых подвозили раненых до станции, шли с темными фарами.
Маришка плакала и цеплялась руками за тех, кто с ней прощался. И вдруг кто-то сказал рядом:
– Хватит реветь-то, придурок деревенский!
И тут же Маришка услышала:
– Медсестра Богданович, перестаньте хамить! И наденьте как следует головной убор: вы не на гулянке.
Это военврач третьего ранга Селиванова Валентина Михайловна так вступилась за Маришку. Та Селиванова, которой она когда-то сильно побаивалась.
– До свиданья, Огонек! – ласково сказала военврач третьего ранга. – Не горюй, может, еще увидимся.
Минут через пять тихо, как бы украдкой, свистнул паровоз и запричитали вагоны. Маришка еще плакала, и искала глазами Валентину Михайловну. Но уж очень темно было…
– Товарищи вольнонаемные! – на этот раз не слишком бодро скомандовал воентехник Чикин. – Собрать носилки, построиться, и шагом марш!..
Все, наверное, включая и самого Чикина, подумали, что сегодня можно бы и не строиться. Но порядок есть порядок – время военное.
Как бы в дополнение ко всем слезам дома Маришка застала голосящую Лушу: оказывается, забегал на час Троша. Их держали где-то совсем недалеко, но он по своей малограмотности так и не собрался ничего написать. А теперь уж везли на фронт – это точно.
– Про тебя спрашивал, – сказала крестная. – А я уж и сама забыла, какая ты есть.
В свою родную деревню Маришка вернулась только к следующей весне. Орловку война обошла: еще зимой немцев повернули у станции Мордвес, между Каширой и Веневом, в сорока километрах от Маришкиного дома.
От Кирьяновки до Тулы Маришку довезла попутная машина, а там она побежала пешком, от деревни до деревни. Никто ее не остановил и не спросил никакого документа: ростом она по-прежнему была маленькая. Она шла по колдобистым, оттаивающим дорогам, видела темные метелки не убранного с осени проса, придавленную снегом и льдом гречиху, замороженную свеклу в буртах. Над оголившейся землей низко летало воронье и галочье, ближе к деревьям роились воробьи. На поречье ледышками торчали вытаявшие из-под снега капустные кочаны.
– Мамычка, это я пришла!.. – тихо сказала Маришка, перешагнув порог.
Евгенья кормила грудью Верку, которой доходил второй год, но которая как была, так и осталась крошечной. В новой избе было совсем голо, печь, сложенная еще прошлым летом, так и не белена. Мать кормила Верку, а сама прикрывала безжизненную грудь – холодно.
– Мама!.. – повторила Маришка. – Ведь это я.
– Золотая ты моя!.. – вымолвила наконец Евгенья. – Как тебя Бог научил?.. Как тебя ножки донесли?
Вечером в деревне не светилось ни одного окошечка: про керосин здесь давно не было и помина. Казалось бы, зачем немцам нужна была деревня в двадцать пять домов, низких, под соломой, которые, как стрижиные гнезда, прилепились на краю глубокого и холодного яра? Ради чего они хотели сюда прийти? Что бы они тут нашли? Груды невывезенного навоза на задворьях да десяток тонн картошки в поле, которую так и захоронил снег.
Только теперь, когда они вчетвером улеглись на лежанке, где раньше и двоим было тесно, Маришка почувствовала, как отощали, подробнели все – и мать и ребята. Сейчас она была при матери старшая. Она лежала, не спала и думала: чем они до тепла дотопятся? В Кирьяновке она собирала уголь возле шахт, а здесь чего же соберешь? Недаром, когда Маришка подходила к своей деревне, она не увидела ни одной рябиночки, ни одной лозинки – все срубили и стопили.
Холода продержались до поздней весны. Единственной крепкой обувкой были Маришкины солдатские ботинки, которые дали ей еще в госпитале. В них она бегала по воду, таскала на топку погнившую солому с дальнего поля. Но в избе у Огоньковых все равно было холодно, холодно!..
– Верка-то у нас елюшки дышит, – сама чуть живая, сказала Евгенья. – Синенькая вся!..
Девочке сровнялось два года, когда Огоньковы ее схоронили. Уже озеленилась земля, пели дрозды. Маришка оглядела всех, собравшихся на кладбище, и не по-детски ужаснулась: при ярком свете солнца все были черные, лицом похожие друг на друга: и темными платками, и провалившимися глазами. Старухи тянули «Вечную память». Маришка взглянула на небо, там переливалась лазурь. Сколько раз слышала она, что никакого Бога нет, но как ей хотелось верить, что крошечная Веркина душа будет плавать высоко-высоко в чистом, теплом небе…
Глава вторая
– Мамычка, а ведь мне завтра восемнадцать лет!..
– Забыла я, дочка, – виновато сказала Евгенья. Мариша и сейчас была невелика ростом, но лицо у нее было круглое и хорошенькое. Нос, правда, лупился, и обе ноздрюшки остались маленькими, детскими.
Евгенью же военные годы сломили. Так болел желудок, что никакая радость не была радостью. Слишком много за эти годы съели всякой травы и гнили: мороженой картошки, побывавшего под снегом зерна, прелой свеклы. Молодые животы все переварили, а Евгенья заболела всерьез. Теперь, даже если ела хорошую пищу, ей казалось, что во рту у нее трава, горькая и вязкая. Ей шел всего сорок третий год, но она уже была не работница. Даже посидеть выходила только к старухам, потому что тем, кто остался здоров, не всегда хочется слушать про чужую боль.
…По улице шел теплый майский ветер, качались молодые, наново посаженные лозинки. По ступенькам в избу карабкалась зеленая травка.
– Не застудись, – сказала Евгенья, глядя на голые, уже успевшие загореть Маришины руки. – Больно рано, касатка, начала раздешкой ходить.
А Мариша отрезала рукава у платья, чтобы залатать грудь и подол. Материал был еще довоенный, какого теперь не купишь: сколько носила, а цветочки видны.
Она вывела мать из избы, посадила на лавочку. На Евгенье было два платка: нижний, белый, чистый, а сверху черный с махрами, две телогрейки.
– Знаешь, чего бы я съела, доченька, – вдруг сказала Евгенья. – Кусочек бы той колбаски, какую отец-покойник привозил. Нарезана наискосок, и шкурочка так колесиком и остается.
– Где же нам колбасы взять, мама? Разве только Ромачок пришлет.
У Романка была своя история. Ремесленное училище, в котором он до войны учился, осенью сорок первого эвакуировали на Урал, в Свердловскую область. Ребят сразу же стали водить на практику, в кузнечный цех. Обували и одевали, спать клали на чистые койки, но с харчами было плохо: в супе лапшина за лапшиной бегала с дубиной. Когда Романок об этом писал матери и сестрам в Орловку, те обливались слезами, хоть сами и вовсе никакой лапши не видели в то время.
Все же, пока училище о ребятах заботилось, жить было можно. Но в начале сорок третьего ребят-ремесленников передали заводу, там рабочих было под тысячу, и о том, как прожить, теперь каждый должен был заботиться сам. Романок начал с того, что проел новые ботинки и бушлат, которые выдали ему при выпуске из училища, потом пару бязевого белья и шапку; остаток зимы проходил в солдатской пилотке, вследствие чего приморозил одно ухо. Но бедовал недолго: он был малый красивый, весь в мать, очень миловидную в девках Евгенью, выглядел он взросло и нашел себе «марушку». Она купила ему новый бушлат и ботинки, сама вывязала носки и варежки. Романок стал ходить на работу с картофельным пирогом и с бутылкой молока. В эту пору он в Орловку писем не слал, и Евгенья убивалась как никогда.
В конце сорок пятого Романка призвали в армию. Сейчас он дослуживал в стройбате под Москвой. Домой он еще ни рубля деньгами, ни одной конфетки девчонкам не прислал, но домашние, простив ему долгое молчание, теперь обманывали друг друга словами: «Вот Романочек приедет, вот Романок пришлет!..»
Евгенья сидела на майском солнышке, смотрела, как управляется Мариша. Ту бригадир часом раньше отпустил с поля: урок свой выполнила, а дома больная мать. Теперешний бригадир, инвалид войны, был с совестью. Не то что прежняя бригадирша-злыдня, которая из здешних баб немало крови попила.
– Минералку, что ли, растаскивали? – спросила Евгенья. Она уже два года как не работала, а знать ей хотелось все.
– Уже запахали. С понедельника садить.
Мариша шестую весну встречала в поле. Когда она в сорок втором вернулась в Орловку, никто не поглядел, что она маленькая: хочешь есть, иди работай. Сперва Евгенья старалась ее далеко от себя не отпускать, боялась, что обидят: положат лишнего девчонке на горб и сделают на весь век калекой. Но все же пришлось отпустить. Косить за взрослыми бабами Мариша не поспевала, а грести была не слаба и снопов навязывала больше взрослых девчат. Но хлеба в Орловке сеяли год от года меньше, в основном была картошка да свекла, считалось, что это нетяжелая работа, каждый подросток может ее выполнять.
На огороде у соседей фыркала лошадь.
– Когда же нам-то вспашут? – тревожно спросила Евгенья. – Вечор вижу, Иван Степаныч кобылу ведет, думала, к нам…
На горе свое, Евгенья была не солдатская вдова, а вдова мирного времени. И сколько раз ее по этому поводу обходили: то одного не дадут, то в другом откажут. Ей казалось, что она и расхворалась не от плохого питания, а от несправедливого к ней отношения.
– И нам вспашут, – заверила Мариша. – Главное, мамычка, вы себя не растравливайте из-за этой кобылы.
Она одним самоваром кипятку обстирала всю семью, оставшиеся угли вытрясла в утюг. Пока домывала последнее, первое уже просохло на майском ветру, можно было и гладить. Каждую стирку Мариша боялась, что уж это будет в последний раз – расползется на ниточки.
– Пойдемте, мамычка, в избу, – позвала она. – А то холодать начинает.
Евгенья покорно встала, пошла за дочерью. У Мариши были такие же серые, добрые глаза, как у нее самой в девушках. Но Евгенья когда-то заплетала нежидкую косу, а дочь, как все сейчас, стрижена на косой проборчик, только уши накрыты. Младшую, Лидку, всю войну вовсе коротко остригали, как овцу: воды и мыла было в обрез.
– Может, чаю хочете, мама? В самоваре на чашечку осталось.
– Нет, – сказала задавленная болезнью Евгенья. – Теперь что-то уж и ничего не хочу.
Она легла на постель, и Мариша накрыла ее. В избе было тихо, тихо. Лидка ушла на речку, приловчившись, словно парнишка, ловить на удочку. Мариша поглядела на ходики: шестой час, пора бы ей воротиться. Может, и вправду чего принесет.
Голые когда-то стены огоньковской избы теперь украсили фотокарточки. На самом видном месте висел, конечно, Романок, снятый в солдатской форме. Шея у него была крутая, нос вздернутый и веселый. За плечами сидели две голубых птички на серебряных веточках.
Остальные фотокарточки были тоже неплохи. Два года назад, перед самой победой, в деревню приехал из Венева фотограф. Делал снимки за картошку: за шесть карточек ведро. Поскольку впереди была посадка, Мариша с матерью платить картошкой не рискнули, а предложили фотографу пяток яиц от первой курочки. Тот взял охотно, а за то, что Огоньковы пустили его в темный угол за печью проявлять снимки, сделал им лишнюю семейную фотографию. Евгенья сидела возле своего дома, на самом солнышке. За плечами у матери стояла Мариша, сбоку десятилетняя Лидка. Девчонки улыбались, а Евгенью не удалось уговорить улыбнуться: она переживала, что нет дома Романка.
– Не расстраивайтесь, мамаша, – сказал Евгенье фотограф, думая, что она оплакивает убитого. – Вечная память, как говорится!..
У самого фотографа не хватало трех пальцев на правой руке, но ремесло его не покинуло, он, как мог, подрабатывал на прокорм своей семье.
– Вас я сделаю в овале и с обрамлением, – обещал он Марише, которая ему как будто понравилась. А может быть, просто рассчитывал, что за овал и обрамление Огоньковы пригласят его пообедать.
Но когда фотограф увидел, чем обедает семья, где лишь одна шестнадцатилетняя Мариша способна заработать кусок, то сесть за стол не согласился, сказал, что сыт, что уже ел.
Мариша тогда в первый раз застыдилась своего платья, в котором ей пришлось фотографироваться. На ногах у нее были не туфли, а сапоги большого размера с парусиновыми голенищами, которыми ее премировали в колхозе.
– Стойте ровненько, – велел фотограф, заметив, как Мариша переминается от неловкости. – Ваша красота сама за себя скажет.
Марише было отчего волноваться: это был второй снимок в ее жизни, а первого можно было и не считать: там она была снята в младенчестве, между отцом и матерью. Этот маленький, тусклый и желтый снимок сгорел в сороковом году вместе с деревянной переборкой, оклеенной голубыми обоями. А на втором снимке она прямо стояла во весь свой рост, и на пальце у нее светился занятый у подружки перстенек.
Потом этот перстенек был на радостях отдан Марише навовсе: у подружки вернулся домой отец-солдат, с тремя медалями и с двумя чемоданами добра. Наверное, кто-то и позавидовал, но не Мариша. Она радовалась, что вернулся домой, в деревню живой-здоровый человек, значит, скоро кончится война и будет другая жизнь. Она уже мечтала, что будут у них опять ягнята, гуси, утки. Насадят в огороде новых яблонь, вишен, вся деревня оживет, свадьбы пойдут… Правда, ей-то самой рано было о свадьбе думать. Но раз думалось…
Весна в том, сорок пятом, была ранняя, даже грачи прилетели раньше срока, потеснили вороньи и воробьиные стаи. Весь апрель работали от света до потемок, и все с песней. Лошади и те вроде что-то чувствовали, шли без кнута.
Девятого мая Мариша в первый раз в своей жизни хлебнула свекольного самогона, этой белой, пенистой жижи, и в ужасе затаила дыхание. Но уже через минуту радостно улыбалась и пела со всеми, сидя в избе у самого председателя, где в это утро все было залито солнцем.
Кто-то сунул ей в руки балалайку-пятиструнку. Мариша играла хорошо, у них в Орловке почти все девчата умели держать в руках балалайку. А вот гармонистов уже не было.
Сыграй, милый, сыграй, Вася!..
Мариша оглянулась на мать: Евгенья сидела тихая и красивая. Она всегда была лицом голубая, как снятое молоко, но тут у нее на щеках расплылся румянец, так что Марише даже немножко страшно стало: уж больно резка была перемена.
В тот же яркий день, но уже к вечеру, приехали на машине из района поздравлять с Победой, раздавать детям гостинцы.
– Да вы что, я же взрослая, – сказала Мариша, когда ее чуть не приняли за подростка. – Мне не надо!
– Дайте ей, дайте! – крикнул председатель. – Не больно велика!
А Марише очень хотелось быть взрослой. Праздничные пряники свои она отдала сестренке Лидке, которая сжевала двойную порцию, как за себя кинула. А Мариша только прикусила чуть-чуть. Зато воды попила не один ковш: это ее мучил проклятый самогон.
Похмелье не помешало Марише на другое утро подняться на бледной зорьке.
– Что тебя Бог в такую рань поднял? – спросила Евгенья. – Поди, и трех-то нету?
– Управлюсь да побегу бригадку нашу побужу, – шепотом отозвалась Мариша.
– Неугомонная ты! – ласково сказала Евгенья. – Деточка ты моя глупая!
Мариша уже обувалась возле порожка.
– Не глупая я, а работать надо, мамычка. Гляньте в окно, какой день сегодня золотой. Теперь уж все хорошо будет, мамычка милая!
Мариша глубоко вздохнула, вспоминая то утро, те надежды. Два года прошло, она стала совсем взрослой. Отодвинув шторку, поглядела на улицу: солнышко уже заходило, синела трава. Из яра поднимался туман, расползался по склону. На завтра опять все обещало хорошую погоду.
– Нянька, я сегодня шешнадцать штук пымала!..
Это появилась бойкая рыбачка с ведерком, в котором плескались рыбки-крошечки, такие же тощие, как и сама Лидка.
– Кабы нажива хорошая была, – баском сказала она, – я бы их тыщу наловила.
Утром, когда Мариша поднялась на работу, мать не спала.
– Кто бы меня на ноги поставил, – уже с безнадежностью сказала она, – я бы тому в самую землю поклонилась!..
Кланяться в землю Евгенье не пришлось. Она дожила только до вершинки лета, до Петрова дня. Соседки толковали, что не надо было в больницу отдавать, что там кого хочешь залечат, но Мариша, с тех пор как работала в госпитале, свято верила каждому, на ком был белый халат.
Когда она узнала, что матери больше нет на свете, ее охватило страшное отчаяние. Марише уже казалось, что мало они мать берегли, плохо за ней ходили, не всякую ее просьбу уважили. Еще вчера была у них с Лидкой мать, пусть больная, еле слышная, но в полной памяти и с любовью к ним, к своим детям, до последней минуты.
Тем больше была сражена Мариша, когда увидела, что двенадцатилетняя Лидка вытянула из комода оставшийся после матери платок и прихорашивается у зеркала.
– Что же ты не плачешь-то?.. – крикнула Мариша. – Тебе и маму не жалко?
– А что, мне на кладбище непокрытой, что ль, идтить? – отозвалась Лидка.
Мариша совсем растерялась. Но что возьмешь с дуры-девчонки? И Мариша нарыдалась одна за двоих.
Романку была отправлена в часть телеграмма, заверенная в сельсовете, чтобы отпустили на похороны. Больница велела мертвую Евгенью забирать поскорее, а Романок все не ехал.
– Ой, погодите минуту, не закидывайте!.. – закричала Мариша, увидев на дороге пылящую машину. Но та, не доехав с полверсты до кладбища, свернула куда-то в сторону.
Романок явился через три недели после Евгеньиных похорон. Приехал уже насовсем – демобилизовали раньше срока: осталось двое сирот. Если дома Романок бодрился и охорашивался, то на кладбище, над могилой, всхлипнул и высморкался прямо в зеленую траву.
Все надежды Мариши теперь были связаны со старшим братом. Ей казалось, что он среди них и самый умный, и самый красивый. Хотя кудри Романку в стройбате обкорнали, все равно он был видный – розовощекий, чистый, под гимнастеркой белая рубашка, а портянки из такой теплой и мохнатой байки, что их прямо жалко было навертывать на пятки.
С начала уборки Романок вышел в поле бригадиром, отдали ему под начало с десяток девчонок и десятка полтора вдовых баб. Опыта у него не было, но выбирать не приходилось, – парней и мужчин в Орловке было совсем мало, в редкой избе пахло мужиком и табаком.
– Годочка через два мы тебя в бригадиры, – сказал Марише председатель. – Да только замуж небось выйдешь, уметешься отсюда куда-нибудь.
– Куда же я уметусь? – серьезно отозвалась Мариша. – Я не одна, у нас семья.
Маришины погодки служили сейчас кто в Германии, кто в Венгрии, кто у себя на Родине, по дальним углам. На выходные дни набегали в Орловку ребята-эмтээсовцы, еще раза два-три в году привозили на картошку молодежь из Тулы, из Калуги, даже из Москвы. Но дело кончалось тем, что поговорят, походят с баяном, с гитарой, оставят адрес – и все.
Еще когда жива была Евгенья, Маришу удивил неожиданным ухаживанием немолодой ветеринар-зоотехник.
– Нет, – почти испугавшись, сказала Мариша. – У меня мама больная.
– А то подумай, – не отставал ветеринар. – Мне шалавы надоели, мне на любовь хорошая женщина нужна.
«Женщина» попыталась подумать, но тут же опять ужаснулась. Больше всего Мариша боялась, чтобы не узнала мать и чтобы не подумали, что это она сама навязывалась ветеринару. Ей показалось, что никто ни о чем не догадывается, но уховертка Лидка и тут влезла:
– Ветинар твой небось слыхал, что про тебя в газете писано. Он все газеты получает.
Мариша для виду замахнулась на сестру-нахалку. Но не удержалась и рассмеялась.
– Вот и писано! – сказала она. – А про тебя чего написать? Что ты двойки одни получаешь?
Про Маришину ударную работу действительно писала областная газета «Коммунар». Только никто не догадался прислать ей вырезочку хотя бы. На память. Но все равно она втайне гордилась: ведь не про всех пишут.
Свои личные дела Мариша таила даже от матери: никогда Евгенья не знала, есть ли у ее старшей дочки кто-нибудь на душе. Гнать ее домой, как других девок, не приходилось, всегда, чуть стемнеет, приходила сама. А когда Евгенья слегла, то только на Первое мая и на Победу Мариша собралась гулять, да и то потому, что с улицы очень уж звали.
Еще большая стеснительность появилась у Мариши при старшем брате. Сам он с деревенскими девчатами не водился из гордости, переписывался с какой-то девицей из-под Москвы. Купил патефон, сделал на проулке скамейку и там все вечера, когда не дождило, этот патефон крутил. Неаполитанские песни пока заменяли ему будущую любовь.
Если дома все было управлено, то и Мариша, спрятав голые коленки под стареньким платьем, тоже сидела и слушала, мечтательно глядя на крутящуюся пластинку.
– Ну, Огоньковы опять музыку завели, – говорили соседи. – А есть-то, наверное, нечего.
Но это уже была неправда. С возвращением Романка Евгеньины сироты стали подниматься на ноги. В ту осень они нарыли много картошки, поэтому взяли поросенка. Была надежда, что к весне возьмут и телку. Около их избы теперь часто стояла на привязи лошадь: бригадиру было положено. А раз была лошадь, то появилась и возможность привезти лишней травы, соломы, дров на топку и не волочить на себе кули с картошкой. Казалось бы, Мариша не должна была испытывать ничего, кроме признательности к брату-бригадиру, но к ней очень скоро просочился в душу страх, что Романок зазнается, зарвется, из бригадиров его турнут и кончится все плохо. Когда он вернулся в деревню, все его ласково звали: «Романушка, Романок милый». А потом стали говорить:
– Вон Огнище покатил! Скоро совсем ходить разучится.
Бригадир из Романка получился плохой. Ясно было, что, как только найдется стоящий человек, из бригадиров Романка турнут. И им овладела торопливая жадность: пока у места, хоть лишний куль зерна завезти, припахать сотки три-четыре к огороду.
– Они мне еще за мать ответят! – удивив неожиданной злобой Маришу, сказал Романок. – Задушили работой женщину.
– Не трожь ты маму, – вдруг вырвалось у Мариши. – Да ради Господа Бога не трожь!..
Дожидаться, пока его снимут с должности, Романок не стал, устроился завхозом в районную школу-десятилетку. Ездить туда надо было на автобусе, зато платили зарплату в триста пятьдесят целковых, работа не пыльная, не на здорового мужика рассчитана, и то краски домой притащит, то фанеры, то гвоздей. С электролампочками было трудно, а у Огоньковых всегда горела шестидесятисвечовая.
Но главные деньги давала им картошка. Уже давно были порублены вокруг всей Орловки вишневые и яблоневые сады, все уступило место картошке, которая на веневском неистощимом черноземе росла крупная, ровная и разваристая. Ее ели по три раза в день, ею кормили птицу и скотину, возили продавать в Венев, в Каширу и даже в Москву. В последнюю предреформенную весну она стоила, например, на Павелецком рынке до тридцати рублей за килограмм.
Теперь, правда, цены были уже другие, но и жизнь тоже была совсем другая. В мае сорок восьмого с большой выручки старший брат купил Марише ко дню рождения первое ее пальто на сатиновом подкладе, с отстрочкой по бортам и вороту и с пуговицами на карманах: Марише исполнялось девятнадцать лет.
Что купить, что продать – этим теперь руководил исключительно Романок. Одевался в солдатскую гимнастерку, чтобы было больше доверия, выходил на шоссе, там голосовал проходящим машинам. На базаре нагребала в ведра Мариша, а Романок, чтобы не пачкаться и не пылиться, только принимал деньги и сдавал сдачу.
Очень скоро Мариша не столько уследила, сколько чувством поняла, что Романок хитрит, обсчитывает покупателей, а выручку утаивает от нее. Но она, конечно, молчала, ничего не смела сказать, только попробовала давать большой поход, из-за чего на каждом мешке выходила потеря в четыре-пять кило. Сначала Романок на это посматривал снисходительно, но вдруг нахмурился и спросил:
– Ты чего это делаешь?
– Ведь у нас своя…
– А я сказал, кончай!
И Мариша замолчала. Когда ехали обратно из Москвы, по вагонам электрички ходил слепой и, подталкивая впереди себя маленького мальчика, громко и мучительно просил:
– Граждане пассажиры, я являюсь отцом четверых детей, жена тоже инвалид…
– Дай копеечек двадцать, – тихо сказала Мариша Романку.
– А где я их взял?
У Мариши своих денег не было. Но в сумке лежал белый хлеб, купленный в московской булочной. Она отломила уголок от мягкого батона и дала мальчику-поводырю.
– Ишь раздобрилась!.. – тихо, но грубо сказал Романок. – Ты на вокзале в уборную ходила, за что попало хваталась, а я, между прочим, этот хлеб кушать буду.
Вообще Романок стал держаться культурно, по утрам долго мылся у крыльца, смущая своим голым телом проходивших мимо баб и девчат. Уже не говорил «исть», а тем более «жрать», а только «кушать», и не скрывал, что в перспективе у него женитьба на московской невесте. Та, судя по присланной фотокарточке, была далеко не красавица, зато будущая учительница и хотя не из самой Москвы, но все-таки из Московской области.
Мариша испуганно посмотрела на брата, вдруг вскочила и убежала вперед по вагонам. Сошла с поезда не в Кашире, где была пересадка на автобус, а на каком-то полустанке, не доезжая Венева, и в свою деревню пришла только на другой день, заплаканная, сирота сиротой. Самое же трагическое заключалось в том, что она еще забыла в поезде под лавкой четыре порожних мешка из-под картошки, а они были чужие, заемные.
Романок решил свеликодушничать.
– Хрен с ними, с мешками! – сказал он. – Свои отдадим. Люди и насыпью возят.
Но насыпью возить не пришлось. Уже в следующую поездку Романок купил у одного мужика в синей спецовке четыре явно сворованных тарных мешка, за все четыре отдал всего десятку.
– Сумочка такая тебе подойдет? – спросил он Маришу, показывая на вывешенную в витрине галантерейного ларька голубую клеенчатую сумку с пряжкой под золото.
Сестру он все-таки жалел, ей с проданной картошки перепадало кое-что. У нее уже и платья были и туфли. И Марише как-то в голову не приходило, что ведь все это было куплено на ее собственные деньги: только она одна и работала в колхозе (значит, земля принадлежала ей). Лошадь, чтобы пахать, боронить эту землю, тоже давали ей, а не брату. Но Марише казалось, что самое трудное – это продать картошку, договориться насчет машины, захватить хорошее место на рынке. Уж тут-то она с Романком соперничать никак не могла.
– Спасибо, Ромочка! – благодарно сказала Мариша. – Я с этой сумочкой на кино ходить буду.
Романок был не против, чтобы Мариша ходила в кино. Но возвращаться поздно не велел. Да она бы и сама постеснялась…
В начале зимы пятидесятого года состоялась первая свадьба в доме Огоньковых: женился Романок. Невеста его, с которой он познакомился, служа в стройбате под Москвой, только что закончила педагогический техникум и распределилась к ним, в Веневский район. Звали невесту не по-деревенски, Сильвой, хотя отчество у нее было самое простое – Ивановна. С Маришей они были погодками, и можно было рассчитывать, что станут товарками и помощницами друг другу. Но очень скоро Мариша поняла, что невестку ни в огород не пошлешь, ни по воду, ни тем более навоз откидывать. Если даже та и пойдет, то не много наработает – не приучена.
Свадьба получилась не из веселых: со стороны невесты вышла большая накладка. Оказалось, что мать Сильвы, бухгалтер хлебозавода, к моменту бракосочетания дочери находилась под следствием и вскоре же получила срок с высылкой в какой-то дальний лагерь. Мариша восприняла это очень тяжело, словно не невестина мать, а сама невеста растратила государственное добро. Она бы на месте Сильвы не торопилась со свадьбой и хоть немного погоревала бы.
«Что же мне делать-то, когда народ разойдется? – думала Мариша, глядя на молодых. – Ведь они спать ложиться будут…» И гадала, куда им с Лидкой деваться. Та стала такая наглая, что не застесняется, будет подсматривать в оба глаза.
Но подсматривать в первую ночь было нечего: Романок перепил и беспробудно спал. Сильва устало и разочарованно спросила у Мариши:
– У вас будильник звонит? С утра у меня уроки…
Будильника у Огоньковых не было, но Мариша обещала молодой невестке, что вовремя разбудит. Она услала Лидку к подружке, а сама забралась на лежанку, в дальний угол. На постели, где спала когда-то покойница мать, теперь лежали молодые. Романок так и не очнулся, похрапывал. Сильву стоило бы пожалеть, но ясно было, что возле Романка она уже не в первый раз, недаром кто-то успел заметить, что молодая на пищу смотрела с неприязнью, поэтому можно предположить, что месяцев через семь родит.
Еще не рассвело, когда в окошко к Марише постучалась подружка, посылали возить с поля свеклу. Ночью выпал снежок, под ногами сразу чернело, слышно было, как в яр сочилась вода.
Собираясь на работу, Мариша подумала, что сегодня будет очень грязно, но все-таки надела ватник получше и покрылась светлым платком: выглядеть старухой ей никак не хотелось.
– Пора вам, – тихонько сказала она над спящей Сильвой. – Восьмой час…
Вечера день ото дня становились темнее. То ветер подвывал, то дождило. Как-то поздним вечером Мариша без особо понятной причины всплакнула на печке. Ей казалось, что эти слезы никому не мешают. Но Романок, вдруг очнувшись возле своей супруги, спросил очень сердито:
– Ну, еще чего такое?
– Извините, – шепнула Мариша, – я думала, не слышно…
Наступившая зима особых радостей не сулила. Сильва действительно была в положении и летом должна была родить. Мариша поймала себя на том, что заранее испытывает какую-то неприязнь к ребенку, которого собиралась произвести на свет ее невестка. Нянькой Мариша пробыла все свои детские годы и теперь с тревогой предчувствовала, что опять и настирается и накачается: вряд ли Романок разрешит Сильве бросить работу, тетрадки ее. За это ведь платили деньги, и немалые. У самой Мариши денег не было. На трудодни ей выдали сахарным песком, продать который она не решилась. Все в семье пили чай внакладку, Лидка валила по три ложки на стакан.
Ей под новый, пятьдесят первый год исполнилось шестнадцать. Когда-то она донашивала за Маришей и даже соглашалась надеть какую-нибудь одежду покойной матери, но теперь как с цепи сорвалась: стала требовать и того и другого. Даже в жару не хотела выйти из дому на босу ногу, требовала белые носки.
Ни добрым словом, ни угрозой нельзя было выгнать Лидку в огород, чтобы пополола или полила. Зато ворохами носила из школы двойки, утром ее было не поднять, вечером не загнать с улицы. А загонишь, сядет на диван и заводит патефон.
Диван этот тоже имел свою историю. Романок привез его поздно ночью из школы, как сактированный. Правда, большого ущерба он этим школе, где работал, не нанес: диван был древний, веревки между пружинами сгнили, обивка истерлась. Но Романок прихватил шпагата, мешковины и метра два красного сукна в чернилах, которым покрывали стол во время собраний. Романкова молодуха достала из своих запасов полотняную дорожку, расшитую васильками, так что получился такой диван, который в деревне был не у всех и каждого. Садиться на него с ногами было не велено, одна только Лидка пренебрегала этим запретом.
Как-то раз Мариша пришла с работы очень усталая, грязная: за день с тонну колхозной картошки перебрала, перетаскала из зимних ям, рассыпала на солнечной стороне у сараев. Пришла и увидела, что Лидка завалилась на диван, поет что-то и мазюкает себе ногти красным карандашом. На столе неприбранная посуда, в ведрах воды нет даже на донце. Марише очень хотелось крикнуть сестре: «Так целый день и будешь валяться, зараза?»
Но она сдержалась. Сказала только совсем тихо:
– Ноги-то спусти: увидят, заругают.
Лидка и ухом не повела. Она в отличие от старшей сестры ни брата, ни его супруги нисколько не боялась. Наоборот, с Сильвой у Лидки сразу пошла дружба: сядут вечером на тот же диван и разглядывают журнал, в котором платья последней моды. А Маришкино сердце болит о другом: нужно картошку из подпола доставать, а то росток кольцом пойдет, обломается. Но разве скажешь? С Лидки много не возьмешь, а другая ведь образованная, техникум закончила, можно бы с глупостями и погодить. Раз в деревню приехала, надо к делу применяться.
– Нянь! – окликнула сейчас Лидка расстроенную Маришу. – Чего это ты дуешься-то? Дала бы чего поесть.
Вечером и невестка спросила, почему у Мариши вроде бы плохое настроение. Та промолчала, в первый раз ничего не ответила.
– Небось на заем сотни на три женили, – высказал предположение Романок. – Отдавай, раз богатая.
На это Сильва резонно заметила:
– Ты-то хоть не распространяйся. Я сама хожу, людей подписываю.
А Мариша думала совсем не о займе. Она думала о том, что стала в родной семье чужая. В семье, из которой так быстро отлетел дух покойной их матери. При Евгенье никто не бранился, не завидовал друг другу, не зарился на чужую обновку или подарок. Никто не подковыривал друг друга, не обижал.
Теперь все меньше и меньше раздавалось в избе у Огоньковых ласковых слов, а больше высказывалось деловых соображений.
– Мама срок отбудет, ее на прежнее место восстановят, – как-то сказала Сильва. – Надо, чтобы она и Лиду туда устроила.
Единственное, за что Мариша уважала невестку, это за ее профессию. Ей хотелось, чтобы и Лидка пошла в педагогический техникум, стала бы учительницей. Но Сильва почему-то была на этот счет другого мнения.
– За четыре сотни полдня в классе отсиди, да плюс подготовка, да тетрадки…
Мариша глядела на молодую невестку и вспоминала свою учительницу Ксению Илларионовну, она-то уж, конечно, сотен не считала. И Мариша не только не выразила никакой благодарности Сильве за ее заботу о Лидке, а наоборот, сказала холодно:
– Вы уж устраивайте кого-нибудь другого.
Сказала, хотя и знала: никто ее не спросит в случае чего. Захочет Лидка пойти на хлебозавод – пойдет. Захочет на Камчатку уехать – тоже не удержишь.
Вообще с тех пор, как Романок женился, огоньковская семья поделилась на две неравные половины. В одной был он сам со своей Сильвой, к ним же липла Лидка. В другой – одна Мариша. Уже давно не спрашивали ее, если хотели что-нибудь съесть или выпить: прямо брали со стола, с полки и ели. Только посуду и крошки убирала она сама. Она же стирала постельное со всей семьи и носила полоскать под яр. Сильва с белым бельем совсем управляться не умела: на какую-нибудь комбинашку или лифчик измыливала целую печатку мыла. Да и чего было жалеть, когда мыло это не куплено, а принесено Романком из школы, где его выдавали на хозяйственные нужды.
Была у Маришки тайная надежда, что когда отбудет срок наказания мать ее невестки, то Романок с женой переберутся под ее крыло. Но надежда эта угасла самым неожиданным образом.
Получено было письмо, из которого Огоньковы узнали, что мать Сильвы освобождалась досрочно, выходила замуж за «вольного» и оставалась на жительство в Приуралье. Дочку она просила как можно скорее выслать ей те вещи, которые она, не дожидаясь описи имущества, распихала по родственникам и знакомым.
– Ведь это надо же!.. – с возмущением сказала Сильва. – Нашла там себе какого-то кобеля!..
Романок был выпивши, но все сообразил.
– Надо поехать, пока сама не заявилась. Ты говорила, там польты были…
– А вдруг не отдадут? – вмешалась с жадным огоньком в глазах шестнадцатилетняя Лидка.
И тут Мариша не выдержала.
– Бессовестная! – крикнула она младшей сестре. – Ты что не в свое дело лезешь?
Все повернулись к Марише, как будто усмотрели в этом ее вскрике посягательство на то имущество, о котором только что шла речь.
– А чего это ты орешь? – грозно спросил Романок и даже поднялся с места. – Ты кто тут такая?..
Мариша убежала в холодные сени, там наплакалась.
– Ты чего это? – вышел к ней Романок. – Ставь самовар, мы чаю хотим. Вон конфеты, высыпь в блюдце.
Конфеты эти были недоданы кому-то из ребят в школе. Романок иной раз приносил и мятные пряники, и сушки, и пирожки.
– Хитер народ! – сказал он как-то. – Уроки пропускают, а за пряниками приходят.
Мариша ставила самовар, и слезинки капали то в чугунок с углями, то на самоварную крышку с припаянными ручками. Новый самовар в те годы трудно было купить даже в Туле, а то бы Романок расстарался. На самовар ушло последнее ведро, и надо было идти по воду. Раньше Марише и в голову бы не пришло: кому же идти, как не ей? Но сегодня что-то у нее внутри зашевелилось, упрямое и злое. Она поставила пустые ведра посреди избы и сказала чужим голосом:
– Ну, все теперь!.. Идите сами.
Весной пятьдесят первого в Орловскую МТС прислали на ремонт техники молодых рабочих с одного из больших подмосковных заводов. Был среди них очень симпатичный, хотя и немножко чудной парень: холодно было, а он приехал без шапки, в одном пиджаке, в парусиновых ботинках. Звали парня Рэм, а фамилия его была Султанов. Говорил он по-русски совершенно чисто, но косоватые, красивые глаза, а также плотные белые зубы выдавали в нем Восток.
– Вы ударница, конечно? – спросил Рэм у Мариши.
– Не знаю, – сказала Мариша. – Работаю…
– Такие, как вы, всегда ударницы.
– Почему же?
– Лицо у вас такое.
Мариша пожала плечами и покраснела. Рэм ей очень понравился.
– Ручки у тебя какие маленькие! – сказал он, перейдя на «ты». – Как же ты ими работаешь?
У Мариши действительно были маленькие, совсем не крестьянские руки. За Огоньковыми тянулся слух, будто покойная Маришина бабушка родила Евгенью не от мужа, а еще от барина. Даже вторая, уличная фамилия была у них – Бариновы. Самое трудное Марише было своими руками ухватиться, но уж если ухватывалась, то несла. Рэм разузнал, где живет Мариша, и вечером явился к ним в избу. Там вся семья сидела на полу, резали картошку на посадку. Только Сильва занималась своими тетрадками.
– Это «лорх» у вас? Много рассаживаете?
– Восемь мешков.
– Есть еще очень хороший сорт, «берлихенген» называется. Слыхали?
– Слыхали, – отозвался Романок, хотя никакого «берлихенгена» отроду не знал.
Рэм достал большой складной ножик с тремя лезвиями и тоже сел на пол, помогать хозяевам. Мариша молчала, чтобы не выдать своего волнения, которое охватило ее при приходе гостя. Ей казалось, что все сразу поняли, зачем Рэм сюда пришел.
Но Романок или ничего не заметил, или не хотел замечать. Сказал только после ухода Рэма:
– Сорта знает, а из ботинок пальцы лезут.
Весна была, как нарочно, ветреная, холодная. Поэтому, когда при следующем свидании Рэм протянул Марише свои руки, чтобы погрела, она их не отстранила. Наоборот, позволила ему сунуть их ей подальше в теплые рукава.
– Влюбился я в тебя, – сказал Рэм. – Что, не веришь?
Такое честное и нежное признание Мариша слышала впервые, а ей уже подходило к двадцати двум.
– Что-то в душу постучалось, – ласково улыбаясь, продолжал Рэм. – А ты ничего такого не чувствуешь?
– Нет пока, – тихо сказала Мариша, хотя уже чувствовала.
– Неужели? Таишься, наверное. А зачем это нужно?
– Вы ведь уедете…
Почти до утра Мариша не уснула, боясь пошевелиться, словно Романок смог бы догадаться, о чем она думает. Она очень боялась брата, который всего двумя годами был старше ее. Заранее представляла, как он вскинет брови, потом сощурится и спросит:
– Эт-то еще чтой-то такое?..
Тем не менее на следующий вечер Мариша, чуть стемнело, выбежала к Рэму. Каждую минуту ее могли хватиться дома: одному ужинать, другому постелить. Романок по вечерам мыл ноги, выцеживая воду из самовара, а она забыла этот самовар разогреть.
Они с Рэмом стояли в потемках за двором. Но даже и тут некуда было спрятаться от ветра.
– Тебе небось холодно? – тихо спросила Мариша. – А, Рэмочка?..
Ее возлюбленный сразу же проявил восточную щедрость, пришел с подарком. Это был шелковый головной платочек с летучей бахромкой, который он показал Марише при огоньке зажженной спички.
– Где же ты его взял?..
– Ножик за него отдал. Видела, какой ножик был у меня?
Мариша не чувствовала себя такой уж бесприданницей, кое-что имелось и у нее: туфли, платья. Но за этот платочек она исполнилась такой благодарности, что у Рэма победно сверкнули глаза.
– Будешь меня любить, маленькая?
Не такая уже Мариша была маленькая, да и сам Рэм был отнюдь не богатырь. Но отеческое его обращение вконец ее растрогало, она обхватила Рэма обеими руками и сказала ему в самое лицо:
– Буду, буду!..
…Поля вокруг деревни были страшно голы, и апрельская ночь недостаточно темна. То и дело приходилось оглядываться – не увидели бы. С осени на каждом задворье хватало соломы-сторновки, припасенного для скотины сена. А сейчас уже ничего, кроме голой черной земли да сырых прутьев, остатков топки.
– Не надо, Рэмочка!.. – с нежностью и стыдом попросила Мариша, когда Рэм совсем осмелел. – Уважь меня, не надо!..
Она жаждала того, чтобы все было как положено: хоть не богатая, но свадьба, белое платье, обручальное колечко. Марише казалось, что если она сейчас уступит Рэму, то этого колечка ей не видать. И к девичьему ее страху подмешивалось еще опасение погубить в весенней грязи свое единственное пальто, купленное три года назад раскошелившимся Романком.
Взволнованный и сильно озябший, Рэм положил свою голову Марише на плечо. Наверное, понимал, что силой тут не возьмешь, а жалость – самое уязвимое Маришино место.
К полночи притих ветер и на землю спустилась белая стужа. Наверху расплывались и таяли серые, как немытая овечья шерсть, облака. От этой стужи завыли на задворках некормленые собаки. Их держали почти в каждом дворе, но редкий хозяин заботился об их пропитании. Две из них сейчас проскочили мимо Мариши и Рэма худыми, вытянутыми тенями, но не испугали, а только нагнали какое-то недоброе чувство.
– Не серчай, Рэмочка, – сказала Мариша, – тебе бы надо идти…
Все вокруг уже спало, между темными избами шевелился холод. Но пустить Рэма даже в сени Мариша не рисковала.
– Ну, нагулялась? – утром спросил Романок и гневно сощурился. – Ишь ведь чего придумали!.. Шли бы обыматься за чужой двор, а то хотишь нас опять под пожар подвести?
Мариша поняла, что это Рэм выдал их встречу, чиркнув спичкой в темноте. Хорошо, что у Романка хватило совести не пойти туда и не застать их. Но сейчас он все-таки мог бы помолчать хотя бы при Лидке.
– Связалась с кыргизом каким-то, – сердито продолжал Романок. – Ты думаешь, они зачем в деревню едут? Колхозам помогать? Нет, они едут вашего брата охмурять. Шпана малиновая!
Казалось, еще немного, и он, как в старинку, пригрозит вожжами.
Но Мариша сказала вдруг тихо и оскорбленно:
– Ты зачем, Роман, не в свое дело лезешь?
Домашние переглянулись, в том числе и Лидка, проявлявшая явно повышенный интерес ко всей этой истории.
– Глаза у него красивые – жуть!.. – сказала она.
– Дура! – ворчливо бросил Романок. – Я тебе покажу глаза!..
Тем же вечером Рэм опять пришел к Огоньковым. Он не обратил внимания на испуганные, предупреждающие знаки Мариши, смело прошел вперед и сел на лавку.
– Наша бригада скоро уезжает.
– Ну и катитесь! – хмуро бросил Романок.
– Что значит «катитесь»? Надо поговорить.
Мариша стояла в страшном волнении. Хотела спрятаться, но ноги не шли с места.
– Примете меня в свою семью? – спросил Рэм.
– Только бы не хватало!..
– Тогда ее отпустите. Я пока у родных живу, но буду просить комнату.
Романок поднялся и стал против «жениха».
– Кто тебе комнату даст? – произнес он с печальной усмешкой. – У тебя штанов нет, а ты – комнату!.. Разве комнаты таким дают?
– А каким же?
– Самостоятельным, вот каким.
Романок как предчувствовал, что выйдет такой разговор: надел костюм с полоской и часы на руку.
– У тебя совесть есть? – проникновенно спросил он у опешившего на минуту Рэма. – Девчонка – сирота. Мы только жить начинаем, а ты хотишь ее за собой по миру повести.
Повисла плохая тишина. Родительская забота, прозвучавшая в словах Романка, на какой-то миг обескуражила Маришу. Зато к Рэму вернулся дар речи, и косоватые глаза его вспыхнули темным блеском.
– А я не верю, что ты в Советской армии служил, – сказал он Романку.
– Это почему же?
– Больше похоже, что ты бывший деникинец, кулак. Ты можешь живого человека съесть.
Романок открыл рот, чтобы ругаться, но не сразу нашелся.
– Если хочешь за свою сестру калым получить, тебе надо в Алма-Ату ехать, в Сталинабад! – бросил Рэм и повернулся к Марише. – Испугалась? Я думал, что ты взрослый человек, а ты мелочь, девчонка!..
Хлопнула дверь. Рэм ушел. После его ухода все некоторое время молчали.
– Хам какой! – первой отреагировала Сильва. – Еще и дверью хлопает.
– Хам не хам, а штукарь хороший, – хмуро и озадаченно покосившись на Маришу, сказал Романок. – Неглупо он тут придумал: возьми его в семью…
Мариша молчала. Слезы ее из глаз катились крупные, как дождь в грозу.
– Знаете, что такое Рэм? – вдруг влезла Лидка. – Революция, электрификация, мир. Я в календаре видела.
– Небось хулды-мулды, а Рэма сам себе придумал, – усмехнулся Романок. – Электрификация!.. – Он поглядел на Маришу и понял, что уж хватит: как бы девка не зарыдала в голос.
На ночь Романок сам пошел проверить, заперта ли из сеней дверь на улицу, словно опасался, что сестра убежит.
– Русского, что ли, не найдется? – примирительно сказал он. – А эти, как цыгане, мотаются с места на место. Случись чего, и алиментов не получишь.
Сильва тоже попыталась утешить Маришу – парой шелковых чулок.
– У них только одну петлю поднять надо, – сказала она. – И прекрасно носить можно.
– Спасибо!.. – бросила Мариша. – Не надо мне вашего. Спрячьте.
Утром ветер сменился, сильно потеплело, черным жиром растопилась под солнцем земля, как будто кто-то полил распаханные борозды густым конопляным маслом. У Мариши вязли ноги, влажно горели похудевшие щеки. Она плохо понимала, куда ее посылают, что велят делать, что поднимать, что нести. Она ждала вечера, чтобы побежать к Рэму.
До поселка, где жили рабочие МТС, было побольше трех верст. По самой жуткой весенней грязи, когда ни конному, ни пешему, Мариша пробежала эти три версты за неполные полчаса. В большом кирпичном строении, вокруг которого был все тот же развороченный чернозем, сейчас шло веселье: провожали московских. Десятка полтора парней нестройно кричали под балалайку:
За речи, ласки огневые
Я награжу тебя конем.
Уздечка, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом!..
Мариша не сразу решилась спросить, где же Рэм. Но парни – народ догадливый.
– Еще вчера домой драпанул твой черенький.
Что было сказать? Мариша настолько растерялась, что улыбнулась и тут же прислонилась к косяку. Ребята поняли, что девка «горит», и насмешничать больше не стали. Лишь только Мариша вышла, балалайка забренчала снова:
На кой мне черт твоя уздечка,
На кой мне хрен твое седло?
Встречный ветер шатал Маришу. Назад она брела, не разбирая дороги. Дважды оставила сапог в грязи и на второй раз заплакала, как плачут в деревне, – не безмолвно, а в голос. Благо, кругом никого не было.
К майским праздникам все обзеленилось, обсохло, прогрелось. Совсем случайно Мариша вспомнила, что в подполе зимует луковичный цветок, что давно пора поставить его к свету. Когда она его достала, на нее как бы с укоризной взглянул бледно-желтый росток: поздно, мол, ты спохватилась!.. Велико ли дело – цветок! Но холод цветочного горшка дошел Марише до самого сердца.
Все эти дни ее поедала самая черная тоска. Куда бы она ни пошла, всюду тоска эта была с ней, словно лежала за пазухой. И все-таки Мариша в свои двадцать два пока еще дремала. Детство и юность, полные нехваток и трудов, житейски рано овзрослили ее, но не дали ходу главному. А то бы она уж на второй день метнулась за Рэмом. Дважды за это время она садилась писать ему письмо, но дважды убеждалась, что складно у нее не получается – ведь почти целых девять лет не брала в руки ни пера, ни карандаша. Она просто боялась, что Рэм над таким письмом посмеется, и тогда только хуже будет.
Когда засеяны были в колхозе свекольные участки, рассажена картошка, Мариша пошла просить, чтобы ее отпустили, выдали ей справку. Но сказать, что есть у нее на примете парень и что она хочет уехать к нему, естественно, постеснялась.
– Кто же летом из колхоза хороших работников отпущает? – сказал ей председатель. – До осени погоди.
С Маришиных щек сбежала последняя краска.
– До осени это долго, – тихо сказала она, – я не могу…
Вода точит камень: в начале июля справку Марише все-таки выдали, и она без прощальных объятий и поцелуев покинула Орловку. Невестка ее была на сносях, волновать ее не следовало, и Мариша постаралась проститься по-хорошему.
– Зря на легкую жизнь надеешься, – хмуро сказал Романок. – Как бы улицу мести не пришлось.
– Ну что же, – как можно спокойнее отозвалась Мариша, – буду мести.
Ей хотелось добавить: «Я у вас тут тоже не золотыми яблочками игралась». Она поглядела брату в глаза и поняла, оба они друг дружке уже совсем чужие. А ведь что раньше-то было!.. Готова была Богу на него молиться, с самых детских лет больше всех его любила и слушалась.
Сестра Лидка все-таки проводила Маришу до автобуса, но целоваться тоже не стала, словно была уверена, что старшая сестра через неделю, а то и раньше явится обратно.
– Ты уж получше учись, Лида, – сказала Мариша.
Та усмехнулась, скосив глаза: сама, мол, к парню едешь, а мне учиться!..
Эту девчонку Мариша нянчила, до трех лет почти не спуская с рук. В это трудно сейчас было поверить, взгляни кто-нибудь на некрупную, страшно исхудавшую за последние месяцы Маришу и на шестнадцатилетнюю Лидку, которая уже обогнала сестру в росте. На Лидке сейчас был васильковый берет, платье «солнце-клеш» с пуговицами по свиному пятаку, подкладные гвардейские плечи. И на щеках плавал горячий, нахальный какой-то румянец.
– Ну что же, прощай, Лида, – сказала Мариша.
Она в последний раз оглянулась на родную Орловку. Деревня, за войну и послевоенные годы лишившаяся всех садов, стояла над яром, вся залитая солнцем, голая, но прекрасная. Ее со всех сторон опахали тракторами, не оставив почти ни одного зеленого лужка. Но сочная, расцвеченная ромашками и голубым цикорием трава росла по межам, по канавам, по заборам, по крутым склонам оврага, везде, куда нельзя было заехать трактором. Эта трава лезла из земли, подгоняемая ярким солнцем и частыми золотыми дождями, и словно просилась под серп и косу. На поле, сбоку от шоссе, выпревала в горячем черноземе кормовая свекла с зеленью, густой, как лопуховые заросли, и зелень эта тоже цедила через себя свежесть и сладость.
– Ты чего это, нянь?.. – удивленно спросила Лидка. – Не плачь, вон автобус идет.
Через час Мариша уже садилась в поезд. Остались позади Ожерелье и Кашира, на подступах к столице пошли трубы, железнодорожные депо и пакгаузы, на которые глядеть после полей и перелесков было просто страшно. Но Мариша, слава богу, ехала в Москву не в первый раз. Адрес, который сказал ей Рэм во время одного из их свиданий, она держала в голове, и чем ближе подъезжала к столице, тем чаще его повторяла.
С Павелецкого вокзала она перебралась на Курский и доехала электричкой до большого и многолюдного подмосковного города. Тут она пошла пешком, держа в правой руке деревянный чемодан с привязанными к нему валенками, а в левой платок, которым поминутно стирала с лица крупный пот – от избытка жары и страшного волнения.
Мариша уже знала, что лучше лишний раз спросить, чем плутать наугад. Поэтому вскоре же нашла нужную улицу и дом. Она долго стояла перед калиткой, ожидая, что кто-нибудь выйдет. Дом вроде бы был полон народа, но никто, как на грех, не выходил. И Мариша толкнула калитку.
В узкой, как коридор, всего с одним окном комнате сидела за столом и пила чай старая женщина в белом платке. Платок этот был повязан не на косячок, как у русских, а двумя углами свободно ложился на плечи. Несмотря на жару, на старухе этой было что-то уж слишком много всего надето.
– Чего тебе надо? – спросила она, не бросая пить чай. Мариша подумала, что тут ее никто не ждет и, возможно, не знают даже, кто она такая. Но она ошиблась.
– Поздно ты ехал! – укоризненно сказала старуха, поглядев на Маришин чемодан и привязанные к нему валенки, которые особенно нелепо выглядели в жару. – Рэмка тебя долго ждал, все почтовый ящик глядел.
Мариша безмолвно стояла, не рискуя даже поставить на пол свой чемодан.
– Меня Рабига звать. Садись, чего стоишь? Чай пить хочешь?
Мариша опомнилась и села. Она смотрела на чернобровое, еще не сильно-тронутое морщинами лицо старухи и видела в нем Рэма. У нее задрожали губы и покатились слезы.
– Зачем плачешь? Парень много, другой найдешь. А Рэмка сейчас далеко, на Север вербовался. Опоздал ты.
– Не отпускали меня, – тихо сказала Мариша. – Прополка…
Старая Рабига допила чашку и опять принялась цедить в нее черный, густой чай. Широкие рукава ее цветного платья покачивались над столом.
– Прополка много будет, любовь один. – И, желая смягчить упрек, добавила: – Так лучше тебе, Рэмка глупый, куда тебя звал? Пять человек один комнат живем, Рэмка свой койка даже нет. Что война наделал, все ломал!..
Мариша невольно представила себе, что ждало бы ее здесь, в этой комнате: возможно, новая кабала, даже если бы эта умница старуха и стала ее жалеть и за нее заступаться. Рэм не должен был всего этого скрывать. Хотя, будь он сейчас здесь, Мариша согласилась бы остаться.
– Куда сейчас пойдешь? – спросила Рабига.
– Не знаю…
– Жалко тебя! Хороший девушка. Зря чай со мной не пил.
Старуха с трудом поднялась, чтобы проводить Маришу до двери.
– Ноги больной. Жидкий нельзя, а я чай пить люблю. Все равно скоро смерть. Только Рэмка жалко, шибко жалко!.. Один внук у меня. Ну, счастливый тебе дорога!
Уже за дверью Мариша подумала о том, что нужно было спросить новый адрес Рэма. Но, видимо, старуха не считала, что Марише следует его знать, а может быть, и сама еще не знала. Во всяком случае, вернуться Мариша не решилась: робость, унаследованная ею от покойной матери, шла за ней повсюду, как тень.
Она вышла на жаркую улицу и направилась обратно к станции. Кто-то остановил ее и спросил, не продает ли валенки. Она не ответила и пошла дальше.
Вечером она сидела на жесткой лавке в набитом битком зале ожидания Павелецкого вокзала. На улице было уже темно, зал освещался плохо. Те, кто сумел захватить место на лавках, спали тяжелым, тревожным сном. Их могли каждый миг разбудить, согнать с места, они рисковали быть обворованными и проесть последний рубль, пока удастся купить или закомпостировать билеты. Но бедствовали здесь не каширские или веневские, которым, в общем-то, до дома рукой подать, а дальние: пензенские, саратовские, ульяновские.
На вокзале Мариша сидела сейчас не потому, что собиралась обратно в деревню. Дорога туда ей была заказана. Она ясно понимала, что вернись она туда, с годами превратилась бы в угрюмую, молчаливую бабу с черными руками, к которой никто уже не посватается, а будут от нечего делать приставать женатые мужики. И так как в деревне каждое слово на слуху и каждый шаг на виду, то Мариша ясно представила себе, что всю жизнь она бы держала ответ перед братом, перед невесткой, даже перед Лидкой. Она вспомнила, как они обошлись с Рэмом, и дала себе клятву не простить.
– Подбери ноги-то, – врываясь в Маришины мысли, сурово приказала вокзальная уборщица, подметавшая под лавками. – Понаехали сюда!
Казалось, еще немного, и она прогонит Маришу с лавки, а тогда попробуй отыщи место, где можно приткнуться. Ясно было, что этой уборщице осточертели все те, за кем приходилось убирать грязь и мусор, хотя это и было источником ее зарплаты. Но, случайно взглянув Марише в лицо, она вдруг спросила:
– А ты не веневская? Ну-ну, сиди!
Иногда человек, который с виду кажется вовсе недоступным, на самом деле только и ищет повода, чтобы поговорить. Так случилось на этот раз. Уборщица, покончив с делами и с ворчанием, пустила Маришу в служебное помещение и посадила пить чай. Мариша, совершенно сраженная непривычным для нее вниманием, все рассказала и не знала, как и благодарить за участие.
– Вот тут у меня яички, – сказала она, раскрывая свой деревянный чемодан, – возьмите, пожалуйста.
Уборщица яички охотно взяла, взамен дала Марише адрес швейной фабрики, которая находилась у Абельмановской заставы. Там одна из ее многочисленных родственниц работала вахтером.
– Давай действуй! Руки есть, работа будет. А парней ты себе еще целую снизку найдешь. Не кривая.
Мариша улыбнулась. А она уже давно не улыбалась.
– Садись на «шестерку», до Новоспасского доедешь, а там на трамвай.
Это для Мариши было слишком сложно. Но она горячо поблагодарила за все наставления и, подхватив свой чемодан, пошла с Павелецкого на Таганку пешком по Садовому кольцу, через Краснохолмский, потом через Яузский мост. Времени в запасе у нее было достаточно.
Глава третья
В один из приветливых, желто-красных сентябрьских дней Мариша присоединилась к огромной очереди, тянущейся к Мавзолею Ленина. Ей очень хотелось побыть подольше на Красной площади, поглядеть на Кремль, на Спасскую башню с часами, бой которых она раньше слышала только по радио. Но велено было не задерживаться и проходить. Только миновав Чугунный мост, возле Балчуга, она все же задержалась и взволнованно поглядела на золотые главы, на стены и башни.
С того памятного дня, когда она бедствовала на Павелецком вокзале, доходил уже третий месяц. В конце июля она вышла на работу. Это была та самая швейная фабрика около Абельмановской заставы, адрес которой так счастливо попал Марише в руки в первый же день в Москве. Прописали ее, правда, временно, но зато она вскоре же получила свой первый в жизни паспорт, для которого сфотографировалась в ближайшем фотоателье. Вышла она не очень похожая, но печать, прижавшая ей правое плечо, удостоверяла, что это именно она, Марина Парфеновна Огонькова, 1929 года рождения, уроженка деревни Орловки. Разве можно было не радоваться?
Общежитие для девчат, куда Маришу поместили, находилось на Симоновском валу, так что на работу можно было бегать пешком, экономя на транспорте. А бегала Мариша по-деревенски быстро. Однажды за ней устремился какой-то незнакомый парень, но так и не догнал.
Волнения и радости этих двух месяцев помогли Марише избавиться от тоски по Рэму. Она о нем думала теперь все реже, хотя и не без прежней нежности, но чаще почему-то вспоминала старую Рабигу. Да еще упорно снилась ей каждую ночь родная деревня, никак от этого нельзя было избавиться. Стоило закрыть глаза – и вот он, зеленый, глубокий яр, полный цветущей таволги, холодный ключ, из которого она дважды в день таскала воду, белый клубничный цвет на не скошенном еще покосе, их дом в три окошка… Но наступало утро, видения эти исчезали, исчезали и сожаления.
Мариша всегда поднималась по-деревенски рано, будь то будний день или воскресенье. По выходным и по праздникам обязательно отправлялась глядеть Москву. Доезжала трамваем до Котельников, а оттуда пешком по всему центру.
На сегодня у Мариши была намечена цель. Побыв на Красной площади, она дошла до ближайшей станции метро и здесь встала в очередь к окошку справочного бюро. Тут она попросила дать ей адрес Валентины Михайловны Селивановой. Красивый и строгий образ этой женщины Мариша носила в себе все эти годы, но ни даты, ни места рождения ее указать не могла.
– Уж будьте так добры! Мы с ней в военном госпитале вместе работали.
Это было еще одним чудом, но Марише дали справку, что Селиванова Валентина Михайловна, рождения тысяча девятьсот одиннадцатого года, проживает совсем рядом, на Большой Полянке, в доме № 19. Предупредили также, что есть в Москве еще одна Валентина Михайловна Селиванова, но уроженка не столицы, а деревни Щербаково Пензенской области, проживающая на улице Красина.
Мариша решила, что ее Селиванова не может быть из деревни. И на всякий случай добавила:
– Которую мне надо, это военврач третьего ранга.
Стоявший в очереди военный заметил:
– Военврачей третьего ранга уже нет. Есть майоры медицинской службы.
– Извините, – сказала Мариша, – я не знала.
Она взяла справку и отошла. Сразу же решила ехать на Большую Полянку.
Оказавшись на Серпуховке, она вдруг вспомнила: ведь она бывала где-то здесь, когда приезжала с Романком, только не с картошкой, а с соленым салом. На Павелецком рынке это сало у них не пошло: поросенок был тощий, и сало вышло желтое, твердое и невкусное. С Павелецкого они перебрались по кольцу на Даниловский. Значит, она, Мариша, была совсем рядом с Валентиной Михайловной, но сердце почему-то ей никакого сигнала тогда не подало…
На Большой Полянке Мариша нашла нужный ей дом. Поднялась на третий этаж, увидела высокую, как ворота, двустворчатую дверь, на которой ничего не было обозначено, что хочешь, то и думай. И дотронулась пальцем до звонка.
За дверью зашлепали туфли, забрякала цепочка, залаяла собака.
«Только бы чулки не порвала», – подумала Мариша. Но косматая, коротколапая собачонка лишь обнюхала ее белые босоножки, пахнущие новой клеенкой.
– Мне бы Валентину Михайловну…
– Валя, это к вам!
Прошло с полминуты. Мариша замерла в ожидании, что вот сейчас из комнаты строгой, четкой походкой выйдет к ней военврач Селиванова в белом халате поверх диагоналевой гимнастерки, в начищенных до блеска сапогах, собранных гармошкой на плотных икрах. Мариша в те памятные времена любовалась этими сапогами, они были тонкие, хромовые.
Но Селиванова появилась не из комнаты, а из ванной, в широком мохнатом халате, сырая, красная, с чалмой из полотенца на голове и с папиросой в зубах. Лицо ее пополнело, но было по-прежнему красиво. Мариша отметила все тот же склонный к придирке взгляд, с которым Селиванова по утрам входила в палаты.
– Здравствуйте, товарищ военврач третьего ранга, – тихо сказала Мариша.
Та вглядывалась в нее и как будто не узнавала.
– Огонек!.. Неужели это ты? – проговорила она.
– А кто же? – радостно сказала Мариша. – Я, конечно!..
В комнате у Селивановой они сели на кожаный, исцарапанный собачьими лапами диван. Та же собачонка, которая встретила Маришу у входной двери, сейчас выплясывала по дивану, обнюхивала то Маришу, то мокрые волосы хозяйки.
– Макар, перестань, фу! Иди на кухню!
Макар, поразив Маришу своей дисциплинированностью, тут же прекратил озорничать и ушел.
– А ты прекрасно выглядишь, Огонек! – сказала Селиванова. – У тебя вполне столичный вид.
Мариша уже несколько подпортила свои добрые льняные волосы шестимесячной завивкой. Но комплимент Селивановой показался ей искренним, поэтому очень приятным. И она сама с той же мерой искренности стала рассказывать о своем деревенском житье-бытье, о том, что заставило ее в конце концов эту деревню покинуть.
Селиванова как будто была тронута.
– Ах, ты, бедняжка!.. Ну, как говорится, нет худа без добра.
Из коридора старческий голос оповестил:
– Валя, у вас убегает чайник.
Пока Селиванова была на кухне, Мариша разглядывала обстановку. Мебели и других вещей в комнате было очень много. Вещи все неплохие, даже дорогие, но вот сказать, чтобы здесь царил такой уж порядок, как этого когда-то требовала от палатных санитарок сама Селиванова, то этого не было: пахло окурками, рассыпанной пудрой, и собачонка, видимо, тащила много грязи на лапах.
Только начали пить чай, Селиванову позвали к телефону. Мариша опять долго сидела одна, потом к ней на колени взгромоздился появившийся из кухни Макар. Это ей пришлось не очень по душе: у них в деревне никто собак на колени не пускал.
Наконец Селиванова вернулась. Подошла к главному: спросила, что Мариша делает в Москве. Та рассказала, что вот уже два месяца, как устроилась на швейную фабрику около Абельмановской заставы. Сначала работала подсобницей, а теперь поставили утюжить готовую женскую одежду: платья, сарафаны, юбки, костюмчики… Работа нетяжелая, правда, летом сильная жара в цехе от утюгов. А живет в общежитии на Симоновском валу. На семь человек комната.
Селиванова задумалась.
– Знаешь, я могла бы взять тебя к себе в клинику. Только, пожалуй, хрен редьки не слаще. На твоей фабрике ты еще в ударницы выйдешь, а тут только с больных научишься хапать. Пей чай.
Мариша пила и украдкой поглядывала на дверь: не войдет ли кто-нибудь? Неужели Валентина Михайловна жила совсем одна? В разговоре та не помянула ни разу ни о муже, ни о детях. Мариша и сама не понимала, почему неудобно прямо об этом спросить. Но вот язык не поворачивался задать вопрос не старой еще женщине, где ее муж: убили, ушел к другой?
Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша. Нахмурилась и сказала каким-то намеком:
– С Макаром сложно: целый день один.
В комнату заглянула старушка, которая открыла на Маришин звонок и потом напомнила Селивановой об убегающем чайнике.
– Валя, простите, нужно не позднее четырнадцатого числа заплатить за квартиру. Я могу это сделать сама, если вы оставите мне деньги.
– Не оставлю, – сказала Селиванова. – Пусть устранят течь над ванной. На меня сегодня не столько из душа текло, сколько с потолка.
В голосе прозвучали прежние селивановские ноты. Мариша невольно поджалась и даже подумала, не пора ли уходить.
– Познакомьтесь, Екатерина Серапионовна, – уже другим тоном обратилась Селиванова к старушке, указывая на Маришу. – Моя однополчанка. Вам тоже полезно было бы послушать, как поживают выходцы из колхозного крестьянства. А то мемуары все какие-то строчите.
Старушка не успела обрадоваться предложению познакомиться. Последняя фраза Селивановой, видимо, обидела ее, но она нашла в себе силы, чтобы удалиться с достоинством.
Марише стало очень жалко старушку. Ко всем образованным людям она по-прежнему испытывала уважение. Ко всем кроме своей невестки-учительницы, которая, как теперь понимала Мариша, была не очень-то образованная.
– Ну, я пойду, Валентина Михайловна, – сказала она. – Большое вам спасибо!..
Селиванова взглянула на нее пристально, словно хотела понять, не обидела ли она чем-нибудь и Маришу. Возможно, Селиванова знала за собой эту способность сражать словом.
– Ты еще придешь? Подожди минутку!..
Она вытащила какой-то чемодан и щелкнула замком. А когда повернулась к Марише, то та в первый раз увидела на лице у бывшего военврача третьего ранга какое-то смущение.
– Ты только не обидься, Огонек… Я думаю, тебе это не лишнее будет. Возьми.
Мариша, пораженная, глядела на ярчайшее шелковое платье, которое мяла в руках Селиванова. За что?.. Ведь она чужой человек. Всего три месяца проработали вместе в госпитале. И то, разве Мариша работала? Ее взяли, потому что пожалели. Спасибо, что Селиванова ее узнала, не позабыла.
– Можешь не благодарить, – сказала Валентина Михайловна и закурила, чтобы покончить с неловкостью. – Я за него немке пятьсот граммов масла отдала. Она даже всего триста просила… Так сказать, трофеи.
Что-то осталось в Селивановой суровое и грозное, не позволившее Марише сейчас отблагодарить ее поцелуем или предложить услуги – убраться, постирать. Она только сказала тихо, с прежней своей еще детской интонацией:
– Дай вам Бог здоровья, Валентина Михайловна!
Селиванова усмехнулась.
– Ладно, Огонек, иди. А то я после ванны совершенно разваливаюсь.
Мариша простилась и вышла на лестницу, прижимая к груди селивановский подарок. Такого платья она не видела даже во сне, а Селиванова рассталась с ним, как будто это была какая-нибудь старая юбка десятого года носки. Да еще и смутилась, как будто боялась, что Мариша не возьмет. Для Мариши это было большим открытием в характере бывшего военврача третьего ранга.
В новом платье она показалась своим соседкам по комнате. На тех заграничное платье необычайного покроя с плиссированными рукавами и подолом произвело заметное впечатление. А комендантша сказала:
– Одень пенек, будет как ясный денек. Шифон. У меня до войны такое было.
Маришу не обрадовало сравнение с пеньком, но обижаться всерьез у нее оснований не было.
Через некоторое время она снова отважилась пойти на Большую Полянку. Ей очень хотелось чем-нибудь услужить Валентине Михайловне, а заодно и той старушке, ее соседке, которая, судя по всему, тоже была человеком одиноким.
На негромкий Маришин звонок теперь дверь открыла сама Селиванова. Лицо у нее было напудрено, ярко накрашены губы. Одета она была в синий шерстяной костюм с высокими плечами и большими острыми бортами. В петличке белела красивая шелковая ромашка.
– Заходи, заходи, Огонек. Но у меня всего полчаса: я ухожу в театр.
Макар суетился и скулил, чувствуя, что сегодня вечером он останется один. Лакированные туфли хозяйки вызывали у него активный протест, он пробовал царапать их лапой.
– Если хочешь, можешь у меня переночевать, – сказала Селиванова. – К двенадцати я вернусь. Посиди с Екатериной Серапионовной. Неплохая старуха.
Мариша решила остаться. Екатерина Серапионовна напоила ее чаем. Чашечки, из которых они пили, были страшно тонюсенькие, весили не больше кленового листа. Этих чашечек у Екатерины Серапионовны осталось всего несколько, но она не пожалела их подать. Значит, посчитала Маришу достойной гостьей.
– Книжек у вас сколько, – сказала Мариша, – вот бы почитать!
– Пожалуйста. Что вы любите?
Мариша должна была признаться, что читала совсем мало.
Некогда, да и где в деревне книжки возьмешь? Старушка была очень удивлена.
– Разве у вас там не было библиотеки?
– В районе только. Я раз зашла…
– Ну и что же?
– Дали мне книжечку… Стала читать, да что-то не поняла.
Екатерина Серапионовна была тронута Маришиной искренностью.
– Я найду для вас что-нибудь подходящее, – обещала она.
Так странно, непривычно было Марише слышать, что кто-то обращается к ней на «вы». Тем более такая культурная старушка в золотых очках с черным шнурочком.
– А вы сами тоже книжки пишете? – рискнула спросить она у Екатерины Серапионовны.
– Ну что вы! Для этого нужен талант. А я просто записываю… В жизни было много событий, встреч. Возможно, это даже кому-то и будет интересно.
Селиванова вернулась в первом часу ночи. Бросила на стол измятую театральную программку, на которой Мариша разобрала: «Стакан воды». Устало стащила с ног лакированные туфли, швырнула на спинку стула синий жакет с шелковой ромашкой в петлице.
Мариша решила, что Валентине Михайловне не понравился спектакль, поэтому она и не в духе. Но Селиванова сказала какую-то странную фразу:
– Боже, какие бывают кретины!.. Ну, просто ничего не доходит!
Тогда Мариша догадалась, что Селиванова была в театре не одна. И как бы в подтверждение этого в затихшей квартире резко зазвонил телефон. Селиванова вышла в коридор и взяла трубку.
– Конечно, уже дома, – сказала она. – Вы что, думали, я на улице ночевать буду?
Вернулась в комнату, погасила свет и начала раздеваться.
– Поразительная заботливость! – вдруг бросила она то ли Марише, то ли самой себе. – Лучше бы такси поймал.
Очень скоро Мариша заметила, что ее прихода на Большой Полянке ждут. Поэтому каждое воскресенье аккуратно приходила. Екатерина Серапионовна показывала ей, как раскладывается пасьянс, который Мариша первоначально приняла за гадание. Поручениями ее тут не обременяли, разве что Селиванова просила зайти на рынок и купить морковки для «дуралея», то есть для Макара.
– Сколько у нас в деревне моркови! – сказала Мариша. – А ни одна собака есть не будет.
Так началась первая московская зима, которая ни в чем не разочаровала Маришу: она устроилась на работу, получила московскую прописку, разыскала Валентину Михайловну и познакомилась с Екатериной Серапионовной. Тут, на Большой Полянке, к ней стали относиться как к своему человеку, ничего от нее не скрывали: ни пристрастий, ни слабостей, ни странностей. Мариша не могла не заметить главное: обе ее новые приятельницы очень мало занимались делами сугубо житейскими и обе не терпели праздности. Старушка с завидным прилежанием что-то писала и переписывала, посещала какие-то собрания и вела общественную работу в домоуправлении, а Селиванова даже в воскресенье с утра садилась у телефона и начинала обзванивать медицинские учреждения: кого-то куда-то надо было перевести, кого-то срочно оперировать, срочно достать какие-то лекарства.
– Что же вам совсем покою нет, Валентина Михайловна? – вздохнула как-то Мариша. – Чаю попить не можете.
– Да, – согласилась та, – надо было идти в стоматологи.
Чаю она все-таки выпила, потом заглянула в комнату к соседке.
– А вы почему дома? Ведь на Новодевичьем открывают какой-то мемориал.
Старушка спохватилась, надела шляпу и поспешно удалилась. По Москве она всегда ходила пешком, не любила ни троллейбусов, ни автобусов.
– Примечательная все-таки старуха, – сказала Селиванова. – Единственный сын погиб на фронте, муж скоропостижно умер, – другая бы духом пала. А эта, как видишь, бегает…
Мариша видела, что отношения между Валентиной Михайловной и ее соседкой очень хорошие, что стоит Екатерине Серапионовне занемочь, Селиванова тут как тут. А ведь они даже не дальние родственники, а люди, которых судьба совершенно случайно свела в одной квартире.
Марише шел двадцать третий год, но она была дитя трудных лет и осталась некрупной, на вид почти девчонкой. Это преимущество давало ей возможность утаить годика два-три. И если по деревенским понятиям она была уже «старуха», то здесь, в Москве, ей эта кличка не угрожала.
– Скажите, а почему бы вам не выйти замуж? – как-то спросила ее Екатерина Серапионовна.
Мариша сперва покраснела, потом побелела и ответила тихо:
– Как же выйдешь-то?.. Я ведь тут мало еще кого знаю.
В мае по случаю дня рождения Мариши Екатерина Серапионовна повела ее в филиал Большого театра на «Царскую невесту». Предварительно она разъяснила, кто такой был Иван Грозный, кто такие опричники, как деспотизм царя крушил человеческие судьбы.
– Тем не менее это был великий преобразователь, – добавила Екатерина Серапионовна. – Этого не надо забывать.
– Вам следует выступать с лекциями, – язвительно заметила присутствовавшая при этом Селиванова. – Если будете упирать на то, что для великих преобразований необходимо было каждого третьего сажать на кол, как раз попадете в точку.
Услышав эти слова, Мариша даже испугалась, хотя смысл сказанного дошел до нее далеко не полностью.
– Идите, идите, – уже мягче сказала Селиванова, – опоздаете.
Сидели они далеко, в последнем ряду третьего яруса. Больше восьми рублей за билет Екатерина Серапионовна не могла себе позволить.
Царская невеста была не очень молода и несколько неповоротлива, но голос у нее был просто соловьиный. До Мариши впервые доходил живой, чудесный звук, а не тот, который ей до этого приходилось слышать из радиоприемника. А когда Марфа запела: «В том городе мы вместе с Ваней жили…», Мариша вспомнила свою Орловку, черный огород со множеством грачей, зеленый яр, в котором журчал ключ, и молча заплакала. Молодой боярин Лыков показался ей чем-то похожим на Рэма, и к концу акта слезы потекли сильнее.
Екатерина Серапионовна потрепала своей мягкой ручкой тоже маленькую, но твердую Маришину руку.
– Эти слезы делают вам честь, – сказала она.
В антракте они вышли в фойе, увидели, как у буфетных стоек люди едят бутерброды с копченой колбасой и пьют ситро. Может быть, Маришина спутница смутилась своего безденежья, а может, это действительно было ей не по душе, но она сказала:
– Мне не нравится манера набивать рот в театре.
Они с Маришей отошли и сели подальше от тех, кто ел и пил.
Весна – лучшее в Москве время года, это поняла Мариша. В деревне они, бывало, плавали по полой воде, не могли вытащить ног из черной грязи. Запасы топки подходили к концу, и если тепло запаздывало, то все ходили хрипатые, простуженные, обветренные, собирали каждую сухую травинку, щепку, чтобы истопить печь и обогреться.
А здесь было сухо, тепло, везде чисто выметено. Когда они с Екатериной Серапионовной поздно вечером возвращались из театра, шли через Красную площадь, Марише показалось, что все кругом – сказка: в ушах еще стояло грустное пение, а над Василием Блаженным в фиолетовом низком небе стелилось густое, с кровавым подплывом облако. Замоскворечье светилось из сумерек не уснувшими еще окнами. Все это было очень похоже на ту декорацию, которую человеческой рукой, казалось, нельзя и нарисовать.
Марише хотелось остановиться, замереть и смотреть. Но нужно было поторапливаться, чтобы не обеспокоить Селиванову поздним приходом: часы над Спасскими воротами показывали уже первый час ночи.
Лето в Москве стояло очень жаркое. После деревенского простора Марише все не хватало воздуха, мокло за пазухой и сохли губы.
В один из горячих и пыльных июньских дней она поехала на Большую Полянку. В жарком воздухе плавал запах цветущих лип.
Трамвай, на который Мариша села, звонил громко и нудно, от этого звона становилось еще жарче.
Селиванова была сегодня чем-то явно раздражена. Много курила и разговаривала отрывисто.
Екатерина Серапионовна потихоньку объяснила, почему у Валентины Михайловны неважное настроение. В квартире на Большой Полянке ранее проживал один полярник, который постоянно был в отлучке, – Мариша удивлялась, почему дверь в третью комнату всегда закрыта и жильцов не видно. Теперь на эту дверь был повешен сургуч на веревочке; полярник получил отдельную квартиру в первом жилом высотном здании, а в его комнату должны были вселить какого-то нового жильца. Он бы уже появился, но домоуправление все тянуло с ремонтом.
– Я понимаю Валины опасения, – сказала Екатерина Серапионовна. – Мы ведь уже давно живем в квартире вдвоем. А теперь могут появиться люди, которые не переносят собак.
Мариша привыкла к Макару, и сейчас ей уже странно было, что кто-то может его не переносить.
– Разве что только с кошкой въедут, – сказала она, – тогда конечно…
Но у нового жильца кошки не оказалось. Судя по всему, он был тоже человеком совершенно одиноким. Мариша увидела его во время очередного визита на Полянку. Это был высокий, белокурый, немолодой мужчина, одетый, несмотря на летнюю погоду, в тяжелый шерстяной свитер.
– Здравствуйте, – сказала Мариша, когда новый жилец открыл ей дверь. – Я к Валентине Михайловне пришла и к Екатерине Серапионовне.
– Да, да, пожалуйста, – отозвался тот и ушел в свою комнату, скрипнув рассыхающимся паркетом.
Екатерина Серапионовна сообщила Марише, что новый жилец производит неплохое впечатление: человек интеллигентный, преподаватель института.
– Пока трудно сказать, – заметила Селиванова. – Вполне возможно, что и зануда.
Тем не менее Мариша обратила внимание, что сегодня Валентина Михайловна не расхаживает по квартире в халате и с полотенцем на голове. С самого утра на ней было светлое спортивное платье, в котором она выглядела и броско и молодо. А у Екатерины Серапионовны к старенькой кофточке приколото пожелтевшее кружевное жабо.
Внезапно в коридоре зазвонил телефон. Обычно подходила Екатерина Серапионовна, которой, как считала ее соседка, все равно делать нечего. Но на этот раз Мариша услышала мужской голос:
– Одну минуточку! Валентина Михайловна, это вас!
Разговаривала Селиванова по телефону кратко и не поймешь с кем, словно хотела поскорее отвязаться. Потом сказала громко:
– Спасибо, Борис Николаевич!
– Ради бога!
Такой обмен любезностями очень понравился Марише. Теперь обстановка в квартире на Большой Полянке стала для нее еще более привлекательной.
– Если жулики полезут, – сказала она, – у вас мужчина есть в квартире. – Екатерина Серапионовна с тех пор, как после амнистии сорок шестого года кто-то пытался взломать замок, страшно боялась жуликов.
В общем, новый жилец пришелся очень ко двору. Он не отличался на первых порах особой разговорчивостью, но был вежлив и предупредителен, старался никому своим присутствием не помешать. Его приезд не внес никакой сумятицы, ничем не нарушил привычного хода жизни в квартире на Большой Полянке. Борис Николаевич даже отказался от ремонта в своей комнате, который должно было сделать домоуправление, потому что это могло создать затруднения для соседок. А может быть, и сам этого ремонта боялся. Селиванова очень скоро заявила, что им крупно повезло.
Первые сведения о новом жильце поступили от Екатерины Серапионовны. Марише она сообщила, что Борис Николаевич специалист по западной литературе, главным образом по немецкой. После тяжелых фронтовых ранений он нашел в себе силы закончить аспирантуру и подготовить кандидатскую диссертацию. Тема ее – писатели-романтики, поэты «Бури и натиска». Екатерине Серапионовне следовало бы разъяснить, что это за штука такая «Буря и натиск», но Мариша и так догадалась, что это что-то шибко интересное, а то разве бы такой серьезный человек стал заниматься.
На осторожный Маришин вопрос: а где же у Бориса Николаевича жена?.. – старушка ответила, что, кажется, они разошлись. Мариша попыталась представить себе дурочку, которая отказалась от такого интересного, непьющего, образованного мужчины, и ничего не могла понять. Никаких внешних недостатков в Борисе Николаевиче не было. Правда, лицо у него почти всегда было бледное, голос негромкий, движения сдержанные, и лет ему можно было дать больше, чем ему было на самом деле. Одевался он тепло и, пока не приобрел уличного термометра, каждое утро вежливо осведомлялся у соседок, какова сегодня погода.
Хозяйство у нового жильца было самое примитивное. Пробавлялся он пищей случайной, но Мариша не раз наблюдала, как расточительно много сыплет Борис Николаевич в чайник заварки. У них в деревне такой порции хватило бы на неделю, и то не попить.
Поначалу она стеснялась Бориса Николаевича: он казался ей недоступным, немножко, может быть, гордым. В этом и не было ничего удивительного: ведь он был такой ученый, о чем бы он с ней стал разговаривать? Но вскоре Марише представился случай убедиться, что это не совсем так.
Она приобрела себе новое пальто из темно-синего драпа, на шелковой подкладке. Старое, купленное ей еще Романком четыре года назад, теперь никакого вида не имело. На радостях она отправилась со своей обновой на Полянку. Там в прихожей висело большое зеркало, в котором можно было себя как следует оглядеть.
На Екатерину Серапионовну и на Валентину Михайловну новое пальто особого впечатления не произвело. Но тут из своей комнаты вышел Борис Николаевич, внимательно посмотрел на Маришу и вдруг сказал:
– Вы знаете, я бы немножко укоротил рукава. И хорошо бы какой-нибудь светлый шарф.
– Ого! – весело заметила Селиванова. – Очень дельное предложение.
Она тут же принесла бледно-голубую крепдешиновую косынку и повязала Марише на шею.
– Вы не считаете, товарищи, что нам пора пристроить нашу девицу за какого-нибудь хорошего мужика? – сказала она.
Мариша смутилась и проговорила совсем тихо:
– Зачем? Не обязательно.
Борис Николаевич ей улыбнулся и подмигнул, как будто хотел подтвердить, что действительно не обязательно: какая в этом радость? Еще двадцать раз успеется.
Однажды, придя на Полянку, Мариша не застала никого, кроме Бориса Николаевича.
– Это вы, Марина? Проходите, пожалуйста, ко мне.
За неимением свободного стула Мариша присела на краешек дивана. И вдруг вздрогнула, услышав за собой чье-то грустное дыхание.
– Это Макар, – пояснил Борис Николаевич. – Скучает без хозяйки.
Селиванова только что уехала в Новый Афон. Екатерина Серапионовна считала Маришу своим человеком, поэтому намекнула ей, что Валентина Михайловна отправилась туда не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько чтобы избавиться от очередного назойливого поклонника.
Макар подтвердил свою тоску еще одним глубоким вздохом. Вздохнула и Мариша. Оглядела комнату: в углу над книжным шкафом густо туманилась паутина.
– Вы давно знакомы с Валентиной Михайловной? – спросил Борис Николаевич.
– Давно. Мы с ней вместе в военном госпитале работали.
– Как же это могло быть? Ведь вы же тогда ребенком были.
– А вот и могло! Меня в порядке исключения туда взяли. Я очень сильная была.
Борис Николаевич взглянул на ее маленькие руки.
– Неужели? А сейчас?
– Сейчас еще сильнее. – Мариша улыбнулась и вдруг спросила: – Борис Николаевич, вы не разрешите, я у вас тут приберусь?
Он оглядел свою комнату, словно в первый раз ее видел.
– Что вы, с какой же стати?.. Если не возражаете, давайте лучше выпьем чаю.
После первой же очень крепкой чашки сердце у Мариши страшно заколотилось.
– Что это с вами?
– Упарилась…
К чаю у них ничего не было. На кухне стояла баночка с вареньем, принадлежавшая Екатерине Серапионовне, но ее, естественно, решили не трогать.
– Сделаем вид, что мы варенья не любим, – сказал Борис Николаевич. – Налить вам еще?
Потом он спросил, откуда она родом: воронежская, тамбовская, курская?
– Тульская, – оживленно ответила Мариша. – К нам можно через Венев ехать, а можно через Узловую.
И, не ожидая дальнейших расспросов, она рассказала, какое у нее было прекрасное, ласковое детство, когда были живы и отец и мать. Как всей семьей ходили в колхозный сад собирать яблоки. Десять мешков наберешь, одиннадцатый твой. Сорта были хорошие: грушовка, аркад, анис, а из поздних – боровинка, антоновка.
– У нас и в своем саду было много. Только куда их? Варенья в деревне не варили.
– И не жалко вам было от ваших яблок уезжать?
Мариша только рукой махнула: где они уж теперь, эти яблоки!.. Объяснила, что в войну уцелело у них на огороде всего одно корявое деревце. Его трясли все кому не лень, и свои и соседские. На самой макушке оставалось всего с десяток яблок, которые она сама на Преображение сбивала длинным шестом, чтобы испечь в русской печи. Так сладко пахло!.. А вернулся брат, он и эту яблоньку ссек под корень, чтобы было удобнее пахать.
Борис Николаевич внимательно слушал.
– Я почти не представляю, как сейчас живут в деревне, – задумчиво сказал он, – видел только во время войны.
– Сейчас по-другому, – поспешила заверить Мариша. – Белого хлебушка, правда, нет, а картошки много. Что вы так смотрите?.. Ей-богу, много, даже не съедаем. А вы бы поглядели, какая крупная!
Ее собеседник улыбнулся, видимо, она его убедила.
– А в Москве вам нравится?
– Даже очень. Нас с фабрики в Останкинский музей возили. И по каналу Москва – Волга. Все удовольствие бесплатно, только буфет за свои.
Мариша сказала это и смутилась: она-то в буфет не ходила. С деньгами она расставалась все еще по-деревенски туго. Подруги пытались ее угощать, но она согласилась только на полпорции мороженого.
– Да, в Москве интересного много, – сказал Борис Николаевич. – Это хорошо, что вы приехали. Поступите учиться.
Наверное, он думал, что ей лет семнадцать-восемнадцать. Мариша не стала его разубеждать.
Заскреб ключ во входной двери, появилась Екатерина Серапионовна с каким-то большим конвертом в руках.
– Вот рискнула в первый раз обратиться в редакцию, – объяснила она. – Оказывается, что у них уже есть материал на эту тему.
И старушка стала объяснять, что покойный муж ее был лично знаком с Андреем Белым.
Борис Николаевич спрятал улыбку.
– Лучше бы, конечно, с Демьяном Бедным.
Мариша решила проявить свою осведомленность.
– А мы в школе один стих Демьяна Бедного учили, – сказала она.
Подмяв под голову пеньку,
Рад первомайскому деньку,
Батрак Лука вздремнул на солнцепеке…
– Позавидуешь Луке! – заметил Борис Николаевич и возобновил свои занятия, прерванные появлением Мариши, а она смутилась и уже жалела, что вспомнила Демьяна Бедного: лучше бы промолчала.
К началу осени вернулась из Нового Афона Селиванова, черная, худая и красивая. Осведомилась, устранили ли течь над ванной, но не буйствовала, когда узнала, что течет сильнее прежнего. Мариша отнесла это за счет того, что Валентина Михайловна просто не хочет проявлять своего характера при новом соседе. Та попробовала даже перейти с ним на однополчанское «ты»: оказалось, что в сорок третьем они оба были под Белгородом почти рядом, рукой подать.
– Не я тебя чинила, старлейт, – сказала Селиванова, – а то бы ты сейчас не скрипел.
Но Борис Николаевич сделал вид, что этого «ты» не расслышал, и продолжал обращаться к обеим дамам по-прежнему на «вы». Селивановой ничего не оставалось, как с этим примириться.
Марише показалось также, что Бориса Николаевича несколько тяготит опека, которой досаждает ему бывшая военврач третьего ранга.
– Скажите, почему, у вас такая ненависть к врачам? – раздраженно спросила Селиванова, когда Борис Николаевич в очередной раз отказался от предложения измерить ему давление.
– У меня к вам ненависть? – попробовал он отшутиться. – Да ни в коем случае!..
– В конце концов это просто смешно. Я уже почти договорилась относительно вас в ЦИТО. Туда люди по три года очереди ждут.
– Тем более не хочу. С какой же стати?
Марише нравились люди застенчивые, не нахрапистые, такие, как Борис Николаевич. Но все-таки почему же не полечиться, если есть возможность? Были дни, когда он очень плохо себя чувствовал, старался совсем не выходить из своей комнаты, чтобы избежать вопросов: почему это он сегодня такой бледный да что у него болит. Меньше других он стеснялся Мариши, как будто она была еще девочкой, малолеткой.
– Вы захворали, Борис Николаевич?
– Да, что-то неважно себя чувствую.
– Ничего вам не надо?
– Спасибо, у меня все есть.
– А то бы я с радостью. Огурчиков не хотите?
– Спасибо, не хочу. Не беспокойтесь.
Он прошел на кухню, налил себе стакан воды. Наверное, чтобы принять какое-нибудь лекарство. Селиванова ему натаскала их очень много. Через час Борис Николаевич вышел из своей комнаты уже в более бодром настроении.
– Вы не к метро? – спросил он у Мариши, видя, что та тоже собирается уходить. – Пойдемте вместе.
Мариша страшно обрадовалась, пошла рядом с ним и просто не находила слов. Она и сама не могла объяснить, что в этом человеке так ее притягивало. Назвать Бориса Николаевича красавцем было нельзя. Но лицо его было до того не похоже на все другие лица, которые когда-либо доводилось ей видеть, что казалось ей самым лучшим. Одевался Борис Николаевич очень скромно. Рубашки, которые он носил дома, относились к разряду тех, что называют «смерть прачкам», темные, не то в сеточку, не то в клеточку. У него был единственный приличный, хотя и не новый, костюм. И еще шерстяной свитер, в котором Мариша его первый раз увидала. Есть такие люди – что на них ни надень, во всем они хороши.
Короче говоря, теперь Мариша только о Борисе Николаевиче и думала и приходила на Полянку каждый раз в надежде его увидеть. Однажды ухитрилась в его отсутствие обмахнуть пыль в комнате и вымыть почерневший от времени паркетный пол. Он вернулся, сначала ничего не заметил, потом стал делать вид, что не замечает, а под конец сказал:
– Непослушная вы девочка!
Мариша была просто счастлива. Она спряталась за дверь, чтобы ее сейчас никто не видел, и потерла ладонями загоревшиеся щеки.
На швейной фабрике вокруг нее работали в основном женщины, девчата, и из-за каждого неженатого и даже женатого мужчины шла довольно жестокая борьба, затевались интриги, ходили сплетни. Мужики чувствовали, что они сила, и ломили себе цену. Но даже в этих обстоятельствах Мариша успела кое-кому приглянуться и получала предложения «закрутить». Но это было не то, совсем не то!.. Однажды она увидела во сне, что спит с Борисом Николаевичем, очнулась в сладком ужасе и с того дня совсем потеряла голову. Наводя украдкой порядок в его комнате, она нашла его фотографию, рискнула похитить и до тех пор прижимала к губам, пока испугалась, что фотография попортится.
Позже Мариша узнала, какой это острый нож – ревность. Теперь, когда бы она ни пришла на Полянку, Валентина Михайловна сидела в комнате у соседа или приглашала его к себе. Макар привязался к новому жильцу, а то бы и он непременно взревновал. Если бы не Мариша, пес насиделся бы без морковки: хозяйка его теперь была полна совсем иных забот.
Только за последний месяц Валентина Михайловна сшила себе два новых платья. Одеваться она умела. Тех платьев или сарафанов, которые выходили на швейной фабрике из-под Маришиного утюга, Селиванова не надела бы никогда в жизни. Шила ей жена какого-то архитектора, а туфли присылал из Адлера один грузин, которому Селиванова в свое время сделала сложную операцию и тем обула себя до конца дней.
В комнате у Валентины Михайловны, притиснутое прочей мебелью, стояло старое черное пианино. На его исцарапанной крышке вечно лежало что-то, не относящееся к музыке: шляпы, коробка от обуви, щетки, гребенки, тюбики от губной помады. Но однажды Мариша, придя на Полянку, увидела, что за пианино сидит Борис Николаевич.
– А для вас что сыграть? – спросил он Маришу, как будто польщенный ее удивлением. – Хотите «Турецкий марш»?
Негустые его светлые волосы, когда он играл, рассыпались по лбу. Мариша сидела не шевелясь и смотрела на этот лоб, на пальцы. Честно говоря, музыку она сейчас не слушала, ей было не до музыки.
– Ну так как? – спросил Борис Николаевич.
– Замечательно!..
– Так уж и замечательно? Я ведь не Оборин и не Софроницкий.
– Они что же, лучше играют?
Борис Николаевич и Селиванова переглянулись. Мариша почувствовала, что опять сказала невпопад, и больше уже не проронила ни слова.
Сейчас ей уже казалось, что ее приход явно помешал. Но Селиванова сказала дружественно:
– Хорошо, что ты пришла, Огонек. У меня отличный рассольник.
Этот рассольник не утешил Маришу, тем более что он вовсе не был отличным. Готовить Селиванова не умела и этим процессом страшно тяготилась. Просто сейчас, по маришиному разумению, она хотела выглядеть в глазах Бориса Николаевича хорошей хозяйкой.
Разговор, прерванный приходом Мариши, возобновился. Селиванова говорила о своих делах, о том, что в клинике в последнее время обострилась обстановка. Вместо того чтобы нормально лечить людей, разводят демагогию, подсиживание. Опытный врач иногда вынужден оправдываться в чем-то перед какой-нибудь нахалкой медсестрой.
– Вам легче: вы не врач и не биолог.
– У нас свои проблемы, – вздохнул Борис Николаевич.
– Так переходите с немецкого романтизма на что-нибудь более родное. На какие-нибудь там «Бруски».
– Должен заметить, что «Бруски» – роман отнюдь не худосочный.
Мариша сидела молча и подавленно: понимала, какое огромное преимущество было у Валентины Михайловны. О чем она сама могла поговорить с Борисом Николаевичем? Она и слов-то таких не знала, какие слышала за этим столом.
Приближался новый, тысяча девятьсот пятьдесят третий год. У обитательниц квартиры на Полянке была надежда, что встречать его Борис Николаевич будет вместе с ними. Но он объявил, что уезжает в город Ржев. Там жила его мать, в Москве ее по не понятной Марише причине почему-то не прописывали. С фотографии, стоявшей на столе у Бориса Николаевича, смотрела симпатичная седовласая женщина, которая и в Москве наверняка никому бы не помешала. А в Ржеве, оказывается, было плохо с дровами, и вообще там люди еще не могли прийти в себя после военной разрухи. Мама Бориса Николаевича пыталась давать домашние уроки математики, но появление фининспектора положило этому конец. Когда Мариша об этом узнала, то вновь вспомнила свою любимую учительницу, Ксению Илларионовну. Жива ли она?
От поездки в Ржев, понятно, никто Бориса Николаевича отговаривать не стал. Он надел под костюмный пиджак свой толстый черный свитер и уехал. Непрактичный, как многие мужчины, он не сумел взять с собой никаких продуктов. А может быть, у него просто не оказалось денег.
После его отъезда Селиванова не без колебания приняла чье-то приглашение на новогоднюю встречу и ушла из дома. Мариша и Екатерина Серапионовна остались в этот вечер вдвоем. Они просидели до двенадцати часов ночи, выслушали новогоднее поздравление по радио. Потом Мариша постелила себе в кухне на полу и легла. Селивановский Макар подумал и лег рядом с ней.
Она уже задремала, утомленная грустью. Вдруг кухня осветилась. Это вернулась Валентина Михайловна.
– Ну, конечно, эта аристократка выпихнула тебя в кухню! Иди ко мне, ложись на диван.
Мариша попробовала заступиться за Екатерину Серапионовну, сказав, что она сама тут легла, что тут удобно, тепло.
– Ну, как хочешь.
Ушла Селиванова не сразу, а после того, как выкурила две папиросы. У Мариши было такое чувство, что она хочет ей что-то сказать. Но та ничего не сказала.
Он ведь знал, кто Мариша такая – простая работница. Однако когда открывал ей дверь, то не было случая, чтобы не помог снять пальто.
– Здравствуйте, Борис Николаевич! Как съездили?
– Спасибо, все хорошо. Проходите, пожалуйста.
– Я извиняюсь, а где же все?
– Насчет Валентины Михайловны ничего не могу, сказать, а Екатерина Серапионовна, кажется, пошла на собрание актива в домоуправление.
Мариша вспомнила высказывание Селивановой по адресу своей старенькой соседки: «Мужа похоронить не успела, домоуправление хапнуло у нее одну комнату. Я думала, она по крайней мере год рыдать будет, а она уже на следующей неделе в это же домоуправление отправилась какой-то там кружок проводить».
– А вы все пишете, Борис Николаевич? – заглянув ему через плечо, спросила Мариша. – Наверное, уже много написали? И все про бурю?..
– Про какую бурю?.. Ах, про «Бурю и натиск»!.. Нет, не только. А как ваши дела?
– Радость у меня, Борис Николаевич. Комнату мне дают. С одной женщиной на двоих.
– Какая же радость, если на двоих?
– Но ведь мы всемером жили.
Он смотрел на нее и улыбался.
– Позавидуешь вам, Мариночка: всем вы довольны, везде вам хорошо.
– А что же мне? Молодая я, здоровая…
Она в эту минуту была не только молодая и здоровая, но и хорошенькая. Щеки у нее еще с мороза были розовые, серые глаза улыбались.
– Хотите чаю? Только у меня, кажется, кончился сахар.
Мариша сказала, что в одну минуту сбегает: магазин рядом. Когда она вернулась с пачкой рафинада, Борис Николаевич уже поставил чашки на стол. Они сели друг против друга и принялись за чай. Мариша старалась смотреть в блюдце, а Борис Николаевич смотрел на нее. Он был сегодня очень приветлив.
– Что это вы все глядите на меня? – смущенно спросила Мариша.
– А почему же не глядеть? На вас глядеть очень приятно. Вы сегодня такая хорошенькая. Ну-ка, поднимите головку!
Мариша подняла и улыбнулась.
– Вот так все время и улыбайтесь. Это вам отнюдь не вредит. Не все умеют хорошо улыбаться, а вам это дано от природы.
…Каждую минуту могла прийти с собрания Екатерина Серапионовна. Могла появиться и Селиванова, поэтому Мариша решила, что надо поспешить с признанием.
– Знаете, Борис Николаевич… Вы только не обижайтесь. Я ведь в вас влюбилась. Хотите верьте, хотите нет.
Наступила пауза.
– Влюбились?.. – спросил он, сразу став очень серьёзным. – Когда же это вы успели?
– Успела вот.
Он был заметно смущен.
– Вот так штука!.. Ну, влюбились, так любите. Спасибо!..
Мариша поняла, что дела ее плохи.
– Вы уж никому не рассказывайте…
– Ну что вы, как это можно?
Борис Николаевич пересел поближе к Марише и даже взял ее за руку. Она сегодня надела кольцо с алым камушком – цветом любви. Сейчас поджала палец в надежде, что он не заметит.
– Все это пройдет, Мариночка, помяните мое слово.
– В жизнь не пройдет!
Он пожал плечами, как бы удивляясь ее упрямству.
– Должен вам доложить, что я ведь весь по кускам сшит. Если еще и голова откажет, чем мы тогда будем с вами заниматься? По дворам с обезьянкой ходить?
– С какой обезьянкой? – испуганно спросила Мариша.
– Ну, это я просто хотел вас немножечко развеселить. Улыбнитесь, пожалуйста.
Мариша попыталась, но не вышло.
– Что же мне теперь делать-то, Борис Николаевич?
– Даже не знаю, что вам такое и посоветовать…
Опять наступила пауза.
– Я понимаю, – шепнула Мариша, – зачем я вам? Я малограмотный человек, из деревни…
– Как вам сказать… Дело, конечно, не в этом. Грамотным человеком вы станете, если захотите. Я вам этого искренне желаю.
Сейчас Марише было совершенно все равно, станет она грамотной или нет.
– Кончена моя жизнь! – опять шепнула она.
– Перестаньте говорить глупости! – с несвойственной ему строгостью прикрикнул Борис Николаевич. – В конце концов вы меня ставите в нелепое положение. Что вы во мне нашли? Это смешно просто!
Мариша смотрела сквозь слезы на Бориса Николаевича и думала: «Как это что нашла?.. Да тысячи мужиков, хромых, косых, пропивших половину разума, и те думают, что лучше их нет. А в этом человеке все, ну просто все, что только может быть лучшего! Кого же тогда и любить?»
Если бы кто-нибудь полгода назад сказал Марише, что она будет сама навязываться мужчине, она бы очень обиделась. А вот сегодня так и вышло. Но, как это ни странно, стыда она сейчас не испытывала, а только одну горькую печаль.
– Бросьте, умоляю вас! – повернувшись к ней, сказал Борис Николаевич.
Он стал говорить о том, какая она славная, какая добрая, как в квартире на Полянке все ее любят и что если она сейчас из-за пустяков обидится и перестанет здесь бывать, то на его душе будет страшный грех.
А она слушала и думала: «Хороши пустяки! Тут, можно сказать, вся жизнь!..»
И вдруг Марише показалось, что они сейчас в квартире уже не одни. Хотя вроде бы и входная дверь не хлопала, и пол не скрипел. Она вышла из комнаты Бориса Николаевича и действительно увидела перед собой Селиванову. Та пристально поглядела на Маришу, потом отвернулась и хотела повесить на вешалку свое пальто. Оно соскользнуло и свалилось на пол.
– Это вы, Валентина Михайловна?
Селиванова молчала, пальто так и лежало на полу.
– Знаешь, это, в конце концов… Я понимаю, что тебе замуж надо. Но все-таки следовало бы подумать, куда ты лезешь. Я считала, что ты умнее!
В следующее воскресенье Мариша на Большую Полянку не пошла. Сидела и плакала. Ее обидели именно там, где она меньше всего могла ожидать. Она уже корила себя, что так безраздельно отдала душу обитателям квартиры на Полянке, ведь за это время могла бы обзавестись подружками, могла бы при большом желании познакомиться даже с кем-нибудь из парней. Но, возвращаясь мыслями к Борису Николаевичу, она понимала, что никакие парни ей не нужны, даже самые золотые; любовь к человеку, который был старше ее на целых восемнадцать лет, как будто прибавила ей самой ровно столько же.
Слезы у Мариши то просыхали, то набегали снова. Так смолкает ночной дождь, и вдруг снова стучат и шуршат по крыше капли. Марише казалось, что еще ни разу в жизни не была она так несчастна. Не радовала и новая комната на двоих, хотя раньше ей и вовсе некуда было бы спрятаться со своим горем от шести девчонок, которые спали койка к койке.
Но долго одиночества Маришина душа не выдержала. Трижды садилась Мариша на трамвай, чтобы ехать на Полянку, и трижды сходила на следующей остановке. Наконец все-таки поехала.
Бориса Николаевича в квартире видно не было. Дверь в его комнату сегодня была плотно закрыта, и ее сторожил Макар.
Селиванова извлекла из холодильника торт с желтыми кремовыми розами.
– Изволь есть, – как-то очень сурово и категорично потребовала она.
До Мариши почему-то к этому торту никто не притронулся. Ей показалось даже, что сама хозяйка смотрит на кремовые розы с отвращением. И Марише вдруг стало ясно, что за истекший месяц в квартире на Полянке что-то случилось.
– Знаешь, наш-то герой собирается дать тягу, – после длительного молчания сказала Селиванова. – Вчера явился с этим тортом. Чтобы подсластить…
Мариша замерла и слушала. Оказывается, Борис Николаевич втихомолку подыскал себе обмен и на днях переезжает куда-то в район Красной Пресни. Когда он об этом объявил, то был очень смущен, пытался приводить какие-то неубедительные доводы.
– Говорит, экспресс идет оттуда к месту его работы. Пусть попробует. Ему в этом экспрессе последние кости переломают.
Валентина Михайловна была растеряна и угнетена. Оставалось только догадываться, что за это время произошло между нею и Борисом Николаевичем.
К торту Мариша почти не притронулась, и его унесла к себе Екатерина Серапионовна. Старушка тоже была озадачена тем, что Борис Николаевич их покидает, но особой трагедии в этом не видела. А Мариша в смятении думала о том, что другой мужчина на его месте покрутил бы голову им обеим с Селивановой, а после бросил бы их, когда надоели. Этот же человек, наверное, даже комнаты себе хорошей подбирать не стал, взял первую попавшуюся, только бы своим присутствием никому душу не бередить. Она попыталась представить себе, какое же лицо было у Бориса Николаевича, когда он пришел к Валентине Михайловне с этим тортом, какой голос…
Увидела Мариша Бориса Николаевича в последний раз уже в середине февраля. Селиванова нарочно в этот день из дома ушла, и отъезжающего провожали Екатерина Серапионовна, Мариша и Макар. Лицо у Бориса Николаевича было тревожное, бледное, чувствовал он себя с самого утра плохо, принимал какие-то таблетки. Никак не мог уложить вещи, пока Мариша ему не помогла.
– Спасибо вам большое, Марина!.. Не беспокойтесь, это я сам возьму. Прощайте!..
Шарф он на шее замотать забыл, он болтался у него из кармана. Мариша старалась не смотреть ему в глаза.
– Счастливо, Борис Николаевич! Посуда ваша вот в этой коробочке, не разбейте.
– Посуда? Ох, да, благодарю вас!.. Передайте привет Валентине Михайловне. Очень жаль…
– Обязательно передам, – поспешно сказала Мариша.
Екатерина Серапионовна глядела вниз из окошка, с третьего этажа, Макар отчаянно царапал дверь, стараясь вырваться на лестницу. Мариша вернулась в квартиру, увидела голую комнату, в которую уже сегодня должен был кто-то въехать, и больше не стала себя сдерживать, всхлипнула и спрятала лицо в ладони.
Освободившуюся после Бориса Николаевича комнату занял отставник, человек преклонного возраста, но крепкого телосложения. После его визитов в домоуправление, а потом в райисполком появились водопроводчики, маляры, и места общего пользования были приведены в полный порядок. На входной двери был повешен ящик с замочком, и сюда дважды в день опускалось большое количество столичных газет и журналов.
– Валя, вы несправедливы, – покачала головой Екатерина Серапионовна, когда Селиванова высказала что-то нелестное по адресу нового жильца. – Василий Степанович человек очень спокойный, мы даже шагов его не слышим.
– Вот это и плохо, – отрезала Селиванова. – Почему это ваш Василий Степанович ходит так неслышно, когда в нем, наверное, центнер веса?
Валентина Михайловна явно хандрила. Она опять стала расхаживать по квартире в старом халате и шлепанцах на босу ногу.
– Дело прошлое, Огонек, – призналась она Марише, – но я никак не могу забыть этого человека.
Мариша сама не могла забыть.
– Согласись, что это был очень приличный мужик. Такая уж у меня дурацкая натура – всегда меня притягивают люди, в судьбе у которых какое-нибудь неблагополучие. Не могу я видеть сытые морды. Вот такие дела, Огонек.
И Селиванова рассказала Марише и про то, что нашлись общие знакомые, от которых она узнала, что бывшая супруга Бориса Николаевича в пору их совместной жизни вела себя, мягко говоря, не очень красиво.
– Вот ничтожным бабам всегда везет, – заключила Валентина Михайловна. – И таких еще любят всю жизнь. Просто непостижимо!
Мариша готова была согласиться, что в жизни много непостижимого. Непостижимо было и то, что и она собиралась любить Бориса Николаевича всю жизнь.
Последующие события той холодной зимы отодвинули в сторону личные, пусть самые горькие переживания. Через десять дней после отъезда Бориса Николаевича с Большой Полянки Маришу чуть не раздавили в толпе, когда она попыталась попасть в Колонный зал, чтобы посмотреть на мертвого Сталина. Она никогда не видела вождя живым и страстно возжелала взглянуть хотя бы на его гроб. Перепуганная, плачущая от боли, горя и изнеможения, она поздно вечером едва добралась до Большой Полянки.
– Вот идиотка!.. – испуганным и злым шепотом сказала Селиванова. – Боже мой, какая идиотка!
Она сама помогла Марише вымыться, дала валерианки и забинтовала ободранное до мяса колено. Потом понесла эти же капли и Екатерине Серапионовне: старушка не осушала глаз уже третьи сутки.
– Нет, это просто невыносимо! – сказала Селиванова. – Прекратите! Чего вы воете?
Мариша была так удивлена, что у нее даже слезы просохли. Селиванова показалась ей очень бесчувственной, и все Маришины симпатии сейчас были на стороне плачущей старушки. Та, впрочем, через несколько дней утешилась, а Мариша пребывала в печали весь март. Но на производительность труда ее переживания не повлияли, тем более что мартом заканчивался производственный квартал, и работать спустя рукава никак не приходилось.
Весна в этом году не спешила: на Москве-реке синел лед, морозило и метелило до самого апреля. День прибавился на два часа, но этого как-то не ощущалось.
– Ты не желаешь, Огонькова, в хор записаться? – спросила Маришу профорг из цеха. – Говорят, настоящего артиста пришлют руководить.
– В хор?.. – удивленно переспросила Мариша. Ей не верилось, что настало время, когда опять уже можно петь.
Но дни эти наступили. Близилось лето, на фабрике заговорили о путевках, о детских лагерях, об экскурсиях и поездках. В одно из майских воскресений швейниц повезли на массовку. Ехали по Рязанскому шоссе, на семьдесят пятом километре автобус свернул в лес. Первая трава была так хороша, что жалко было топтать. Только разве кого остановишь, тем более что большинство приехало с детьми. В лесу нашли большой пруд с голубыми незабудками по берегу: он был еще очень холодный, и только те, кто сильно подвыпил, рискнули лезть в воду. Но было очень весело; целый день играли два баяна, женщины перепели все песни, какие только знали. И если бы некоторые девчата вели себя посдержаннее, то и вовсе массовка была бы замечательная. Что ж поделаешь, когда на швейной фабрике ребят и мужчин мало? Лучше уж поискать на стороне, а не ссориться и ревновать при всем коллективе.
– Ну как, Огонькова, довольна? – спросила председатель фабричного комитета. – Еще поедешь?
– Большое спасибо, очень довольна, – сказала Мариша. – Лес такой прекрасный! У нас в деревне такого нету, у нас все поле…
Но больше этим летом на массовку не поехали: оно в Москве было дождливое-предождливое. Правда, в цехе и без солнца жары хватало, а вот прогуляться пойти – это уже хуже. Мариша купила себе зонтик, а поверх новых босоножек иногда даже надевала галоши. Но Москва – это не деревня, тут любую лужу можно обойти стороной, не замочив ног. Что же касается настроения, то оно у Мариши теперь было уже вовсе бодрое. А плохая погода на нее не влияла.
Глава четвертая
Весна пятьдесят четвертого года была ранняя: уже с середины мая вовсю цвела по бульварам и скверам лиловая сирень, а кое-где на припеке зацветала и поздняя, белая.
В обеденный перерыв швейницы устремлялись в зеленый садик при фабрике. Мариша приметила, что семейные женщины редко ходят в столовку, может быть, деньги экономили, а может, повара не могли на них угодить. Марише казалось, что зря: щи мясные давали очень вкусные и всего за рубль сорок. На гривенник хлебушка – и очень хорошо. Второго блюда, честно говоря, Мариша и сама не брала, считая, что гуляш или битки – это баловство, роскошь.
То ли действительно погода была уж очень хороша, то ли события последних месяцев воодушевляли, но чувствовали сейчас себя все вокруг так, словно какую-то тяжелую заботу с плеч стряхнули. А причина была простая: каждая вторая работница на их фабрике была или тульская, или рязанская, или смоленская; всю зиму только и было разговоров по цехам, что государство сняло с колхозников налоги, скостило колхозам долги и дало ссуды на подъем хозяйства. Товары в деревне появились, одежда, посуда. А то ведь за войну так подбились, что картошку сварить было не в чем, из черепков пили и ели. Не у одной Мариши, почти у всех по деревням жила родня, свойственники. Молодежь на фабрике за путевками в дом отдыха гналась, в какую-нибудь поездку, а те, кто постарше, жертвовали свои отпускные дни на то, чтобы проведать мать, старшую сестру, тетку. Нагружались пшеном, макаронами и ехали. Хорошо, кому дорога была прямая, а кому и с пересадкой.
Все чаще посещала Маришу мысль, что надо бы пренебречь обидами и съездить в отпуск в Орловку. Она бы не к брату гостить поехала, а только поглядеть на родное поле, постоять над зеленым яром.
Но поехать в Орловку Марише не довелось. Этой весной она познакомилась со своим будущим мужем.
Уже не раз попадался ей на Симоновском валу парень в армейской фуражке без звездочки. Наверное, где-то рядом жил. Марише казалось, что когда он ее замечал, то замедлял шаг, а потом смотрел вслед. И вот однажды решил остановиться. Подмигнул веселым глазом и подал крепкую, горячую руку.
– Здорово!
– Здравствуйте!
– Меня Толей звать. Анатолий Трофимыч Лямкин.
Почему было и Марише не сказать, как ее зовут? Выглядел этот веселый Анатолий лет на тридцать, плечи у него были раскидистые, подбородок и скулы твердые, мужские. Под рабочей курткой чистая голубая рубашка.
– Чего глазки-то прячешь? Не занятая? Давай в кино сходим.
На первый раз Мариша от приглашения отказалась. Но до дома ее Анатолий проводил. Чтобы не думала, что он шпана какая-нибудь, показал служебное удостоверение и водительские права второго класса.
– Восемьсот пятьдесят получаю, но без премиальных не живу.
Теперь, узнав адрес Маришиного общежития, он уже на следующий день появился и там.
– Я билеты купил на восемь часов. Собирайся.
Следовало бы помедлить с согласием. Но парень как будто предлагал от души. Другая на Маришином месте скакала бы от радости.
– Ну что же, пойдемте, – сказала Мариша.
Анатолий сегодня явился шикарный, в новом песочном костюме и в большой шоколадной кепке. Он был полон расположения, только вышли, взял Маришу под ручку. Метров двести до кинотеатра она шла вроде бы сама не своя.
– А ну, пацан, айда отсюда к чертовой бабушке!
Это он согнал мальчишку, который занял их места. Тот пулей слетел со стула, юркнул в проход.
– Пусть бы сидел, – несколько ошеломленно сказала Мариша, – вон ведь мест свободных сколько.
– Те места нам не годятся, – со значением улыбнулся Анатолий и подпихнул Маришу в последний ряд, в самый угол.
Она разволновалась и страшно жалела, что пошла: ожидала хамства. Но Анатолий грубостей себе никаких не позволил, только посмеивался, болтал и наклонялся к самому лицу. Картину он Марише, естественно, посмотреть почти не дал. Щеки у нее горели, а руки были страшно холодные.
– Зайти-то к тебе можно? – спросил Анатолий, когда фильм кончился.
– Нельзя, – сказала Мариша.
Он истолковал это по-своему:
– У меня, понимаешь, тоже комната с корешом на двоих. Ну, я его махану куда-нибудь. Пойдешь?
Мариша еще категоричнее сказала, что никого «махать» не надо, она все равно не пойдет.
– Это ты такая? Что, я тебя съем, что ли? Посидели бы, поговорили.
Анатолий проводил Маришу до общежития, у дверей пробовал опять уговаривать:
– Ну а в другой-то раз пойдешь?
Чтобы не упрекать себя потом, что сразу оттолкнула человека, она постаралась улыбнуться и сказала:
– Другой раз – другой сказ. Спокойной ночи!
Хотела она этого или не хотела, но последующие дни думала об Анатолии. Ее только удивляло и тревожило, почему он ее ни о чем не расспросил: ни кто она, ни что она, есть ли у нее родные, близкие, даже сколько ей лет. Это наводило на мысль, что намерения его самые несерьезные и держаться с ним следует сурово.
А Анатолий тем не менее торопил события. Сидели ли они с Маришей в парке или опять в зале кинотеатра, он твердил только одно: как бы это побыстрее сойтись. Ей казалось, что ему все равно, что за девица ему достанется, лишь бы побыстрее досталась.
Но Мариша ошибалась: Анатолий влюбился. На третьей неделе знакомства он сказал:
– Чего голову-то друг другу крутить? Давай распишемся.
Мариша взглянула ему в глаза и увидела, что парня действительно заело. В эту минуту Анатолий показался ей даже красивым. Мариша опустила глаза, вспомнив, что не так давно любила другого человека, такого непохожего. И подумала о том, что ведь мог же этот Анатолий встретиться ей год назад. Тогда, возможно, она была бы даже счастлива.
Сраженная неожиданным поворотом судьбы, Мариша вдруг сдалась. В конце концов ведь ей этой весной исполнилось двадцать пять лет. В начале июня они с Анатолием расписались.
Муж милостиво разрешил Марише остаться при своей фамилии, которая ей самой очень нравилась и которой она дорожила как памятью о тех днях, когда все в госпитале ласково называли ее Огоньком, в том числе и военврач третьего ранга Селиванова. Она и вправду была тогда «огоньком», а теперь, после того, как жизнь на нее несколько раз дунула, что-то никак не разгоралась… При мысли о Селивановой Маришу посетила грустная догадка, что выбора ее Валентина Михайловна может не одобрить.
Расписывались по месту жительства жениха и невесты, на Симоновском валу. Анатолий стоял нарядный и счастливый. Он уже добился того, что кореша его перевели к другому холостяку, а им с Маришей досталась комнатенка с одним окошком, но с большим стенным шкафом и крашеным полом. На стекле висели казенные часы, которые два раза в день нужно было подталкивать, чтобы шли.
