Князь. Записки стукача бесплатное чтение
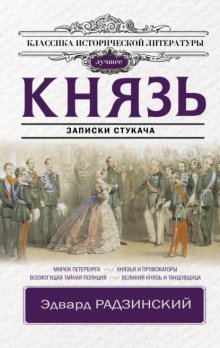
© Радзинский Э.С.
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Мои записки
(Записки князя В-го)
Наступил 1919 год. В самом повторении цифр мерещилось дьявольское. В стране, называвшейся прежде Российской империей, шла Гражданская война.
В Петербурге ночами – повальные аресты, меня слишком многие знали, и я придумал перебраться в Москву.
Стоял ноябрь. Город был покрыт портретами новых вождей и алым кумачом. Большевики перенесли столицу в Москву и праздновали в столице московских царей вторую годовщину своей победы.
Пришли необычные холода. Выпал ранний снег. В новой столице не было ни дров, ни еды, и люди умирали. Я жил (точнее, прятался) в квартире покойного дяди – огромной, нетопленной квартире на окраине Москвы…
Дядя – адмирал, служил в Генеральном штабе. Он находился с инспекцией в Кронштадте, когда случился большевистский переворот. Пьяные матросы заставили его рыть яму на Якорной площади перед собором. Там его и закопали – живьем…
Все квартиры в центре новой столицы уже были «уплотнены» – в них вселились солдатня, рабочие и вчерашняя прислуга. Образовались огромные коммуналки, где по утрам полуголые, потерявшие всякий стыд немытые люди стояли в очереди в туалет и ванную. Но окраину только начинали трогать.
Всю мебель я давно сжег, и две последние картофелины испек на костре, устроенном в гостиной. Квартира стала первобытной пещерой.
Два дня я ничего не ел и рискнул выйти за хлебом…
Я направился к вокзалу. Здесь можно было раздобыть нужный адресок.
Хлеб в Москву везли из деревень – утаенный от конфискации крестьянский хлеб. Провозили тайно, замаскированно – мамаши, будто кормящие грудных младенцев (вместо младенцев – завернутые в одеяло буханки хлеба), или в грязных мешках под бельем, подкупив железнодорожную охрану. Пойманных расстреливали красногвардейцы тут же, на платформах, но удачливые мешочники (так их называли) прорывалась в погибавшую от голода столицу.
За хлеб получали все – золото, бриллианты, женщину, девочку. Адреса мест, где можно купить этот опасный хлеб, знакомые передавали друг другу, незнакомые продавали в вокзальных туалетах. В вонючем, давно не убиравшемся туалете я обменял теткин бриллиант на адресок: «В первом доме, справа от Казанского вокзала, во дворе найди зеленый забор. Вторая доска справа на заборе отодвигается, пройди во двор – за помойкой мешочник будет ждать с хлебом в шесть утра…»
И я отправился. Под пиджаком на теле был привязан мешочек со знаменитыми теткиными драгоценностями – диадемой с огромным изумрудом и ожерельем крупного жемчуга…
Было еще темно. В грязноватом рассвете огромный Карл Маркс смотрел со здания вокзала. Я вспомнил его огромную голову, пугающее множество волос – шевелюру, бороду Саваофа и заросшие пальцы. Вспомнил, как, веселый и пьяный, в лондонском рассвете он бил фонари вместе с компанией подвыпивших соратников… И как прытко удирал от лондонского полицейского.
Впрочем, теперь все фонари вокруг вокзала были также разбиты – вероятно, в его честь.
Когда я подошел к зеленому забору и начал искать отодвигавшуюся доску, меня окликнул грязный старик. В бесформенных лохмотьях опытный взгляд мог разглядеть когда-то дорогую шубу с оторванным (должно быть, проданным) бобровым воротником.
Он прошептал беззубым ртом: «Не ходите туда, милостивый государь… там засада – милиция… Все отняли – жемчуг, золото…» И осекся, ибо в этот момент узнал меня.
В моей такой же грязной, потерявшей всякий вид шубе узнать меня было непросто… впрочем, как и его.
Старик с удивительной резвостью пошел прочь.
Я устремился за ним.
– Вот так встреча! – громко шептал я. – Куда же вы, ваше превосходительство?
Он не оглянулся…
Две грязные бесформенные шубы мчались по улице.
Красногвардеец, стоявший на углу, проводил нас взглядом, и я тотчас раздумал догонять.
Теперь я точно знал – это был он.
Его я заметил уже на второй день после того, как перебрался в квартиру дяди.
Тогда, пытаясь заснуть в ледяной квартире, я старательно содрал все занавеси с окон. Вместе с одеялом они должны были согреть голодное тело… И в обнажившееся окно кухни я увидел такое же голое окно в доме напротив.
Старик стоял в кухне и что-то варил.
Я сходил с ума от голода. Я принес бинокль дяди – разглядеть, что он варил. И тогда мне пришла в голову ясная мысль: убить варившего! Мне, вчерашнему Его Превосходительству… убить! Как тонка пленка цивилизации…
И, решившись убить, я поднял бинокль и… не поверил своим глазам.
Это был он! Или… видение от голода? Мне показалось?
В этот момент он почему-то странно заспешил прочь с кухни. На следующий день окно было завешено какими-то лохмотьями.
Я знал его с девятнадцати лет… О нашей первой встрече расскажу после.
Две последние случились накануне конца Империи…
Заканчивался февраль семнадцатого года. Я был влиятельным членом кадетской партии. И все свое огромное состояние, одно из самых больших в России, тратил на нужды партии. Было ясно – нам надо спешить… Империя шла ко дну. На фронте – одни поражения. Военные гробы – тысячами, каждый день. И царь, «безумный шофер» (как мы его тогда называли), прямиком мчал нас всех в пропасть.
22 февраля царь уехал в Ставку.
Но уже 20 февраля руководство партии собралось в моей квартире.
Гора бобровых шуб в передней… Старый Фирс с седыми бакенбардами в дорогой ливрее, похожий на генерала. Все, что нынче безвозвратно исчезло…
Я выступал с докладом: «Жалкая слякотная власть ведет нас к революции. Это будет наша русская революция. Революция гнева и мести темных низов. Это будет наш русский бунт – бессмысленный и беспощадный… Реки крови! Мы обязаны перехватить инициативу, господа…»
Было решено устроить переворот. Приехавший с фронта генерал должен был захватить царя, когда он будет возвращаться из Ставки в Царское Село… и заставить отречься.
Но его агент (как всегда) оказался среди нас…
Вскоре я получил приглашение явиться в Департамент полиции – к нему. На повестке стояла дата: 25 февраля 1917 г.
Сколько раз за свою жизнь я получал от него эти приглашения…
Решился бежать, и немедля. Но когда подошел к окну, увидел: трое в котелках и одинаковых черных пальто прогуливались у моего дома.
Он открыто установил наружное наблюдение. Чтобы я понял: бежать поздно. Обычный его прием – повесить топор над головой. «Неотвратимость наказания» – его любимые слова.
Но русский фарс торжествовал: прийти к нему в Департамент полиции мне не довелось. Пришлось прийти ему ко мне. Ибо началась Революция… В три дня погибла трехсотлетняя империя… Толпа громила полицейские участки. Дым, гарь стояли в те дни над Петербургом – горели Департамент полиции, суд, охранка… Царский поезд так и не смог пробиться в Царское Село – его заперли на станции с удачным названием «Дно».
3 марта я узнал: царь отрекся от престола.
Я стал товарищем министра юстиции, одним из организаторов знаменитой Чрезвычайной комиссии. Комиссия расследовала преступления высших царских чиновников и феномен Распутина.
На первое заседание собрались в Зимнем дворце…
Поднимаясь по парадной Иорданской лестнице, я вспоминал свой первый бал во дворце… Помню, как обрушилось на меня тогда все ее великолепие – сверкали мраморные стены с золоченой лепкой, тысячи свечей – в зеркалах и гигантский лазоревый плафон с богами Олимпа – над головой… Вдоль лестницы – шпалеры казаков в черных бешметах и «арапы» в малиновых куртках, в белых тюрбанах. Между ними текла наша толпа – ослепительно белые и кроваво-красные мундиры, сверкающие каски с золотыми и серебряными орлами… Дамы с обнаженными алебастровыми плечами, у корсажей мерцал «шифр» – осыпанный бриллиантами вензель царицы, знак фрейлины…
Высокий седой красавец государь Александр Второй и хрупкая императрица с лазоревыми глазами открывали бал в придворном полонезе…
Теперь вместо этого видения из «Тысячи и одной ночи» – пустая грязная лестница. На мраморных ступенях – солдатские окурки… А те, кто приглашался на эти придворные балы, нынче сидели в сырых казематах Петропавловской крепости.
В Зимнем дворце мы только заседали… Допрашивали заключенных обычно в самой крепости. Помню комнату, где шли допросы. Из окна виден беспощадный золотой шпиль и летящий ангел на нем.
Ко мне приводили вчерашнего премьер-министра Голицына. Как же он был стар – в паузах допроса дремал… И мою петербургскую знакомую Аню Вырубову. Она сильно хромала, подпирала плечо костылем, плакала… Вчерашние владыки мира – в них появилось что-то трогательное, беспомощное, беззащитное, детское… Таков человек – в горе и унижении становится ребенком.
Но он остался прежним.
Когда его привели, насмешливо поглядел на меня:
– Видите, как повернулось. Вчера я собирался вас допросить, а сегодня вы меня допрашиваете… Но впереди у нас с вами еще «завтра», – и усмехнулся. Потом спросил: – Сколько же лет мы знакомы?
– Сорок восемь.
– Почти юбилей. Сколько вам было, когда мы встретились?
– Девятнадцать.
– Да и я был на какие-то двенадцать лет старше. Всю жизнь мы прожили с вами бок о бок. Интереснейшая была у нас с вами жизнь… Опишите, коли останетесь живы. Вы ведь и журналистикой успешно баловались… Однако, что это я вас допрашиваю – вы ведь должны меня…
Когда я начал допрос, он все с той же насмешкой прервал:
– Где же стенограф? Вижу, сами решили записывать мои показания… Боитесь, все расскажу?.. Но в ваших глазах – веселые огоньки. Дескать, рассказать можно, но как доказать? Ведь здание бедного Департамента полиции – тю-тю… сгорело, и все архивы сгорели… Наверняка кто-то из ваших постарался… – Он засмеялся. – Этого я и ждал… Слишком много наших было среди ваших… Но позвольте напомнить: когда Наполеон прогнал хитреца Фуше из Министерства полиции, его преемник нашел архив… абсолютно пустым! Исчезли все секретные бумаги и главное – списки агентов. Наполеон в бешенстве клял Фуше «мерзавцем». И Фуше сказал тогда замечательную фразу: «Возможно, я принадлежу к мерзавцам, но к жертвам – никогда». Вот и я тоже… запасся. Так сказать, сохранил личный архив. – И добавил мрачно: – Не бойтесь, вас не трону… пока. Ну, допрашивайте.
Мои вопросы были о влиянии Распутина.
Он отвечал все так же насмешливо:
– Никакого влияния не было и быть не могло. Что же касается бесконечных ссылок в письмах царицы на пророчества Распутина, то Александра Федоровна была хоть и психопатка, но интуитивно хитра. И когда хотела чего-то добиться от несчастного царя, объявляла свое желание… предсказанием Распутина! Причем сама в это верила… На другой распространенный вопрос отвечаю: Распутин с ней не спал. Была она уже немолода и, главное, худая, а Распутин, как все мужики, любил очень пышных… Да вы и сами отлично все это знаете, так что непонятно, зачем меня вызвали!..
Когда его уводили, он повторил:
– Ишь как обернулось! Вчера я вас хотел допросить, а сегодня вы меня допросили. – И, засмеявшись, старый дьявол добавил: – Я вас еще раз предупреждаю: впереди у нас «завтра».
И ведь как в воду глядел!
Октябрьский переворот… Большевики окружили Зимний. Я до конца находился во дворце, сидел в маленькой беломраморной зале заседаний правительства вместе с министрами…
Помню этот приближающийся человеческий рев, топот… В распахнувшуюся дверь ворвались скопом… Толпа. Вперед вынырнул типичный интеллигент в пенсне и в какой-то романтической оперной шляпе с широкими полями. Встал перед столом, вынул из кармана лист бумаги и, близоруко щурясь через пенсне, торжественно прочел: «Именем Революционного Военного Совета Временное правительство объявляется низложенным».
Восторженный рев и гогот солдатни, набившейся в комнату.
Я сидел совсем рядом с ним. И когда он опустил исторический лист, увидел, что это была… ломбардная квитанция.
Тогда еще не вошло в обычай тотчас расстреливать. Солдатня повела нас в ту же Петропавловскую крепость. По дороге нашу процессию по ошибке трижды обстреляли. Спасаясь от пуль, мы падали прямо в октябрьскую слякоть. Можно представить, в каком виде я вошел в камеру…
В камере на койке сидел… он!
Он засмеялся:
– А я вас давно поджидаю. Вот и пришло «завтра»… Стоило тратить вам теткино состояние… Столько миллионов ухлопать на Революцию, чтобы в конце концов попасть сюда. А я ведь собирался посадить вас совершенно бесплатно…
Уже на следующий день его, руководившего сыскной полицией Империи при трех императорах, отправившего на виселицу множество революционеров, начиная с террористов народовольцев и кончая большевистскими боевиками, эти же большевики выпустили из тюрьмы «в связи с преклонным возрастом»!
Видимо, кому-то из очень влиятельных большевиков пришлось постараться… Что делать, немало нас, революционеров, были тайными невольными и вольными его сотрудниками. Так что не один я боялся его архива.
Уходя на волю, он сказал мне:
– Желаю вам счастливого завершения вашего романа с Революцией.
Его освободили, а мне, несмотря на все заслуги перед Революцией, пришлось бежать из крепости.
И вот мы встретились в третий раз. Любит русский Бог Троицу.
Будто мучая меня, он вновь снял занавеску.
Теперь каждый день, перед тем как лечь спать голодным, я наблюдал в бинокль, как старик варил еду на маленьком костерке, разложенном на кухне.
И потом медленно ел.
Но вдруг он перестал появляться на кухне.
Прошло несколько дней, а он не выходил… Между тем в бинокль я разглядел на столе разложенную картошку. Много картошки. И белый хлеб, и сахар! Будто знал, что смотрю, будто нарочно мучил меня. Как мучил всю жизнь!
Ужасная мысль окончательно завладела мною… И я решился.
Я, сын князя В-го, потомок Рюриковичей, товарищ министра юстиции Временного правительства… решился обокрасть и, возможно, убить бывшего вице-директора Департамента полиции генерал-адъютанта свиты Его Величества графа Андрея Андреевича Кириллова.
Мы все превратились в первобытных людей… Голод, проклятый и постоянный голод, может сделать с человеком все!
Весь вечер я провел у окна, но старик опять не вышел в кухню… Было три варианта: он ушел… или тяжело заболел… или умер…
Я запасся веревкой и обычным кухонным ножом. После полуночи вышел из дома, вошел в его подъезд. Поднялся к квартире. И приготовился бороться с замками… Как это делать, я плохо себе представлял. Для начала с силой надавил плечом на дверь, и, к моему изумлению, она распахнулась!
Дверь была не заперта.
Он лежал мертвый на кровати в гостиной. Одет был в великолепную фрачную пару.
На тумбочке были сложены ордена. На столе – открытая бутылка шампанского, рядом – пустой хрустальный бокал. Из хрусталя он выпил последний свой напиток…
К бокалу было прислонено письмо.
«Алексею Федоровичу Вол-му (надеюсь, в собственные руки).
Милостивый государь Алексей Федорович!
Как я и предполагал, вы меня навестили. Думаю, с ножом, а то и похуже – с топором под пальто, как и положено русскому либералу в трудных обстоятельствах. Впрочем, родственник ваш Федор Михайлович Достоевский все это описал в приятном образе господина Раскольникова и еще в «Бесах», к сожалению, не столь популярных в нашей Расее. Как и положено тупым мерзавцам, мы (вы) их не поняли…
Честно говоря, думал – даже надеялся, – что вы придете пораньше. На вашу кровавую помощь надеялся. Но так как отправить меня на тот свет вы колебались (это у вас, интеллигентов, в крови – перед преступлением колебаться), решился сам предпринять давно желанное мной путешествие. Опять же, говоря цитатой из вашего родственника: «Свой билет на вход спешу возвратить обратно».
Уходя из жизни, оставляю вам ордена и фамильные драгоценности, каковые не успел обменять на хлеб насущный…
(Далее все аккуратно перечислялось).
То обстоятельство, что большевички столь успешно выполнили первую часть пожелания Христа – «Раздай все свое богатство нищим», означает, что и вторую часть – «Следуй за мною» – они непременно выполнят… (Честно говоря, я не понял, что он хотел сказать этой фразой… Может быть, имел в виду «Следуй за мною на крест?»).
Так что мой вам совет: воспользуйтесь как можно быстрее оставляемым вам наследством и как можно быстрее бегите прочь из нашей «несчастной, немытой», где дикий человек с кистенем вышел на свободу. Но состояние свое оставляю вам с рядом условий. И вы их выполните, коли вы честный человек. Впрочем, насытившись – я уверен, – станете честным. Сытый всегда честен. Точнее, «Когда он стал сыт, он стал честен». Пункт первый. Секретный дневник нашего с вами знакомца Государя императора Александра Второго и принадлежащие ему «смелые» рисунки лежат в весьма прозаическом месте – у меня под кроватью.
Как все это попало ко мне, прочтете в записке, вложенной в дневник…
Рисунки непременно уничтожьте. Дневник оставьте себе.
Надеюсь, прочитав его, вы лучше поймете, как случилась с Россией великая катастрофа, которой мы стали свидетелями… точнее, участниками, а вы даже в какой-то мере основоположником.
И наконец, второй пункт и главный.
Вы отправитесь на квартиру господина Исакова (следовал адрес). Это канцелярист, служивший прежде в Синоде. Нынче он работает у большевиков в Совете народных комиссаров делопроизводителем. Доверять ему абсолютно можно. Он передаст вам некую фотографию. На ней изображено подлое завершение Истории Великой Империи. Фотография эта хранилась в ЧК, ее выкрал мой агент, ставший нынче у новой власти большим чином… Фотографию следует отвезти в Данию вдовствующей Императрице. Ее императорское Величество Мария Федоровна живет на родине в Копенгагене.
Покинуть Большевизию и любимые пепелища вам поможет некий финн, с которым вас сведет господин (товарищ) Исаков. Финн – большевик с основания их партии, власть ему совершенно доверяет. Сей мерзавец переправляет людей за драгоценности. Передадите ему бриллиантовую диадему, кольцо с изумрудом, два кольца с бриллиантами и все ордена. Такая цена за вашу отправку с ним согласована.
Когда увидите Императрицу, передайте ей нижайший поклон от верного слуги Андрея Кириллова… Бедная женщина… Надо знать ее характер, чтобы понять, что она пережила. Что ж, Господь показал властной жене самого властного императора истину слов Святой книги. «Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, – говорит Господь».
Если бы выбить это на королевских дворцах! Засим прощайте.
Покойник Кириллов».
Под кроватью покойника лежал грязный мешок. В нем под лохмотьями я обнаружил тетради с золотыми обрезами, исписанные столь знакомым мне мелким, бисерным почерком Государя Александра Второго, и аккуратно уложенные в папку порнографические рисунки. Думаю, что рисовал их для царя Зичи модный тогда придворный живописец…
В первой тетради нашел вложенную гаерскую записку покойника Кириллова: «Сей секретный дневник Государя Александра Второго был успешно похищен мною два часа спустя после смерти убиенного Государя при следующих обстоятельствах.
По повелению нового Государя Александра Третьего был привезен в Зимний дворец художник господин Маковский для снятия портрета с покойного. В это время супруга убиенного Государя светлейшая княгиня Юрьевская удалилась сменить пеньюар, запачканный кровью Императора. Сам же господин Маковский, установив мольберт, выяснил, что для его труда света в комнате недостаточно. И отправился позвать лакея – поднять шторы на окнах. Именно тогда мне, оставленному в совершенном одиночестве, представилась возможность забрать из секретера Императора эту рукопись, о существовании которой мне было хорошо известно и которую я не раз тайно читал.
Тогда же забрал я «смелые» рисунки.
Самое удивительное: проходя мимо тела Государя, увидел… улыбку на его лице.
P. S. Следует ли издавать этот дневник, написанный для узкого круга? Не знаю. Уверен в одном: все исходящее от Верховной Власти не должно пропасть. Но коли дневник Государя будет предан гласности, следует сделать следующее примечание от моего лица:
«Все эти годы вверенная мне служба осуществляла слежку за представителями семейства Романовых. Делалось это в целях безопасности Династии и Империи. Сия задача облегчалась семейной традицией. Почти все члены царствующей династии вели дневники. Хотя этот секретный дневник Государя был при его жизни мне не известен, но копии записей в дневниках Великих князей я ежедневно получал через внедренную мной агентуру.
(Об этой деятельности секретной службы был осведомлен Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев.)»
Я не собирался выполнять пожелания человека, мучившего меня всю мою жизнь.
Я попросту перетащил мешок с дневником, продукты и драгоценности к себе, оставив мертвеца лежать на диване.
Однако насытившись, я… снова стал человеком. Кириллов оказался прав.
Уже утром у меня появилась навязчивая идея. Стало казаться, что Господь даровал мне хлеб… чтобы вернуть человеческое. Недаром избавил меня от убийства. И что самое удивительное: панический страх, в котором я провел эти два года, пропал…
Короче, я начал выполнять все, о чем он просил.
Я сделал даже больше. Похоронил его в том самом великолепном фраке, который наверняка без меня с него содрали бы, украли! И оплатил похороны теткиным колье и золотым портсигаром, подаренным мне когда-то Государем Александром Третьим в бытность его Цесаревичем.
Секретный дневник Александра Второго я начал читать, вернувшись домой. Точнее, я хотел просмотреть его, но оторваться не мог. Хотя читать было мучительно, даже с лупой – так мелок его почерк.
С первых страниц стало ясно: это не дневник. Это отрывочные записи, сделанные Александром для себя.
Как правило, он писал после каждого покушения на свою жизнь…
Некоторые из записей он собирался уничтожить. Но не успел.
В этом дневнике, созданном на Олимпе, конечно же, не было и следа моего ничтожного существования. Но зря! Ведь я не просто жил… я стал участником интриги, погубившей Императора. Началом катастрофы – землетрясения, которое и поныне сотрясает весь мир.
Вот почему мне показалось забавным соединить дневник царя со своими муравьиными воспоминаниями…
Тем более что погибшая Империя воистину стала Атлантидой.
Дневник Императора и мои записки нынче звучали голосами со дна.
Целый месяц я не выходил из дома!
Дневникъ императора Александра II. Первое покушение
(Переведен с французского. Разъяснения в скобках, выделенные курсивом, и заглавия – мои.)
5 апреля 1866 года
Случилось! Великий грех! И это выпало на мою долю.
Позорный день начался как всегда. Проснулся обычно – в шесть утра… Последние дни просыпаюсь не в настроении. Подумать странно… Скоро полвека! Совсем стариком делаюсь… Кто первым уступит возрасту – разум или тело?.. И если мозг ослабеет раньше, чем желудок и ноги, сам ты этого не поймешь!
Помню, первая мысль о смерти сразила меня в одиннадцать лет… Был день моего рождения, и вдруг я понял, что эти одиннадцать лет – может быть, шестая или даже пятая часть моей жизни. Еще каких-то пять-шесть таких частей – и меня не будет… Как я рыдал тогда! Однако сегодняшним утром проснулся непривычно радостным. Знал: на прогулке в Летнем (саду) непременно встречу её…
Встав, каким-то странным взглядом постороннего оглядел свое жилище, будто чувствовал, что, возможно, не увижу всего этого больше… Среди бесчисленных комнат выбрал для себя эту, небольшую, с видом на Адмиралтейство. В этой комнате при отце я провел юношеские годы. Став Императором, решил в ней остаться. Она служит мне сразу и кабинетом, и спальней.
Большой стол, на столе – фотографии семьи. Милые лица смотрят на меня, когда работаю. Колонны с занавесью отделяют кабинет от походной кровати, на которой я сплю. На такой же кровати спал отец… Он говорил: «Россия есть государство военное, и её Император должен спать на походной постели».
Пришел Адлерберг (министр двора). Сообщил, что картины выставлены в Гербовом зале.
Это парадные портреты нашей Семьи, сосланные предками по разным причинам в дворцовый подвал. Некоторые полтора столетия прозябали в темноте. И сейчас к десятилетию моего царствования я придумал устроить в Эрмитаже выставку этих опальных портретов.
После ухода Адлерберга тотчас вызвал Дюваля… Дюваль – отцовское наследство. Искалечил ногу во время Крымской войны. Отец пригрел его во дворце и сделал дворцовым комендантом.
– Вечером после чаю привезете княжну.
– В ту комнату, Ваше Величество?
Я сделал строгое лицо. И он потерялся.
Я пояснил:
– Вместе с княжной я буду смотреть картины в Гербовом зале.
Бедный Дюваль… Он не понимает моих отношений с этой безумной девушкой… точнее, безумных отношений с безумной девушкой.
За походной кроватью – потайной ход в ту комнату на третьем этаже, куда обычно старина Дюваль приводит…
Дюваль молча положил передо мной письмо. Сашенька Д. просила дозволения увидеться… Начал думать, как избежать. Но оказалось поздно:
– Ваше Величество, она уже… ждет… в той комнате.
Фрейлина Сашенька Д. считается красавицей. Хотя когда на нее никто не смотрит, с изумлением видишь, как же она нехороша! Долговязая, безгрудая, бледная, тусклая кожа… Но стоит ей заметить ваш взгляд, вмиг волшебно преображается: нежный румянец начинает играть на щеках, движения приобретают опасную кошачью грацию, стан призывно изгибается – это зов божественной плоти… Вы околдованы, вы в ее власти… И в постели… (далее заботливо вымарано).
…Мир фрейлин – это мир в миниатюре. Бесконечно нежничая друг с другом, они по-женски, то есть беспощадно, ненавидят друг друга. И если дружат, то обязательно против кого-то. Сашенька не дружит ни с кем… Освободившись от страсти, начинает рассказывать… естественно, о других фрейлинах. Нет-нет, она никогда никого не ругает, она хвалит! Но, боюсь, сам дьявол был бы доволен подобными похвалами… Как же остроумно она их всех уничтожает… Блеск, фейерверк гибельного острословия! Она прекрасная актриса… Помню, на следующий же день после того, как у нас все случилось, она сумела объявить двору о своем новом положении. Моя вечно грустная Маша сидела, окруженная остальными фрейлинами, листала какую-то очень ученую книгу, когда я вошел. И Сашенька… тотчас упала в обморок. На лице – ни кровинки, клянусь… Я бросился помогать. Когда поднимал, прошептала, но слышно: «Милый».
Маша была на высоте – преспокойно продолжала листать книгу.
Завершение нашей встречи обычно бывало одним и тем же. Наградив последним поцелуем, она всегда переходила к главному – горделиво и мрачно рассказывала про свои «затруднения». Она ненасытно корыстолюбива…
Так что роман окончился довольно быстро. Единственный способ без последствий оставить опасную женщину с таким опасным языком – дать ей возможность считать, что бросила тебя она сама… Как и положено, состоялся брак Сашеньки с моим генерал-адъютантом. Написал ей необходимое письмо о моей любви и о том, как опустел для меня дворец после ее ухода… Но совсем закончить она не позволила. Встречаемся изредка.
Я пришел в ту комнату… Все было как обычно.
Она:
– Прости, что пришла ни свет ни заря… Он безумно ревнует, и утро – единственное время… Не могу без тебя. Ну иди же!.. Иди же!..
Ее губы… (далее текст вычеркнут).
Спросила насмешливо:
– До сих пор не зарезал ягненочка?.. Могу помочь. Я ведь её дальняя родственница. Интересно, о чем можно говорить с дурой? Впрочем, зачем говорить в постели, если хороша… и молода… Только старайся не смотреть на нее в профиль, у нее в профиль нос крючком… Нет-нет, все равно хороша!
А то, что глупа, – это даже лучше…
Оделась, уже в дверях, между прочим:
– Пришлось купить новый выезд… Погляди, любимый, мои векселя… коли тебе не затруднительно… Я их оставлю на камине…
Зачем? Зачем я веду этот дневник… воистину опасный?
Зачем вела свой грешный дневник бедная Елизавета (Императрица, жена Александра Первого)? Ее называли «воплощенный ангел». Но любвеобильный дядя почему-то ее не любил.
И я… тоже почему-то рано охладел к моей красавице Маше… Смешная пошлая фраза, которую кто-то написал прямо на стене в казарме измайловцев: «Почему нам так нравится чужая жена, если у нас есть своя?»
Но повторю свой вопрос: зачем я все это записываю… если намереваюсь сжечь?
Чтобы, записывая, переживать вновь… те грешные и сладкие минуты!
Этот ужасный день продолжился необычно.
В девять часов приехал фельдъегерь из Мраморного дворца. Привез записку от жены Кости (Великого князя Константина Николаевича, младшего брата Александра Второго). Таинственную, в ее стиле.
Великая княгиня кланялась и просила «по возможности, но не откладывая (?!) принять ее». Она должна немедленно сообщить «важнейшую новость».
В последнее время моя Маша и вся родня помешались на спиритических сеансах. Но Костина жена, пожалуй, больше всех. Как только духи сообщают ей что-то, она шлет ко мне курьера… Костю это приводит в бешенство.
Обычно не обращаю внимания на ее безумства, чтобы не сердить Костю… Но в это утро почему-то решил откликнуться и по дороге в Летний сад заехать к ним.
Написал Косте, что сегодня его обычный доклад в моем кабинете отменяется и я сам приеду к нему в Мраморный дворец к двум часам (Костя руководит Морским ведомством и докладывает мне дважды в неделю).
Далее утро ужасного дня шло как всегда.
Отправился пить кофей с Машей.
Маша, как теперь всегда, нездорова…
Как она была прекрасна! Молодая Маша – все у нее было вперемежку: смех и слезы, благоразумие и сумасбродство, немецкая мелочность и расточительность, доброта и постоянное желание подтрунить над ближним… Но главное – она великолепно исполняла долг Императрицы… Как с солдатской прямотой говорил Бонапарт дяде Александру: «Ебать надо итальянок, но жениться только на немках и австриячках. Плодовиты, как крольчихи». Маша рожала исправно, слава Богу. И все больше мальчиков… восемь детей. Но двое умерли… Умерло и наше счастье – наследник Никс…
В последнее время проклятая легочная болезнь её съедает. Но чувство юмора… На днях сказал ей обычное: «Сегодня прекрасно выглядишь, милая».
Она ответила с улыбкой: «Я прекрасно выгляжу, мой друг, но все больше для анатомического театра… Скелет для занятий, густо покрытый толстым слоем румян и пудры».
А я… я… Полон жизни!
Вошел к Маше, когда вешали новую икону.
Окна зашторены, горят свечи… Весь ее кабинет завешан иконами. Помню, в Крымскую войну, когда ломал голову над тем, как спасти осажденный Севастополь, Маша тотчас нашла лучший выход: ехать в Троице-Сергиеву лавру и поклониться нетленным мощам святого преподобного Сергия Радонежского. Мощи умершего четыреста лет назад должны были отстоять Севастополь.
…И мы поехали в Сергиевский Посад. В соборе был отслужен длиннейший молебен… После чего прикладывались ко всем древним иконам и мощам святых, которых оказалось превеликое множество… Я еле держался на ногах, но Маша была неутомима… Просила везти нас в пещеры. В пещерах встретил юродивый – с опухшим от водянки лицом и мутным взглядом. Он выкрикивал что-то безумное.
Но Маша и после этого не сдалась. Оказалось, главное было впереди. После полуночи повлекла меня в древнюю церковь, тускло освещенную лампадами. Мы долго молились у раки с мощами преподобного Сергия.
Сам Митрополит уже спал, поверженный усталостью, и молитвы о даровании нам победы читал его наместник.
– Слава Богу, истинно православная Государыня, – шептал, провожая нас, митрополит.
Все думаю: с какой охотой и как быстро немецкие принцессы превращаются в России в теремных цариц.
К сожалению, Севастополь мы тогда потеряли.
Бедная, бедная Маша! На днях пришел ко мне доктор Боткин – «поговорить откровенно»… Долго мялся, потом объявил, что Маше из-за легочной болезни опасно рожать и… потому ей не следует более «выполнять супружеские обязанности»…
Я не стал объяснять, что мы их уже давно не выполняем. Возможно, потому с такой страстью она отдается благотворительности, церкви… и спиритизму! Мы говорим теперь только о духах и Боге… И каждое утро она читает мне вслух «любимые места из Евангелия», где, как правило, осуждается прелюбодеяние.
В утро ужасного дня за кофеем был все тот же разговор о прелюбодеянии.
– Ты должен навести порядок в семье. Костя (все тот же Великий князь Константин Николаевич) открыто живет с балериной. Весь Петербург знает об этом. Поговори с ним серьезно. И, конечно, с нашими молодыми… У балетного училища постоянно дежурят кареты молодых Великих князей. И под руководством Николы (сына великого князя Константина Николаевича) высматривают. Ты знаешь, я люблю Николу… но императорский балет все больше походит на гарем. И публика в курсе… Толпа видит в театре те же обнаженные тела, которые ночью ласкают твои родственники. Толпа допущена к ложу Династии!..
Прежде она не была так нетерпима. Но теперь… Я отлично понимаю, почему столь гневен ее монолог… И она не захотела скрывать. Вдруг сказала:
– И ты… слишком полюбил Летний сад.
Сдержал бешенство, молча допил кофей.
Да, и прежде она ревновала. Но никогда не позволяла…
Почувствовала мое бешенство. Злые губы тотчас исчезли, одно лазоревое сияние – дорогие «всепрощающие глаза».
Кутается в любимую черную шаль… Обожает ворон, называя их самыми умными птицами. Если верить в переселение душ, она была…
И вдруг – острая жалость к ней, к нашей прошедшей невозвратной жизни. Я поцеловал ее. Она поняла.
– Все хорошо, – сказала и погладила меня по голове.
Глаза у меня поневоле наполнились слезами.
Она:
– Не забудь, сегодня вечером у меня будет сеанс…
– Конечно, приду, хотя сама знаешь, я не одобряю этих занятий.
– Но ведь ты видел – это не шарлатанство!..
– Хуже. Уверен, милая, что все это проделки лукавого. И с нами беседуют отнюдь не души тех, кого мы вызываем, но те, кого святой Августин именовал «духами лжи». Иметь с ними дело – большой грех…
Она засмеялась:
– Но это так интересно.
При ее пылкой религиозности – подобные греховные увлечения? Вот уж действительно – тайники души. Но могу согласиться – это не шарлатанство. И я сам был тому свидетелем.
На днях в Золотой гостиной поставили небольшой круглый столик в центре… Мы все чинно расселись вокруг в полутьме, положив на стол руки. Горел только один канделябр…
Этот Юм (Юм – известный французский спирит) – малорослый французишка… Как только началось, он совершенно преобразился – глаза загорелись фосфоресцирующим блеском… Глядя на жалкого французика, становящегося на глазах вещей пифией, невозможно представить, что он шарлатан… Причем вскоре явственно раздались стуки! И стол, на котором держали руки, начал вдруг подниматься и шаловливо наклоняться то вправо, то влево. Но при этом предметы на столе не двигались и пламя свечей не колебалось. И я почувствовал в ногах… дуновение ледяного замогильного холода.
Что это? Игры духов? Но почему духи заняты такими жалкими фокусами?
И почему ни один из них не предупредил вчера о важнейшем – об ужасе, который ждал меня через несколько часов?
Прийти на сеанс не удалось… Через несколько часов будет проклятый выстрел, и мне станет не до спиритов.
А тогда доложили, что приехал Саша…
Вошел Саша… Цесаревич! Огромный, неуклюжий, с выпадающим животом… Боюсь, на наших лицах с Машей, как обычно, не было особого восторга.
Мы с Машей перед ним виноваты. Мы стараемся любить его, и Саша того заслуживает… Но не можем. А ведь Саша – славный. Никс, умирая, сказал мне: «Берегите Сашу, он добрый».
Никс!.. Никс… Мой старший, блистательный сын умер совсем недавно…
Я, моя сестра Маша (Великая княгиня Мария Николаевна), брат Костя – мы все назвали своих первенцев Николаями – в честь отца.
И чтобы как-то различать, в Семье их звали по-разному. Моего – Никс, Костиного – Никола, сестриного – Коля.
Бедный Никс… Бедная жена. Думаю, после смерти Никса что-то окончательно умерло между нами…
Никс был красив, добр, великолепно скакал на лошади. Все ему давалось легко. Правда, иногда ленился. Помню, ему было десять, он не хотел учить языки. Я сказал:
– Ваш дед, наш Император очень обеспокоен вашей ленью. Он велел спросить Вас: «Как Ваше Высочество собирается в будущем беседовать с послами?»
– У меня будет переводчик!
– Тогда над вами, друг мой, будет смеяться вся Европа.
– Да? Тогда я пойду на нее войною, – к восторгу деда ответил Никс.
И через месяц блестяще говорил по-французски!
Огромный, неуклюжий Саша обожал Никса. На балах бедный Саша никогда не танцевал – стеснялся своего тела. Я пытался заставить, но он упрямо спасался в углу среди стариков. И оттуда, я видел, он влюбленно смотрел, как танцевал Никс. Да и все влюбленно смотрели на моего Никса…
Зато Саша обладает нечеловеческой силой… Мальчиком смеясь гнул подковы. И глядел на Никса, выпрашивая одобрения. За этот постоянно добродушный взгляд и толстую физиономию при дворе его шепотом звали Мопсом.
Я строго запретил, но он не обижался. Сам он называл себя «исправным полковым командиром». Как и его дед, он обожает маршировку, но так нехорош в строю и на лошади!.. К тому же мой гигант избегает любимых забав нашей знати. И случилась история. Я всегда брал Никса на «потеху» – охоту на медведя. Будущий Государь воинственной державы должен быть смелым охотником… И однажды Саша увязался с нами.
Он обожал быть там, где Никс!
Медведя выследили егеря. После чего пожертвовали коровой. Пустили гулять бедняжку по полянке. Косолапый вышел из чащи… Огромный попался зверь… Шел на задних лапах – совсем человек… Тут Никс и прошептал шутливо: «Саша, а ведь он на тебя похож».
Задрав корову, медведь утащил ее в низину, в чащу, заросшую ельником. Там хлюпал, причмокивал, чавкал – ел совсем как… Саша! Насытившись, ушел в глубь чащобы, хозяйственно забросав остаток растерзанной туши ветками. Вот метрах в двадцати от туши мы и устроили лабаз из жердей. Насытившийся медведь далеко не уходит, ложится где-то рядом со спрятанной добычей… Мы сели в засаду в лабаз – я, Никс и Саша… Стали ждать… Ветки с деревьев вокруг лабаза я велел заранее срезать, и остатки туши, припрятанной медведем, были теперь хорошо видны. Егерям приказал отойти подальше от нашего укрытия, чтоб была охота, а не убийство.
Все должно было случиться ночью, когда зверь вернется жрать добычу. Перед тем как вновь подойти к туше, медведь обходит вокруг места своего пиршества, чтобы убедиться в безопасности. Но волнующий запах падали мешает ему чуять сидящих в засаде.
На этот раз все было как положено.
Хруст веток – появился!.. Мгновенно я зажег факел, привязанный к стволу. Теперь я видел его. Выстрелил… Ранил, он заревел и прыжками – на меня! Прицелился… осечка. Он уже совсем близко. В свете факела яростные глаза… клыки… И тогда мой Никс выскочил вперед. Выстрелили мы почти одновременно. Медведь заревел, остановился… сделал еще шаг, обмяк, рухнул… Из чащи бежали на помощь егеря с собаками.
Сашу я нашел в лабазе. Он плакал. Я был в ярости. Только потом понял – он не из трусости. Это потому, что медведь похож на него, – ведь так сказал Никс. И еще мой гигант не выносит вида крови. Его увлечение – рыбная ловля.
Вся беда в том, что Сашу не воспитывали для трона… Как воспитывали для трона меня и младшего брата Костю. Отец сказал нам: «Если кто-нибудь из вас, шалопаев, выкинет фокус – вздумает умереть, команду примет другой».
В результате маленький Костя придумал соперничать со мной – он мечтал о троне.
Чтобы избежать того же в нашей семье, Маша решила воспитывать сыновей по-другому. К престолу готовили одного Никса. Сашу учили скверно. Мой милый Мопс до сих пор пишет с грамматическими ошибками. Повторюсь, он всегда и во всем пытался подражать брату. Никс был постоянно влюблен. Бедный Саша решил тоже влюбиться. Но Никс каждый день влюблялся в другую. Саша так не умел, он влюбился навек в княжну Мещерскую. Она, конечно, само очарование. Я сам был во власти ее чар… И у нас с ней остались некоторые отношения.
Она тотчас мне сообщила, что бедный Саша подкупил её служанку – и получил в собственность ее старую туфельку. Теперь хранит ее в своем секретере… В довершение негодница, смеясь, сказала, что Саша… решил на ней жениться. Правда, пока объявил об этом только… ее служанке! Тон был игривый, но глазки вопрошали серьезно… Я понял, что красавица после немалых любовных приключений не прочь выйти замуж за сына Императора. Это уже было не смешно, зная ужасное упрямство Саши.
Я строго велел плутовке перестать кокетничать с бедным сыном.
Проверил его секретер. У него в секретере – необыкновенный порядок. Среди аккуратно разложенных бумаг лежала женская туфелька.
Позвал его. Состоялся разговор, который так напомнил мне мой давний разговор с отцом.
– Я женюсь, это дело решенное, – сказал Саша.
– И она знает о решенном деле?
– Нет, пока стесняюсь ей сказать. Но я люблю ее.
– Прекрасное чувство. Надеюсь, ты понимаешь, что за всем этим последует?
– Конечно. Я решил отказаться от всех своих прав. Я намереваюсь, отец, перестать быть Великим князем. Я уже заготовил бумагу.
– Уже?
– Уже! С отказом от прав!
– От прав отказаться нетрудно. А вот как насчет обязанностей, дорогой сын? Волею Господа с рождением ты получил не только титул, но и обязанности. И если не дай Бог с братом что-нибудь случится, величайший престол будешь наследовать ты… Так что запомни раз и навсегда: ты, как и я, как и твой брат, мы все не имеем никаких прав, но только обязанности. Перед Господом и великой страной. Самое большое, на что мы имеем право, – гостинные интрижки, тайные страсти! – И я подытожил: – Разве я сам на престоле по доброй воле?.. Ступай! Княжну завтра же отошлют. Наш разговор окончен!
В тот последний день пребывания княжны Мещерской во дворце все и случилось…
Во дворец приехал сын моей сестры Коля Лейхтенбергский…
(Коля Лейхтенбергский – сын Великой княгини Марии Николаевны, родной сестры Александра Второго, и герцога Лейхтенбергского, сына Евгения Богарне – пасынка Наполеона… Так что в постели Марии как бы примирились давние враги.)
В это время мой Никс увлекался борьбой. Я тоже люблю борьбу – и мы с ним часто шутейно боролись. Оказалось, и Коля Лейхтенбергский увлекался борьбой. Никс немедля предложил ему схватку. Сказал Саше: «Побью француза! Устрою ему Бородино!»
Сразиться решили в Белом зале, на виду у мраморных богов. Саша пришел зрителем. Мой миролюбивый гигант не жалует не только охоту, он не любит и драку.
Я тоже пришел посмотреть на забавы молодежи.
Принц знал приемы. Но мой красавец Никс был ловок и смел. Сначала, правда, оба осторожничали, но вошла красотка Мещерская… Дворцовая полиция сообщила мне – негодяйка, конечно же, кокетничала с Никсом тоже…
Так что все тотчас преобразилось. Два самца, разгоряченные ее присутствием, начали драться всерьез… Наконец Никс поймал тезку на прием и ловко бросил на пол…
Саша с постоянной глуповатой улыбкой горячо зааплодировал – он гордился братом!
Коля Лейхтенбергский был в отчаянии. Я понял: нужно убрать раздражитель – и отослал княжну к Маше. Мальчики остались одни.
И тогда Никс придумал продолжить – доказать превосходство приемов борьбы над грубой силой. Он знал, что Саша драться ни за что не согласится. И решил действовать внезапно. Подозвал брата и в мгновение лихо захватил его шею – это был верный болевой прием… Но мой гигант, не ощущая боли, распрямился. Бедный Никс полетел в сторону – и со всей силы ударился об угол мраморного стола. Это был стол Бонапарта, государь Александр Павлович привез его из Тюильри после победы…
Наполеон отомстил через столетия – страшный удар о наполеоновский стол пришелся в позвоночник Никса.
Через пару недель к Никсу приехала невеста – принцесса Дагмар. Мы выбрали в невесты Никсу очаровательную дочь датского короля. Она некрасива, но очень мила и была совершенно влюблена в него… Она чем-то похожа на мою Машу, хотя Маша высокая, а Дагмар – кроха… Сходство в глазах. У Дагмар – тот же всепрощающий взгляд, который и должен быть у наших жен. Жен пылких мужчин из дома Романовых…
Дагмар хорошо скачет на лошади. Через несколько дней я устроил в ее честь охоту на лис… Никс привычно весело вскочил на лошадь, и тут лицо его искривилось от боли. Я спросил, что случилось, вместо ответа он пришпорил лошадь… Но вскрикнув… чуть не свалился с коня, с трудом усидел в седле. С тех пор он начал меняться на глазах – похудел, стал горбиться при ходьбе. Я, глупец, сердился, выговаривал, что «ходит стариком»…
И вскоре доктор Боткин пришел ко мне в кабинет…
Оказалось, от того удара развилось самое страшное – костный туберкулез. Чтобы не травмировать бедного Сашу, ему сказали, что Никс ударился во время борьбы с Колей Лейхтенбергским…
Правда, меня никогда не покидает несправедливая мысль: не было ли в этом жестоком броске моего гиганта скрытой, неосознанной ненависти к моему красавцу? «Брат мой – враг мой!»
Никса отправили лечиться в Ниццу… Ему становилось все хуже. Вскоре я получил телеграмму. К туберкулезу добавилось заболевание мозга. Дни Никса были сочтены, Саша отправился к нему… Я послал депешу в Копенгаген, и его невеста Дагмар тоже выехала туда.
Отправились в Ниццу и мы – всей семьей. Ехали с одной мыслью – приведет ли Господь застать его в живых?
Перед отъездом молились в Казанском соборе, чтобы Он дал нам увидеть сына… Летели на поезде с небывалой скоростью – в три дня и три ночи прибыли в Ниццу, так быстро никто не ездил. На перроне встречало множество русских с заплаканными лицами… Никса любили все.
Мы подъехали к вилле Бермон. Я вошел в его комнату, за мной Маша… Наш красавец лежал… с веселым лицом. Точнее, с веселой улыбкой на восковом лице… У кровати стояли Дагмар с матерью и мой гигант Саша.
Маша бросилась к нашему мальчику, Никс всех нас перецеловал.
До конца он был в памяти… Ночью у него сделался замечательный бред – он обращался к русскому народу с удивительными речами. Цитировал латинские изречения о долге самодержца и долге народа. Я клял себя потом, что не распорядился все это записать.
На исповеди он сказал, что чувствует за собой главный грех – недостаток терпения, грешное желание поскорей умереть.
Когда вошла Дагмар, сказал шутливо:
– Не правда ли, папа, она у меня милашка? – Так он пытался нас всех развеселить.
Уже завтра в шесть утра к нам прибежал его воспитатель граф Перовский:
– Кончается!
Никса рвало от мускуса. Дагмар, стоя на коленях, вытирала ему подбородок. Он держал ее руку. Рядом с ней стоял Саша.
Он сказал мне:
– Папа, берегите Сашу, он такой честный, такой хороший человек… – И обнял его голову одной рукой, а другой взял руку своей несостоявшейся жены. И вложил ее в ладонь брата. Потом говорили, что это придумали, – нет, это правда. Он все понимал про брата… и про нее.
Потом сказал доктору Боткину, кивнув на мать:
– Позаботьтесь о ней хорошенько, прошу вас…
Это была последняя его фраза. Я держал его руку, пока он уходил от нас…
Уже на следующее утро Дагмар сказала мне:
– Я благодарю Бога за то, что застала мое дорогое сокровище в живых. Никогда не смогу забыть последний взгляд, которым он посмотрел на меня… И как он обнял Сашу, который любил его так возвышенно… Для бедняги Саши так тяжело… это печальное ощущение, что он должен занять место своего любимого брата… – И, помолчав, добавила: – Я не могу забыть, как Никс… соединил наши руки! – Замолчала.
Я её понял… Ее маленькая плоть принадлежала не Никсу и не Саше, она принадлежала Наследнику престола… И она, и ее мать не колеблясь всё решили… Вскоре Саша получил от нее письмо. Совершенно счастливый пришел ко мне:
– Она хочет выйти за меня. Она написала: «Мы должны, это его воля!»
(Я так и не понял чья – Господа или бедного Никса.)
И мой гигант залился краской.
– А ты?
– Я только и мечтаю… и молю Бога, чтоб он устроил это дело.
Думаю, мой Саша давно был тайно влюблен… в невесту брата!
Ему нравилось все, что нравилось Никсу.
Вскоре получил письмо и я – от королевы. Она писала о новом браке… как о деле решенном!
Писала: «Жаль, что сейчас я не могу ее прислать к Саше… Не хочу, чтобы в Европе подумали, будто непременно желаю выдать дочь, не упустить случай… Но осенью Дагмар готова приехать… А пока ей нужен покой, она так переживает… Она будет купаться в море, заниматься русским языком и учиться Закону Божьему…»
Приехала Дагмар, и мой Саша от нее не отходил. С тех пор маленькая Дагмар руководит моим гигантом. Без нее он всегда… потерян. Этакий огромный пес, потерявший хозяина. Мой сын должен быть при ком-то, в кого он влюблен. Прежде был Никс, теперь Дагмар… Скоро бракосочетание…
Это жестоко, но не могу полюбить и ее… и его.
Возвратился к себе, оставив Наследника с Машей. По дороге все думал о нас с ней. Мне скучно с мужчинами. Но достаточно войти молодой женщине – я преображаюсь. Маша была все время беременна или отдыхала после родов… И все прелестные фрейлины при дворе… Я воспринимал прелестниц, как облака – нежные и прекрасные, они надвигаются, поражают красотой, чтобы после уплыть, уступить место на небосводе другим облакам… Но постепенно одинаковость их слов, привычек, корысти делала каждый сюжет заранее знакомым. Возможно, оттого забавы становились все изощреннее, греховнее… Пригласил французскую труппу. Для избранного кружка сыграли диалоги из запрещенных творений маркиза де Сада. Каюсь, показали не только диалоги… Но было оскорбительно, когда такие красавицы соглашались… Все мои соратники по забавам остались тогда довольны. Оттого потом долго не мог никого из них видеть.
Несколько раз инкогнито посещал Париж. Там придумали веселые дома с дворцовыми интерьерами. Имперскую роскошь в воображении буржуа. Да и женщины… Помню самую дорогую блудницу. Сложена как Венера… хороша необыкновенно! Далее случилось смешное. Наши дамы ценят грубую силу, ярость в определенные минуты… И когда я привычно забылся… красавица истошно закричала!
– Я была уверена, Ваше Величество, что вы решили меня убить, – сказала потом фарфоровая кукла.
Я чувствовал, что самая страшная русская болезнь – хандра – начала мной овладевать. Стало мучительно жить. Иногда во время доклада министров очень хотелось закричать… закукарекать… или запустить чернильницей!
И вот теперь… опять хочется жить… Я вспоминаю ее блестящие, всегда удивленные детские глаза, и радостно смеюсь!
Сколько же надо прожить… чтобы стать молодым!
Пришел в кабинет – все как обычно: три часа работал сегодня с бумагами. Ворох бумаг на секретере образуется ежедневно. Царство – в полсвета, и хозяйство огромное.
Потом подошел к карте, расстеленной на столе.
Что ж, совсем неплохо смотримся. Завоеванный папа́ (Николаем Первым) и мною Кавказ лежал в подбрюшье Империи… теперь Кавказ весь наш. У границ Китая мы забрали Уссурийский край… И вся территория вдоль Тихого океана наша! Вековая тайга, высоченные кедры, леса, полные зверя… Я заложил там город с искренним названием Владивосток. Да, мы овладели Востоком. На очереди – юг! Окончательно покорив Среднюю Азию, мы продвинемся к самой Индии, к Афганистану и Персии. И англичане не раз с ужасом вспомнят Крымскую войну и то, как они посмели победить папа́. Когда-то Бонапарт предупреждал: будет страшно, если в России «родится царь с большим хуем»…
Еще раз взглянул на карту. Невиданная империя… Шестая часть суши – здесь не заходит солнце… Хотелось нежно гладить карту…
Что ж, царь с очень большим хуем родился!
Пора было ехать на ту ужасную прогулку. Но Адлерберг напомнил про картины… И я пошел в парадные залы поглядеть на них…
Анфилада парадных залов. За окном – Нева… Из окон тянет ледяным ветром. Какое кровавое весеннее солнце. Сверкают золотые блюда, развешанные у дверей зала. Сверкает в окнах шпиль Петропавловской крепости. Сверкают медные каски с золотыми орлами – кавалергарды застыли у дверей. Их поставила сюда сто лет назад прабабушка Екатерина Великая.
Приказы на века – это традиция. В Летнем саду на одной из аллей папа́ все время встречал гвардейца с ружьем. Однажды поинтересовался – что он тут охраняет? Но ни гвардеец, ни его командир точно не могли ответить. Наконец нашелся старик – генерал-адъютант… Он вспомнил рассказ своего отца. Однажды Екатерина Великая пришла в Летний сад и увидела первый подснежник, пробившийся из-под снега. Императрица захотела его сорвать. И попросила, чтоб поставили часового охранять цветок, пока она будет гулять. Так как никто приказа не отменил, полстолетия в этом месте ставили часового. Бисмарк, будучи послом в России, был в восторге от этакой исполнительности.
Вошел в Гербовой зал. Сколько раз вхожу – все равно поражает. Четыре тысячи футов мрамора и хрусталя! В этом зале в Крещенье папа́ придумал устраивать смотр гвардии.
Сейчас вдоль мраморных стен стояли возвращенные мною из подвала портреты предков…
Шел мимо выстроившихся портретов в золотых рамах…
Только сейчас понял: перед грядущим страшным событием Господь давал мне подытожить историю рода…
А тогда, разглядывая опальные портреты, я был полон грешных мыслей – думал о вечере с ней… как покажу ей эти портреты.
Первым у стены стоял парный портрет: великий прапрадед Петр Первый с какими-то беспощадными глазами… Рядом его вторая жена – прабабушка Императрица Екатерина Первая. Какое обилие тела – груди рвутся из корсажа… Видно, рисовали с натуры. И какая судьба!.. Я часто о ней думаю. Представляю убогую комнатушку в доме пастора… У плиты кухарка Марта, дочь лифляндского крестьянина. Как положено хорошенькой служанке, не только стирает, стряпает, стелет постель пастора, но оказывает ему в этой постели необходимые услуги. Костя уверял, что к тому же Марта была… замужем! На ней женился проезжий драгун… Побаловался и уехал воевать. И так и не вернулся к Марте – то ли погиб, то ли забыл о ней. Постарела бы она на пасторской кухне, если бы… Если бы великий прапрадед не начал завоевание Балтики… И далее путь Марты – плен, потом постели победителей. Сначала – графа Шереметева… Далее ее нежное обильное тело укладывается в кровать повыше – к главному фавориту (князю Меншикову). И уже оттуда – в царскую постель… Так что не прошло и года, как кухарка Марта поменяла кровать пастора на царское ложе… Как изменил нравы мой великий прадед. Вместо теремной царицы в его постели спит прошедшая через столько кроватей кухарка! Все понимающая и все принимающая. Петр мог послать к ней на поправку любовницу, которую наградил очередной дурной болезнью. Марта принимала и лечила! Нужно постирать белье во время похода – умела! Все умела! Постирать белье, отправиться на войну, выходить царскую девку… И вот уже великий пращур… великий во всем… великий и в исполнении самых сумасбродных желаний – решает жениться на вчерашней кухарке. И коронует ее Императрицей Всероссийской. Объявиться бы в это время драгуну, законному мужу кухарки-Императрицы!
В честь вчерашней кухарки учреждается орден Святой Екатерины… И этот орден носят и моя Маша, и мои дочери. Не раз я беспощадно рассказывал им все это… Ибо Господь учит нас, правителей, смирять свою гордость. Всегда надо помнить: мы потомки великих царей… но и кухаркины дети!
Я долго рассматривал этот двойной портрет… Говорят, он был очень любим Великим Петром и висел в его спальне… Но сразу после смерти мужа Екатерина Первая отправила портретец в ссылку. Почему? Думаю, ответ прост: прапрабабушка слишком весело правила… И боялась беспощадного взгляда покойного повелителя! От нее осталась приходно-расходная книга… Мой злоязычный умник брат Костя с ней, конечно же, ознакомился. Весело мне рассказывал: фрейлина А. получила столько-то червонцев за то, что осушила залпом целый кубок вина… И тогда фрейлина Б. тоже не сплоховала – выпила два кубка! И ее Императрица наградила. Шло беспрерывное возлияние во дворце! Это чрезмерное поклонение Бахусу закончилось быстрой смертью Екатерины Первой.
Но с безродной служанки началось удивительное Царство Женщин на нашем троне… В стране Домостроя, где любимая пословица… услышал ее от старого камердинера: «Кому нести воду? Бабе! Кому быть битой? Бабе! За что? За то, что баба!» – началось семьдесят лет бабьего царства!
Следующим стоял небольшой прелестный портрет императрицы Елизаветы – дочери Петра. Пратетушка нарисована в профиль… Елизавета была чудо как хороша. Рост великолепный, стройные ноги, и какие соблазнительные формы – высокая грудь, восхитительные плечи! Красивейшая монархиня Европы! Только нос у нее, с точки зрения классической красоты, был простонародно вздернут – в мать-кухарку. Это хорошо видно в профиль… Хотя вздернутый, будто подмигивающий солнцу, носик вряд ли смущал мужчин. Но она желала быть совершенной, оттого этот портрет отправился в изгнание.
…На портрете бросается в глаза весьма волевой, мужской подбородок красавицы. Подбородок отца, нашего беспощадного пращура! Так что, отдаваясь любви, нимфа не забыла о деле. Волевой подбородок требовал действий. И в половине второго ночи по Невскому проспекту поехали сани, окруженные гвардейцами. В санях – наша Нимфа… И вот подъезжают они к мирно спящему дворцу, и наша раскрасавица вместе с гвардейцами входит во дворец! Законную тогдашнюю Правительницу империи (Анну Леопольдовну) пратетушка отправила в крепость… А младенца-императора, повздыхав над его судьбой, – в вечное заточение.
К сожалению, теткину кровь не чувствую. И упрямый подбородок не унаследовал… Я часто в сомнении, в смятении. Я люблю, чтоб меня уговаривали, даже в том, что я уже решил сделать. Она же всегда шла напролом, к цели, как ее великий отец. Затеяв войну с Фридрихом Великим, положила сотню тысяч солдат. Но постепенно обескровила армию Фридриха. Уже готовилась добить великого полководца, да смерть помешала… При этом, решая судьбы Европы, пратетушка верила, что в Англию можно проехать сухим путем… И была по-женски пуглива. Я умирал от смеха, читая в мемуарах прабабушки Екатерины сценку: Елизавета бешено распекает своего министра. И чтобы разрядить обстановку, на помощь министру послали шута с ежом… Увидев его, подслеповатая Елизавета побледнела и с криком: «Это же мышь! Настоящая мышь!» – подхватила юбки и бросилась наутек! Она, заставившая дрожать великого Фридриха, до смерти боялась мышей!
Я увидел этот портрет в детстве, когда отец вернул его из изгнания. И полные обнаженные плечи императрицы, и грудь, видневшаяся из-под корсажа, рано пробудили мою детскую чувственность… Стоя перед портретом, я… занимался детским грехом… (далее вычеркнуто). И портрет опять сослали.
И еще один ссыльный портрет – несчастный Петр Третий. На нем прадед изображен мощным, широкоплечим богатырем с мечом и в латах… На деле он был слаб и тщедушен. Прадед стал первым, кто въехал в отстроенный Зимний дворец, кто смотрел в эти огромные окна на Неву… Жалостливый, он вернул из сибирских ссылок всех жертв прошлых переворотов. Устроил бал прощенных. И они танцевали, эти великие интриганы, любовники прежних императриц… И один из них тогда шепнул прадеду: «Вы слишком добры, Ваше Величество. Русские не понимают доброты Власти, здесь надо править кнутом, а лучше топором, только тогда все довольны. Ваше Величество, доброта вас погубит!»
И я тоже добр… Опасно добр!..
Прадед Петр Третий предостережений не понял… и погиб. Решил править самовластно, но без жестокости. Поселил в своих апартаментах любовницу, а прабабку Екатерину отселил в комнаты, которые теперь занимаю я… В это время и прадед, и прабабка уже плели заговор друг против друга. Он решил отправить ее в монастырь, а она его – на тот свет. Но прабабка оказалась заговорщицей куда более способной. Здесь во дворце она тайно принимала любовника, гвардейца. Ее кровать стояла на том самом месте, где сейчас стоит моя… Маленькое тело прабабки – и великолепное тело красавца гвардейца Григория Орлова… Эта сцена преследовала меня, когда я был подростком. У любовника было трое братьев – и все удалые храбрецы – любимцы гвардии… Так через постель присоединила она к заговору всю гвардию…
Потом наступил день переворота – день ее победы. Прабабка заточила свергнутого мужа на очаровательной мызе Ропша. Я читал письма прадеда из Ропши, в них вчерашний владыка полумира молил разрешить ему справлять нужду без охраны… и нижайше просил о прогулке… Свои письма к вчерашней жалкой немецкой принцессе потомок Петра Первого и Карла Двенадцатого – двух великих королей – униженно подписывал: «Ваш слуга Петр».
Екатерина не отвечала, будто ждала, когда тюремщики догадаются закончить дело. Догадались… Никогда не забуду рассказ отца, ненавидевшего прабабку.
Тень убиенного мужа Петра мучила прабабку Екатерину. И как возмездие – великая Екатерина умирала жалко… Она сидела на судне, когда с нею случился удар… Брат Костя, собиратель всех мерзких слухов о нашей Семье, рассказывал, будто уставшие от смены фаворитов сторонники ее сына Павла… кольнули ее снизу. Когда взломали дверь, она лежала в уборной… Врачи запретили ее тревожить, и повелительница полумира умирала на сафьяновом матрасе на полу. Вот так Господь обратился к нам: «Не собирайте себе сокровищ на земле…» Потом все окружили ее матрас, горели свечи, в полумраке все ждали последней таинственной минуты. Часы ударили четверть одиннадцатого, когда она испустила последний вздох и отправилась на Суд Всевышнего…
(Как много думаю об этом часе… Особенно нынче, после случившегося.)
Все бумаги прабабки были собраны в Секретном кабинете. В этой комнате мой дед (Павел) и нашел большой запечатанный пакет с надписью: «Его Императорскому Высочеству Павлу Петровичу, любезнейшему моему сыну…»
В нем находились ее Записки… И он тотчас набросился на них, стал читать. Когда закончил, уложил навсегда эти Записки в конверт, запечатал своей печатью. И велел хранить в секрете. Вступив на престол, мой отец прочел Записки… После чтения горячо любимый папа́ назвал нашу великую императрицу Екатерину «позором Семьи». И запретил читать эти Записки даже нам с Костей. И конечно же, только вступив на престол, я потребовал Записки к себе… Прочел с чувством восторга… и ужаса! Прабабка Екатерина оказалась не только великим правителем, но и великим писателем. С такой бесстыдной откровенностью, пожалуй, только Руссо смел писать о своей жизни… Главным героем этих Записок был несчастный, погубленный ею муж. Она беспощадно описывает прадеда – жалкий, инфантильный, играющий в детские игры, постоянно влюбляется в каждую новую фрейлину… Исключением является только его собственная жена… Он не спит с ней, потому как попросту не знает, как это делать. Оттого девять лет она не может родить наследника. Но наследник необходим – этого требуют интересы Империи. Тогда приставленная к ней фрейлина говорит ей от имени императрицы Елизаветы: «Бывают положения, когда интересы высшей важности требуют исключения из всех правил». И предлагает Екатерине самой выбрать себе любовника.
Прабабка выбирает… И вскоре родился на свет будущий император Павел…
Прочитав это, пришел в ужас и я: «Значит, мы не Романовы?..»
Небольшой портрет Великой прабабки, вернувшийся из подвала, стоял рядом с портретом моего несчастного прадеда… Или того, кто считался им…
Портрет был сделан знаменитой Виже-Лебрен, любимой художницей Марии-Антуанетты. Но любительница правды опрометчиво нарисовала складку над переносицей. Великая прабабка была с детства подслеповата, и от постоянного чтения глубокая складка разрезала ее лоб… Она ненавидела эту складку, считала её старушечьей. И оттого портрет отправился в подвал. На самом же деле портрет замечателен. Прабабушка ласково улыбается… с абсолютно равнодушными глазами. В этом – ключ. Она была ласкова и равнодушна. Она никого никогда не любила. Она обращалась со своими любовниками, как с продажными девками – использовала и отпускала, щедро наградив… Она не любила даже собственного сына. Ее подлинно любимым ребенком… было Государство.
Она говорила: «Я вспыльчива от природы. Вулкан Этна – это мой кузен. Но я умею держать себя в руках. Я умею быть деспотом для самого себя». На самом деле все это были красивые слова. Взрывы вулкана были редки из-за того же равнодушия к людям. Она никогда ничего не делала по страсти, всегда и во всем оставалась политиком… Потому я не верил, что она писала свои мемуары ради правды…
Став Императором, я приказал принести все оставшиеся от нее бумаги… И ведь нашел! Это был жалкий клочок бумаги – обрывок письма несчастного прадеда…
«Мадам, я прошу Вас не беспокоиться, что эту ночь Вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло… Кровать стала слишком тесной для нас двоих. После двухнедельного разрыва с Вами Ваш несчастный супруг, которого Вы не хотите удостаивать этим именем…» Текст обрывается, но зато есть дата, она – в начале письма. Это было написано на следующий год после свадьбы! Значит… Значит, никакого равнодушия к жене у Петра не было! Значит, он спал с нею! Это она! Она, видно, испытывала к нему непреодолимое отвращение. Она не хотела с ним спать, а он не смел из стыда пожаловаться тетке-Императрице. Только когда Императрица Елизавета потребовала наследника, ей пришлось победить отвращение… Она понесла от него! И родила Павла. Именно потому она так не любила сына, рожденного от ненавистного супруга! Что же касается истории про любовника, который будто бы был истинным отцом Павла, прабабка ее придумала… Чтобы после ее смерти Павел не мстил, не преследовал ее сподвижников, которых она так ценила, – тех, кто удавил его отца… И главное – не воевал с ее памятью. Так что в мемуарах для сына она осталась тем, кем была всегда. Правителем. И политиком. Но если… все-таки… написала правду? Не знаю… Проклятие!
После этих Записок мы навсегда – тайна для самих себя.
Но одно точно: неравнодушна она была только к наслаждению. Ее щедрое лоно постоянно требовало нового… Вечный гон! И кровь прабабки бушует во всех нас. Наслаждение сводило с ума всех нас – отца, его братьев, меня и моих братьев… теряешь рассудок и летишь в бездну между женскими ногами…
Рядом с портретом прабабки стоял портрет ее сына (Павла Первого)… Тщедушный дед изображен красавцем со скипетром и в короне. И… совсем не похожим на портреты отца Петра Третьего!
В это время о содержании Записок прабабки, несмотря на все предосторожности, уже знали при дворе… Как говорила о нас злая мадам де Сталь: «В России всё секрет и ничего не тайна». И когда Павел увидел этот портрет, его охватил бешеный гнев. Дед решил, что художник нарочно нарисовал его не похожим на отца. В гневе он становился безумным. И велел гнать несчастного художника в Сибирь. Вот так из-за гроба прабабка Екатерина своими Записками пребольно ударила сына. Но дед решил бороться. Он устроил культ убиенного отца. Свергнутый Петр был похоронен прабабкой в Александро-Невской лавре. Она отказала мужу лежать в Петропавловском соборе, где до́лжно всем нам упокоиться. Павел приказал вернуть прах отца на наше законное место – в Петропавловский собор… Ночью к Александро-Невской лавре подъехали траурные кареты. Павел привез все семейство… Гроб Петра Третьего подняли из могилы, открыли… Прадед истлел – рассыпались его кости, сгнил мундир, остались только перчатки, ботфорты и шляпа… в которой покоился череп. Но дед заставил всю Семью приложиться губами к истлевшим останкам. Чтобы двор понял: только сын может так чтить отца!.. Моему отцу было несколько месяцев, но и его, новорожденного, поднесли к открытому гробу. И, как рассказывала бабушка: «увидев череп, он замахал ручонками и истошно зарыдал».
Уверен, Павел был сыном Петра. Именно поэтому он так повторил характер несчастного отца… То добрый, нежный, справедливый, то все наоборот… И при этом такой же наивный… Гордо заявлял: «У нас в России аристократ – тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока я с ним разговариваю». Он верил в неограниченность самодержавной власти. Не мог понять, что на самом деле его самодержавие было ограничено… Не конституцией, не парламентом, а куда эффективнее – походами гвардии на наш дворец.
О конце прадеда (Петра Третьего) и деда (Павла) мне рассказал однажды на прогулке папа́…
Я тогда вернулся из путешествия по Сибири, где увидел участников злосчастного декабрьского восстания, и осторожно попросил отца простить вчерашних гвардейцев, постаревших, больных, несчастных. Он помолчал, а потом сказал: «Я лучше расскажу тебе о том, как доблестные гвардейцы убивали в Ропше твоего прадеда, Петра Третьего… Они повергли своего законного повелителя, того, кому присягали, на пол! Он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние. Но они набросили ружейный ремень на его шею. Алексей Орлов, гигант со шрамом через всю щеку, обеими коленями встал ему на грудь и запер дыхание. Император всея Руси испустил дух в руках изменников… Еще могу рассказать тебе, как клятвопреступники-гвардейцы убили другого своего Повелителя – твоего деда… Мерзавцы подло ворвались к Павлу Петровичу в спальню… Несчастный Император Всероссийский в ночной рубашке прятался за ширмой… но они увидели голые ноги, торчавшие из-под нее, и выволокли оттуда – убивать! Он умолял дать ему помолиться перед смертью. Но пьяный негодяй ударил его табакеркой по темени… Потом, как и отца его, изверги душили и задушили офицерским шарфом… После били, пинали сапогами бездыханное тело своего Государя, моего отца! Твоего деда! Наши верные гвардейцы!.. И эти в декабре того же хотели… Нет, пусть гниют в Сибири!»
Последним сверкал на солнце портрет великого дяди (Александра Первого)… Если бы обожавшая его бабка, предсказавшая возвышение и конец Бонапарта, знала, что принесет щедрая фортуна любимому внуку… Может быть, из всех нас только имя Александра Первого останется в истории человечества вместе с именем поверженного им великого врага…
На портрете, сделанном знаменитым французским художником, изображены три головы дяди – две, глядящие в противоположные стороны, одна, в центре, уставившаяся на нас…
Все три одинаковых лица загадочно не похожи друг на друга.
Когда дяде представили портрет, он, обычно ласковый и обворожительный, изволил так непривычно сильно гневаться, что портрет поспешили отправить в подвал. Изумленный художник объяснял, что взял за образец подобный портрет великого Ришелье…
И сейчас, стоя у возвращенного из ссылки портрета, я не мог не восхититься выдумкой художника…
Да, душа этого таинственного, скрытного человека гармонично соединяла самые несовместимые качества…
Будучи добросердечен, незлопамятен, он был мстителен и удивительно… злопамятен. Уверен, он никогда не мог простить Бонапарту своих унижений и поражений. И это заставило его совершить великую политическую ошибку. Когда Наполеон был изгнан из России, Кутузов и умные люди умоляли дядю остановиться и заключить союз с разгромленным французом. Подобно тому, как это сделал Бонапарт. Он разбил нас под Аустерлицем и Фридляндом, он продиктовал дяде унизительный договор в Тильзите. И предложил поделить мир. Наполеон отдавал нам весь Восток… Теперь мы могли заставить его подписать новый Тильзит, где Александр исполнил бы роль победителя Бонапарта…
Ныне дядя мог разделить с ним мир, но уже так, как желал сам. Мы могли вернуть Константинополь, дать независимость балканским народам… Но дядя не захотел… Мечта отомстить безродному лейтенанту, посмевшему стать кумиром Европы, диктовать ему свою волю, оказалась сильнее… Мечта сбросить во прах непобедимого полководца, выступить спасителем Европы, снискать вечную благодарность европейских народов… была для дяди притягательнее. За эту мечту он уложил сотни тысяч русских людей на полях Европы.
И вот мечта сбылась. Он в Париже, а жалкий лейтенант отправлен править островом размером с царство Санчо Пансы… Венский конгресс… Он на вершине славы. Он диктует волю России народам… Европа признает его вождем королей – «Агамемнон королей» теперь его имя… Бездарный, но хитрый Император Франц подарил ему говорящего скворца, который орал одно и то же: «Виват Александр!» Блестящий дядя не понял насмешки, он упивался скворцом… На Венский конгресс собралась не только вся королевская Европа, но и ее истинные некоронованные владыки – все тогдашние красавицы. И они были у его ног… А самые красивые – в его постели… И в этот миг его небывалой славы Бонапарт бежал с острова Эльба. И не просто бежал. «Только помахивая шляпой», не сделав ни одного выстрела, он отвоевал империю. И приготовил дяде сюрприз. Во дворце в Тюильри Бонапарт нашел некий документ и тотчас переслал его дяде… Дядя прочел и понял: не было, ничего не было! Никакой любви королей! Оказывается, пока он, Спаситель Европы, танцевал и пока орал «виват» неугомонный скворец, Англия, Австрия и Франция заключили тайный военный союз. Они приготовились к войне против Агамемнона. В договоре были проставлены размеры войска, которое должно было обрушиться на истощенную нашествием Россию…
И что же дядя? Он простил предателей… Но Бонапарта, посмевшего вновь стать героем, властителем дум потрясенного общества, простить не мог. И, показав документ растерянному и смертельно испуганному Меттерниху, дядя сказал: «Пока мы с вами живы, об этом документе не должно быть сказано ни слова. Наполеон возвратился. Наш союз должен быть крепче, чем когда-либо». И столько раз прославлявший верность, он соединился с обманувшими его союзниками…
Много рассуждавший о мудрости и величии республиканского правления, он восхищался тупым изувером Аракчеевым, прославлявшим монархию… И те же разные лики дяди глядят из его постели… Он обожал красоту. Его жена – как она была хороша в молодости… Все, кто видел, с ума сходили… Красавчик Платон Зубов, последний любовник Екатерины, хоть и боялся великой бабки, но поделать с собой ничего не мог. Дни проводил у окна, чтобы только увидеть Великую княгиню. Все были влюблены в нее, кроме… мужа, обожавшего женскую красоту!.. Александр не хотел спать с ней… При том, что этот любитель красоты готов был увлечься вульгарной девкой. Бонапарт насмешливо рассказывал, как во время свидания в Эрфурте пышные формы смазливой французской актрисы мадемуазель Бургонь произвели на дядю глубочайшее впечатление. Он спросил Бонапарта: «Думаете, она мне не откажет?» «Согласится, и немедля, – ответил Бонапарт. – Правда, на следующий день весь Париж получит подробное описание вашего…» Только это остановило дядю!
При всех этих любовных эскападах дядя был… однолюб! Всю жизнь он любил фрейлину Нарышкину и терпеливо сносил ее постоянные измены.
В редкую минуту откровенности он сказал моему отцу: «Я виноват перед Лизой (Императрицей), но не до такой степени, как думают вокруг… Наш брак, дорогой Ники, был заключен в силу государственных соображений без нашего взаимного участия… Мы соединены только в глазах людей… Перед Богом мы с Лизой оба свободны располагать своим сердцем».
И потому он позволил своей Лизе непозволительное. После его и ее смерти бабка (жена Павла Первого), не доверявшая смиренному целомудрию золовки, прочла дневник умершей… И буквально закричала: «Я говорила! Я всегда говорила!» Действительно, бабушка говорила! Когда бедная Лиза, тогда еще Великая княгиня, родила дочь, бабка понеслась с крошкой к деду. Показав новорожденную Павлу, спросила: «Почему у нее такие черные волосики, коли отец и мать, бабка и дед пепельные блондины?»
Дед с месяц не разговаривал с Елизаветой, пока дядя не убедил его в невиновности своей жены.
И вот в дневнике «невиновная» рассказала… о безумной любви к жалкому кавалергарду… В этой любви были и страсть, и романтика, по которой скучала одинокая душа… Оказалось, она тоже чувствовала себя свободной перед Богом… Каждую ночь кавалергард лез по веревке в окно Каменноостровского дворца – в одинокую спальню Великой княгини… И от него она понесла. Так несчастная создала иллюзию женского и материнского счастья, которых публично, на глазах двора, лишил ее муж… Но пока она ожидала ребенка, ее любовника зарезали. Он выходил из театра и получил сзади удар кинжалом. Ударивший скрылся в толпе и остался неизвестным. Но не для меня… Есть сила, рожденная нашей Властью, которая подчас сильнее нашей Власти, – собственная тайная полиция. И она, конечно же, обязана заботиться о чистоте трона. Да, Елизавета родила девочку… Но у нее мог бы появиться и мальчик, если бы роман продолжался. И тогда на престол мог сесть сын безродного кавалергарда! Впрочем, и девочка не устраивала заботливую силу. Не потому ли бедная новорожденная так скоро умерла?
Умерла и единственная истинная дочь дяди, которую подарила ему любовница. Прелестная девушка готовилась выйти замуж. Ее подвенечный наряд в Париже был сшит… когда она умерла от чахотки.
И дядя с тремя лицами мог подвести итоги. Единственно близким духовно ему человеком была его жена, но они не любили друг друга… Единственная женщина, которую любил он, ему изменяла. Единственное его дитя лежало в могиле. Благодарная Европа его боялась и завистливо не любила. И на родине в благодарном ему обществе зрел заговор. Как он узнал, гвардия готовилась снова идти на дворец.
Мальчиком в Петергофе и в Царском Селе я часто видел победителя Наполеона, одиноко бредущего по парку. Погруженный в свои мысли, он обычно не замечал меня.
И такая печаль, такая тоска были на лице.
И все чаще дядя говорил о смерти.
Перед смертью дяди в Петербурге случилось невиданное наводнение. Корабли были выброшены на улицы, гробы плавали по Невскому… Город превратился в гигантскую реку. Это восстание воды будто предупреждало о грядущем бедствии – восстании людей. Сразу по смерти Александра наша гвардия снова пошла войной на дворец. И свидетелем этому был уже я сам.
Гвардия, привыкшая участвовать в смене царей, вернулась из Европы после победы над Бонапартом и задумала жить вообще без царей.
Они возмечтали устроить такой порядок в государстве, при котором каждому гвардейцу возможно было стать Наполеоном. Забыв, что Наполеоном стать нельзя, им надо родиться!
Так составился заговор гвардейцев из знатнейших семей…
До смерти не забуду роковой день восшествия папа́ на престол…
Накануне отец сказал мне, крохе:
– Завтра ты станешь Наследником величайшего престола… – Обнял и ушел.
Помню, был ослепительно солнечный зимний день. И я, очень важный, стоял у огромного окна в Гербовом зале – смотрел на шпиль Петропавловской крепости. Подкравшись сзади, сестричка Маша, веселая злыдня, зашептала, указывая на шпиль:
– Это шпиль церкви… В ней лежат покойники. И если долго смотреть на шпиль, они придут ночью за тобой… – Она шептала так таинственно, что мурашки побежали по телу. В ужасе я отпрянул от окна…
– Боится! – радостно закричала она. – Боится, а еще Государем хочет стать… – И побежала рассказывать отцу.
Послышались четкие шаги – отец до самой смерти по-гвардейски печатал шаг… Больно выворачивая ухо, он сказал:
– Там за стеной Петропавловской крепости находится Собор, чей шпиль ты видишь. В Соборе лежат твои предки, чьих дел ты должен быть достоин. Там лягу и я, потом и ты… потом твои дети… Но это не все… За теми же стенами рядом с Собором находится тюрьма, куда мы заточаем самых заклятых преступников, и ты должен будешь с ними беспощадно бороться… пока не ляжешь в Соборе. Но наследник великой державы не может быть трусом. Теперь каждый вечер ты будешь стоять у окна и глядеть на крепость…
И меня приводили в бесконечный Гербовый зал. В люстрах тушили почти все свечи. Плача от страха, я стоял и смотрел на страшный шпиль, освещенный луной.
И наступило 14 декабря – день вступления на трон моего отца. Вечно в русских церквях будет совершаться молебен в память о страшном кровавом событии – о последнем походе гвардии на наш дворец.
Отец рассказывал, что в ту ночь он долго не мог заснуть… Он знал о заговоре и теперь расхаживал по анфиладе парадных залов – раздумывал.
За ним шел камердинер с канделябром… И в беломраморном зале, залитом светом луны, оба увидели призрачную белую фигуру… Отец застыл в ужасе… Фигура парила над полом, превращаясь в неясное белое пятно… Но он знал – это убиенный отец! А потом все исчезло, ушло на глазах сквозь стену… Хотя папа́ била странная дрожь, он был счастлив. Для него эта встреча была встречей Гамлета с отцовской тенью. Призыв к мести – наследникам гвардии, которые убили его отца и деда.
Ранним утром в огромном зале в парадных мундирах, орденах и лентах собрались присягать отцу столпы прежнего царствования… А в это время под сводами Александровского зала, где мраморные римские боги стоят под потолком на мраморных колоннах, отец читал командирам гвардии Завещание покойного Императора…
Именно тогда ему и сообщили: Московский полк в полном восстании.
Оказалось, заговорщики взбунтовали гвардейские казармы. Объявили, что законного императора Константина заставили силой отречься от престола и отец хочет узурпировать трон.
Несмотря на злой декабрьский мороз, в одних сюртуках, разгоряченные водкой, гвардейцы бросились на площадь. Они выстроились у здания Сената – в десяти минутах ходу от дворца, палили в воздух и кричали: «Ура, Константин! Да здравствует Конституция!» Офицеры сказали солдатам, будто жену Константина зовут Конституция!
Готовилась повториться судьба его отца и деда! Он понимал: у него выбор – жизнь или смерть… и не только его смерть. Может, гибель всей нашей Семьи. Он был в исступлении… Однако это было не безумие мысли, но взлет воли. Когда рушатся привычные представления о возможностях… когда человек во власти некоего вдохновения, все его безумные шаги удивительно разумны… точнее, единственно возможны. Он немедля послал адъютантов в казармы – собирать верные полки. И отрядил генералов идти на площадь уговаривать мятежных разойтись…
Сам, набросив шинель, выбежал на улицу.
Перед дворцом собралась огромная толпа зевак…
Чтобы занять ее и не дать ей двинуться на Сенатскую площадь, где стояли мятежники, отец придумал – прочел им Манифест о своем восшествии. Толпа рукоплескала, заглушая приветственными криками выстрелы с мятежной площади.
В это время оттуда вернулись посланцы. Сообщили страшное: мятежников прибывает. К Московскому полку присоединились двухметровые гиганты-гренадеры из лейб-гвардии гренадерского полка. И, замыкая мятежный строй, встал Морской экипаж. Полиция испуганно бездействовала, будто выжидала, чья возьмет. Работники, строившие Исаакиевский собор, приветствовали бунтовщиков и закидали камнями посланцев отца.
В это время отец, закончивший читать Манифест, увидел, как ко дворцу бегом направляется отряд. Это были гиганты-гренадеры – они должны были захватить дворец. Именно в эту страшную минуту появились верные гвардейцы – саперный батальон. Мятежный отряд остановился, увидев «чужих» (так они называли присягнувших отцу).
Минута сохранила жизнь нам всем. Именно тогда – рассказывал отец – он окончательно поверил: Бог за него!
Отец спросил мятежников:
– Вы со мной?
– Мы с Константином… Ура, Константин! – заревели глотки.
– Тогда вам туда. – И отец указал им на Сенатскую площадь.
Он их не преследовал… Нельзя было развязать бой у дворца, где у окон стояли его мать, не понимавшая, что происходит, и придворные, изумленно глядевшие на улицу.
В это время на площади убили губернатора Петербурга Милорадовича… Он поехал уговаривать мятежников и встретил смерть. Всю войну с Наполеоном прошел бедный Милорадович, во всех сражениях участвовал, не схлопотав ни одной пули!
И тогда отец сел на коня и, окруженный верным батальоном преображенцев, направился к мятежным полкам!
Во дворце в страхе ждали развязки. Моя бедная бабка… Два десятка лет назад она увидела изуродованное тело убитого мужа-императора, теперь ей грозило увидеть убитым императора-сына. И рядом моя мать, уже выучившая имена всех убиенных русских государей… После того дня у матери навсегда остался нервный тик….
И отец решился! Он скомандовал: «Везите пушки!»
Все это отец подробно рассказал мне потом. А тогда мне было семь лет, и я помню те события смутно. Но все же помню, как в огромной зале в мундирах сидят недвижно старые люди… А я, мать и бабушка… мы уходим от них в кабинет отца. Мать говорила, что я был голоден, плакал, пока не принесли вкусную котлетку. Этого в памяти не сохранилось, но помню, как стоял у окна… Помню, как вспыхнули несколько молний, одна за другою. И огромные окна осветились. И раздались глухие удары. Это стреляли пушки… И все вокруг начали радостно креститься. И мать велела мне тоже креститься… Теперь я прилепился к окну – ждал новых огней. Но вместо них в свете зажегшихся газовых фонарей я увидел папа́. Он возвращался верхом, окруженный пешими солдатами. И я первый закричал:
– Папа едет!..
И мать, и бабушка зарыдали.
Вбежал папа́, обнял бабушку и мать. И все мы тотчас отправились в домовую церковь. Стоя на коленях, стали молиться и благодарить Господа за избавление. За то, что Господь не дал столице оказаться во власти полупьяных солдат и черни…
Восставших в том декабре стали именовать «декабристами». Я много думал и до сих пор думаю об этом событии… И часто задаю себе вопрос: почему они в бездействии стояли на площади? Почему не напали на беззащитный дворец, пока верные отцу полки не собрались? Они легко могли захватить нас всех!
Разгадка, думаю, в том, что это был особый заговор гвардии. До того они устраивали заговоры во имя одного из нас против другого. Впервые они устроили заговор во имя понятия, именовавшегося «свободой». Но хорошо было мечтать о свободе за картами да пуншем. Тут, на Сенатской площади, они увидели ее воочию – три тысячи полупьяных темных солдат, верящих, что Конституция – это жена Константина, и звереющая толпа черни… Чернь уже разбирала поленья у строившегося рядом Исаакиевского собора, готовясь приступить к разгрому столицы и, главное, к грабежам… Кровавый призрак вчерашней Французской Революции взвился над площадью.
И они испугались!
Но об этом я размышлял через много лет… А тогда, по возвращении отца, меня тотчас одели в парадный гусарский мундирчик. Камердинер бабушки вынес меня во дворцовый двор. Там, освещенные кострами, меня ждали отец и гвардейцы… Это был тот самый саперный батальон, спасший дворец. Они целовали меня, царапая шершавыми щеками. Помню, я плакал – мне не нравилось!
Перед сном повели проститься с папа́… Комната была ярко освещена свечами. Перед отцом стоял офицер… Запомнил: руки у него были связаны гвардейским шарфом.
Всю ночь, пока я спал, к папа́ доставляли арестованных. Впоследствии в этой самой комнате я занимался науками с воспитателями, и мне часто мерещился тот офицер со связанными руками…
Когда я осмелился спросить о нем у воспитателя, он сказал, что это был зловредный бунтовщик, приговоренный потом к виселице. Уже взрослым я узнал, что во время казни он дважды срывался с виселицы – веревки были гнилые. Брат Костя откуда-то услышал его последнюю фразу: «Несчастный мы народ. Ничего как следует сделать не умеем. Даже повесить!»
Костя с детства собирал злые фразы про нас…
Множество виновных, невзирая на родство и чины, отправились на каторгу. Все царствование отца просили простить несчастных… Он не простил никого.
Он сказал мне:
– Как человек – давно простил, но как Государь не имею права.
На самом деле он не простил именно как человек. Гордый человек… Он не смог им простить того, что он, религиознейший, вынужден был в крови вступить на престол. И главное, не мог простить своего страха.
Но с походами гвардии на дворец было покончено навсегда! При отце гвардию беспощадно занимали маршировкой. Как с усмешкой сказал злоязычный брат Костя: «Наша гвардия все больше превращалась в балет…» Самое смешное – отец однажды приказал, чтобы балет превратился в гвардию. В тот год ставили оперу Моцарта «Похищение из сераля», и балерины должны были танцевать янычар. Отец велел научить балерин обращению с винтовкой… Учить балет были посланы гвардейцы. Балерины восприняли это как веселую шутку – вместо занятий вовсю флиртовали с гвардейцами. Отцу доложили. Он не терпел невыполнения своих приказов даже балеринами. Велел сообщить, что нерадивых барышень будут выгонять на мороз заниматься строевой подготовкой – в балетных туфлях. Тотчас возымело действие…
Его приказы! Муха не могла пролететь без его на то разрешения. Взгляд отца, когда он приказывал, – тяжелый, будто прожигающий, воистину повелительный. Порой я пытаюсь смотреть так же, но… получается смешно.
Однажды отец повелел сделать огромный камин в одной из небольших комнат дворца. Архитектор начал объяснять ему, как это опасно. Отец только взглянул на него – и тот заторопился выполнять.
Архитектор все исполнил… А через неделю дворец загорелся! Это был страшный пожар. Вещи из дворца пришлось вынести на улицу, поставили гвардейцев их охранять… Но опальные картины забыли в подвале. Самое удивительное – огонь пощадил только их.
Отец назначил комиссию – выяснить причину пожара. Никто не посмел указать ему на его вину. Он сказал об этом сам и повелел невозможное – за полтора года восстановить огромный дворец. Свезли крепостных со всей России, на улице тогда стояли страшные морозы до 35 градусов… Во дворце страшно топили, чтоб побыстрее сохло. Костя, конечно, рассказал мне, что умирали сотнями и в подвале до сих пор живут привидения.
Но так или иначе, а дворец восстановили к назначенному сроку.
Мать и Отец… Я часто о них думаю… Я любил мать. Она обожала все красивое и белое. Я помню ее всегда в белом платье – изящна, тонка, с лазоревыми глазами… Такие глаза будут у моей Маши… Когда мать уезжала даже на самое короткое время, я плакал от печали и посылал ей букеты из гелиотропов.
Я любил мать и, как все вокруг, смертельно боялся отца…
Меня воспитывал наш великий сентиментальный поэт Жуковский.
Жуковский часто плакал… Плакал от восторга, читая свои стихи, от моего непослушания, от своей радости. Он был из прошлого века.
Тогда в России было модно плакать. Когда прабабка Екатерина Великая читала свой Наказ депутатам уложенной Комиссии, зала рыдала в умилении от ее мудрости. Когда у прабабки умер очередной фаворит, два прежних фаворита рыдали вместе с нею. Это не была слезливость – это была великая чувствительность века.
И я перенял это у поэта. Мне скоро полвека, и теперь я часто плачу.
Отец ненавидел мои слезы. Избавить меня от «жалкой чувствительности» должна была армия. В шесть лет меня посадили на лошадь! В восемь лет я лихо скакал на фланге лейб-гусарского полка. Мне нравился строй гвардии, блеск кирас, обнаженных сабель, медных касок с орлами. В юности я даже нарисовал новую форму гренадерам (редкое одобрение отца).
В шестнадцать лет я принес присягу Наследника престола.
В парадной церкви собрался весь двор. Любезнейший отец подвел меня к аналою. Я начал читать текст длиннейшей присяги. Слезы застилали мне глаза. Я боялся разреветься. Но дочел, дочел! Отец торжественно троекратно поцеловал меня – в губы, в глаза и в лоб. С этого дня обращение со мной стало иное. Я – наследник трона! Как сказал дядя Михаил: «Царь лишь отчасти человек. И Цесаревич – тоже».
И каково же было мое возмущение, когда маленький Костя – «от горшка два вершка» – вдруг заявил мне:
– Это несправедливо! Ты рожден, когда отец был Великим князем, а я – когда он стал Императором. А в почитаемой нами Византии наследником был тот, кто рожден в багрянице, то есть когда родитель уже был монархом… Я должен быть Цесаревичем!
За что был при мне нещадно выпорот лично отцом.
После этого отец сказал нам:
– Господь учит: «Царство, которое разъединилось, падет». Так и семья. Запомните это раз и навсегда.
Брат Костя удивительно умен и столь же зол. У Кости с детства беспощадный язык. Я даже сочинил про него:
«Идет по улице собака,
Идет наш Костя, тих и мил.
Городовой, смотри, однако, чтоб он ее не укусил».
Костя низкоросл, некрасив – в отличие от всех нас, Романовых. Отец прозвал его Эзопом. Костя тотчас отомстил ему… У отца глаза несколько навыкате, и у меня такие же глаза. Костя хитро прозвал меня «Бараном нумер два»… Когда отец узнал, он все понял… и расхохотался. Он был суров, но находчивость ценил.
Соперничество Кости со мной продолжалось.
Когда кто-то восхитился моим умением скакать на лошади, Костя моментально нашелся:
– Я думаю, пока в нашей семье не родится Государь-калека, нам не отучиться от этой глупой любви к армии…
Он всегда нервно кричал, когда хотел кого-то обидеть.
А у нас слушали стены.
Уже вскоре послышались «гвардейские шаги» отца.
Сначала он молча надавал пощечин Косте. Потом объяснил:
– Запомни, маленький негодяй, на несчастье родившийся Великим князем: Россия есть государство военное, и ее предназначение быть грозою света.
Фразу тотчас ввели в учебники для кадетских корпусов.
В шестнадцать лет у меня состоялся первый большой и серьезный разговор с папа́… Я никогда его не забуду.
Мы сидели на любимой террасе отца (в Александрии). Были видны залив и наш корабль на рейде. Отец, как всегда, в мундире. От него, как и от дяди Александра, пахло французским одеколоном. Этот запах долго сохранялся в его вещах после смерти. Через много лет я открыл его портфель и, почувствовав его запах, заплакал…
Отец тогда сказал мне:
– Это в Европе Государь должен быть то лисою, то львом. Так, кажется, говорил Бонапарт. В России – только львом. Запомни раз и навсегда: в России надо править или кнутом, или топором, а лучше тем и другим – и тогда все довольны. После подавления декабрьского бунта я приготовился к обороне. Именно тогда у твоей несчастной матери начался нервный тик… Ведь в заговоре были лучшие фамилии, а у них многочисленные родичи… И я ожидал продолжения мятежа… Но вместо этого услышал со всех сторон… крики одобрения! Да, да! Будто не безумные соотечественники, а целая неприятельская армия повержена. Бывшие друзья, братья, любовники теперь именовались «государственными преступниками». А их родичи молебны заказывали о спасении Отечества! И отцы сами приводили своих детей к наказанию. Особенно усердствовали те, кого называют у нас либералами… И тогда я понял главный закон русской жизни. Пойми его и ты. Коли правитель тверд и расправа беспощадна, самыми трусливыми становятся те, кто были вчера самыми смелыми либералами… Потому-то к участию в расследовании мятежа я привлек наших главных либералов. Руководить Верховным судом отправил графа Сперанского, которого заговорщики хотели сделать будущим правителем республиканской России… Чем кончилось? Сперанский составил такой список кандидатов на виселицу, что мне пришлось собственноручно вычеркивать… И вообще от желающих на роли палачей не было отбою… После подавления мятежа я сделал главный печальный вывод: наши предки и их правительства не знали, что творится в собственной столице. В заговорах участвовало множество людей. Но несчастные наши пращуры узнавали о беде только в свой последний час. Сколько лет существовал гвардейский заговор 14 декабря! Но восстание так и не предотвратили… Прежняя тайная полиция в России доказала свое ничтожество. И я обязан был создать учреждение, которое должно не только умело обнаруживать заговоры, но сигнализировать об их зарождении. Должно не только знать о настроениях в обществе, но уметь дирижировать ими. Короче, требовалось учреждение, способное убивать крамолу в зародыше… Я повелел создать Третье отделение внутри моей Канцелярии. Во главе поставил… да, вчерашнего либерала и масона графа Бенкендорфа. Объясняя, чем должно заниматься Третьему отделению, протянул Бенкендорфу платок: «Осушай им слезы несправедливо обиженных… Это теперь твоя задача. Но…» Общество аплодировало, а я объяснил Бенкендорфу: «Но прежде чем осушать слезы невинных, постарайся вызвать обильные слезы виновных…» Штат самого Третьего отделения очень мал. Но штат – лишь вершина гигантского айсберга. Главная мощь Третьего отделения невидима. Это тайные агенты. Они заботливо покрывают всю нашу страну, мой сын. Гвардию, армию, министерства… В салонах, в театрах, на маскараде и даже в борделях работают агенты отделения. К примеру, ты только решился сделать глупость с фрейлиной Б., а я уже знал! Во время прогулок по городу я часто сажаю графа Бенкендорфа с собой в карету… Он не бог весть какой собеседник… да и я не люблю посторонних рядом с собой. Но я хотел, чтобы все видели: голубой мундир чтим самим Императором. Службу, считавшуюся позорной, я сделал почетной. И вскоре служить в Третьем отделении готовы были лучшие фамилии. Я попросил мое Третье отделение обратить особое внимание на литературу. Запомни, сын, с мятежных слов начинаются мятежные события. Сравнительно быстро я отучил наших щелкоперов не только ругать правительство, но даже хвалить его. Я отучил их вмешиваться в мою работу. И уже вскоре смог сказать: «В России все молчит, ибо – благоденствует». Береги Третье отделение, мой сын. Оно и есть душа Царства. Душа России…
От ража отец покраснел – глаза сверкали. Я никогда не видел его таким вдохновенным.
– Общество почувствовало радость выздоровления. И я мог с искренностью сказать о превосходстве нашей державы над жалким Западом. Я приказал, и наши газеты заговорили о грядущем крахе гнилой Европы, в которую только мы сможем влить свежую кровь. Точнее, мне не пришлось уже приказывать. Я научил литераторов понимать не только мои слова, но мои мысли. И самые мудрые объявили обществу, что «европейский период», начавшийся с Петра Великого, счастливо миновал в русской истории. Он закончился с вхождением наших войск в Париж и со смертью победителя Наполеона, брата моего незабвенного Александра Павловича. Теперь начался новый – святой, национальный. Православие, самодержавие и Народность – три кита, на которых нынче стоит Империя…
Папа вернулся к этому разговору в 1848 году. Тогда начались революции в Европе, и папа пришел в восторг! Он весело сказал мне:
– Помнишь про гнилую Европу? Сейчас они будут просить о помощи! Священную миссию – вернуть порядок в Европу – выполнит Святая Русь!
И вправду вскоре Австрия попросила помощи. Отец торжествовал.
Стоя на любимой террасе, простер руку в морскую даль:
– Мы поможем!
Он помог Австрии – отправил наших солдат подавить восстание в Венгрии! И подавили! Потом подавил мятеж в вечно бунтующей Польше… Но почему-то вместо благодарности «гнилая Европа» окрестила его деспотом и даже людоедом (об этом, к моему ужасу, шепотом рассказал Костя – он прочел это в английских газетах). Как пояснил злобный Костя, наше постоянное желание наводить порядок у чужих народов стало темой для анекдотов, и наши европейские родственники потешаются над отцом… Но оказалось, отец знал все это и очень мучился вечной неблагодарностью Европы.
Глава тайной полиции Бенкендорф придумал, как изменить ситуацию… Разговор этот происходил в моем присутствии. Бенкендорф доложил: наши агенты сообщили из Парижа, что знатный француз маркиз де Кюстин мечтает побывать в России и написать об этом путешествии. Он – известный литератор, весьма влиятелен в Европе, при этом фанатичный сторонник абсолютной монархии. Маркиз – внук генерала, гильотинированного в дни террора французской революции.
– Вот человек, чья книга изменит мнение Европы, – сказал Бенкендорф…
Отцу идея понравилась. Было решено пригласить и обласкать маркиза де Кюстина, оказывать ему всяческое содействие во время путешествия…
К сожалению, у нас вечная беда – несогласованность между ведомствами. Поэтому на границе, согласно отцовским правилам, таможня заботливо обыскала маркиза и конфисковала все его французские книги – они считались у нас запрещенными…
Я увидел Кюстина во дворце. Это был юркий черненький человечек с плотским грехом – он без устали влюблялся во всех… красавцев! Именно так докладывало Третье отделение. Отец ненавидел содомскую похоть, но тем не менее дал ему аудиенцию. Француз в восторге пожирал глазами и красавца-отца… Папа, забыв о наклонностях француза, подумал, что тот в восторге от увиденного в России…
Вернувшись во Францию, маркиз написал о нас… Отец прочел… Помню, как он швырнул проклятую книжку на пол, топтал ее… Книгу запретили. Заботливо конфисковывали у иностранцев на таможне.
В библиотеке отца, в центральном шкафу, украшенном бюстами Гомера и Сократа, на самой верхней полке хранились очень вольные рисунки. Я иногда заглядывал туда в его отсутствие – рассматривал пополнение… И вот в очередной раз, когда отец уехал в Петергоф, я полез посмотреть… И под альбомами увидел растерзанную книгу француза со следами отцовских сапог.
Я начал читать…
«Все здесь подавлено, боязливо жмется, все мрачно, все молча – и слепо повинуется невидимой палке… Тупая и железная казарменная дисциплина сковала всех и вся… Нужно жить в этой пустыне, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу жизни в других странах Европы. Если вы не любите собственную родину, лекарство одно – поезжайте в Россию… Самый ничтожный человек, если он сумеет понравиться государю, завтра же может стать первым в государстве. Рабы существуют во многих странах, но чтобы увидеть такое количество придворных рабов, нужно приехать в Россию… До сих пор я думал, что истина необходима человеку как воздух, как солнце. Путешествие по России меня в этом разубеждает. Лгать здесь – значит охранять престол, говорить правду – значит потрясать основы…» И прочая, и прочая.
Читая гнусное сочинение, я мечтал уничтожить негодяя… и часто вздыхал – так много в книге было того, о чем мы говорили шепотом с Костей…
Впоследствии я прочту в дневнике отца: «Когда я вступил на престол, я страстно желал знать правду, но, слушая в течение тридцати лет ежедневно лесть и ложь, я разучился отличать правду от лжи».
Он напишет это после поражений в Крымской войне… Напишет то же, что написал ненавидимый им негодяй-француз.
Но особенно поразили меня два рассуждения в мерзкой книге… В одном жалкий французик предрекал: «Не пройдет и пятидесяти лет – и в России будет революция». Эти слова мне запомнились.
И после случившегося сегодня особенно мучают меня.
Но тогда, в мои двадцать с небольшим, в самое сердце меня поразило другое. Это были некоторые подробности об отце…
Все знали и знают поныне, что отец обожал мать – они были образцовая семейная пара… Рядом с великолепным Петергофским дворцом, соперничающим с Версалем, отец построил небольшой коттедж, именовавшийся в честь матери «Александрией»… Здесь летом он отдыхал и от забот, и от грандиозности великолепных колоннад, мрамора и позолоты наших несравненных дворцов. Низенькие потолки, наши небольшие комнаты, увешанные картинами, его крохотный кабинет на третьем этаже с видом на даль залива… Помню, отец в халате и рядом мать… Грациозно накинут на плечи прозрачный шарф, дополнявший ее чрезвычайно изящный и, конечно же, белый утренний туалет… Ее невинные лазоревые глаза… Непреклонный, сильный гигант-отец и хрупкая нежная покорная мать – в этом несходстве была великая гармония их брака… Но вот что я прочел у проклятого маркиза: «И как помещик распоряжался и жизнью, и желаниями крепостных, так и царь здесь распоряжается всеми подданными. Он одарил вниманием… не только всех юных красавиц при дворе, но и девиц, случайно встреченных во время прогулки. Если кто-то ему понравился на прогулке или в театре, он говорит дежурному адъютанту. И она тотчас подпадает под надзор. Если за ней не числилось ничего предосудительного, предупреждали мужа (коли замужем) или родителей (коли девица) о чести, которая им выпала. И Император никогда не встречал сопротивления своей прихоти… В этой странной стране переспать с Императором считалось честью… для родителей и даже для мужей…»
Я узнал все это в четырнадцать лет… В Зимнем дворце жила фрейлина матери Варенька Нелидова, о которой сплетничали, что отец и она… Я не верил… Я не мог представить, что папа соединил под одной крышей мать, которую боготворил, и любовницу.
Но Варенька слишком часто выходила из его кабинета. Это было ужасно, однако я решился выяснить правду… В кабинете стоял огромный шкаф, где висели мундиры отца. Я залез в шкаф… Я задыхался среди мундиров… И в щелочку для ключа увидел, как они вошли… он… потом она… Она торопливо сбросила платье!.. Женский обнаженный торс закрыл от меня комнату!.. Она была стыдлива, и они потушили свет… Но я слышал, слышал ужасные, животные звуки… (далее вычеркнуто).
Я проклинал себя! Я был Хамом, обнажившим наготу отца своего. Но с тех пор у меня открылось новое и ужасное зрение. Вот еще одна прелестная совсем молоденькая фрейлина, в которую я тоже был влюблен… Она заходит в его кабинет и выходит… немного растрепанной. Раньше я не обратил бы внимания, но теперь… Я узнал, что две хорошенькие фрейлины, внезапно исчезнувшие из дворца, выданы замуж за офицеров из лейб-гвардии, и обе… быстро родили… Вот привезли красотку мещаночку с каким-то прошением, и отец вдруг согласился ее принять… Она выходит из его кабинета улыбающаяся, счастливая, чтобы больше никогда не появляться… Теперь я на все смотрел другими, грешными глазами… Как Адам, вкусивший запретный плод… Я молился, чтобы ушло наваждение, и ненавидел мать за то, что она терпит… Но, может, всё-таки не знает?
И только потом я понял главное: она не смеет знать. Дочь прусского короля, она приехала из Германии, где все бредили чувствительной поэзией Шиллера… Ее нежная натура и заменила принципы чувствительностью… Отец питал к этому хрупкому изящному созданию страстное обожание сильной натуры к существу слабому. Он поместил ее в золотую клетку. И в своей волшебной темнице бедная мать ни разу не вспомнила о воле… Она боготворила его и видела вокруг только красивое, счастливое… И если кто-нибудь попытался бы рассказать о крестьянах, которые были рабами, которых можно проигрывать в карты, дарить друг другу, продавать, мать попросту отказалась бы понять, о чем речь. Она жила в прекрасном сне, который создал ей отец.
Но об этом знал только я… О, как я хотел убить маркиза, посмевшего рассказать всей Европе о стыдной тайной жизни отца!
Помню, тогда, в четырнадцать лет, узнав об этой тайне, я рыдал, встав на колени перед диваном и уткнувшись головой в подушки.
Но потом, успокоившись, я понял, почему я все время влюблен, почему так мучительно жажду женщину. Я знал теперь, что это не извращенность и не моя греховность, но страшный наследственный огонь, который горит в нас. Огонь, сжигавший всех, – великого Петра, Елизавету, Екатерину, Павла, Александра… и моего отца. И, как живые призраки их похотей, ходили по дворцу потомки их незаконных детей, награжденные титулами…
Да, с детства я был постоянно влюблен. И никогда не мог (да и не хотел) скрывать свою любовь. Я был влюблен в своих кузин. Потом в пышногрудую императрицу Елизавету с картины… В четырнадцать лет я влюбился во фрейлину матери Настеньку С. Она была очаровательна, ей было восемнадцать… И здесь – взаимность. Поцеловал ее в Петергофе. А потом…
Как-то летом отец устроил фантастический выезд. Он был помешан на рыцарстве и в Арсенале собрал великолепную коллекцию рыцарских доспехов… И однажды мы с ним – в великолепных рыцарских доспехах, принадлежавших Медичи, – сели на коней. За нами на лошадях выстроились все юные Великие князья в костюмах пажей, за ними – придворные дамы в платьях времен Лоренцо Медичи. Как была хороша Настя в этом платье! И ведь знала, плутовка…
Надо сказать, что, в отличие от отца, я с трудом выдерживал свой тяжеленный рыцарский наряд… Наконец мне было позволено его снять… И, уже освобожденный от доспехов, на обратном пути из Арсенала, у рощицы, я встретил Настеньку. Думаю, плутовка попросту поджидала меня… Мы оба были на лошадях… В роще привязали лошадей… Она сама подняла юбки, но никак не могла справиться со средневековыми панталонами… Проклятый флорентийский наряд! Я слишком желал ее. И, пытаясь разорвать панталоны, вдруг почувствовал острую боль. Семя изверглось из меня, я обессилел… Она лежала на траве – ждала дальнейшего… но я вскочил на лошадь и был таков..
Через день ее увезли из дворца. Отец узнал все тотчас (мне стало казаться, что Третье отделение прячется даже за соснами!). Правда, уже вечером заполняя свой дневник, я все понял. Оказалось, дневник, который я прятал в секретере, отец читал каждый день. У него был свой ключ. И я нашел молчаливый знак его недовольства и его цензуру – вырванные страницы, где я описывал свою влюбленность… Дневник передавал отцу мой камердинер, работавший в Третьем отделении… Впрочем, о моих влюбленностях можно было догадаться без дневника и без полиции. Как сказала мама: «Когда он влюблен, это тотчас объявлено на его лице…»
И вскоре я влюбился во фрейлину Оленьку Калиновскую.
Она была совершенно с картины Буше… Я обезумел! Я не мог без нее… Вскоре… произошло! Обстоятельства заставили меня пойти к матери. К отцу идти я не посмел…
– Дорогая мама! Я вынужден отречься от великой миссии Наследника Престола. Я хочу посвятить свою жизнь семейному счастью с вашей фрейлиной Оленькой…
Мать ничего не ответила мне. В это время с развода гвардии приехал отец.
Мать сказала мне:
– Подожди в соседней комнате.
Они остались одни. Но говорили нарочно громко, чтобы я слышал их разговор.
– Что будем делать? – спросил отец.
Он опять все уже знал, а я опять забыл об ужасном отделении, которое следит за каждым шагом.
Мать:
– Ему надо иметь больше силы характера, иначе он погибнет… Он слишком влюбчивый и слабовольный и легко попадает под чужую волю. Он всерьез заговорил о женитьбе… Надо его непременно удалить из Петербурга…
Отец позвал меня:
– Знаю, ты хотел бы с ней проститься, но это, увы, невозможно.
– Как проститься? Почему невозможно? – вот и все, что я тогда пролепетал.
– Потому что она уже едет прочь из дворца. Она выходит замуж, и очень удачно. Твое будущее дитя будет носить фамилию князя Демидова-Донато. Но ты действительно женишься. На днях ты отправляешься в путешествие… Сначала это будет путешествие по России. Ты должен представлять себе страну, которой будешь править. Потом – по Европе. Надеюсь, ты найдешь в этом путешествии невесту, достойную Наследника великого престола.
Мой воспитатель поэт Жуковский должен был сопровождать меня. Он ждал меня в приемной. Я много рассказывал вечному старому ребенку о своей, конечно же, платонической (иначе он не понял бы меня) любви к Оленьке… И сейчас я бросился к нему, причитая:
– Зачем?! Зачем они лишили меня этой чистой, этой невинной любви?
Мы оба рыдали в объятиях друг друга…
Хотя Жуковскому по приказу отца уже сообщили о беременности Оленьки!
Но что значит для поэта жалкая правда в сравнении с высоким вымыслом!..
Этот старый ребенок всегда был платонически влюблен… Кстати, на склоне лет он получил наконец свою награду… Его любовь к шестнадцатилетней девушке нашла полнейшую взаимность, и шестидесятилетний ребенок женился и… родил пару прелестных детей!
Я проехал всю европейскую Россию… Но это путешествие опускаю, ибо подробно изложил его тогда же в моих письмах к отцу… Письма эти можно найти в моем архиве.
Надо сказать, я много плакал в дороге, вспоминая несравненную Олечку. Слезы мои высохли только во время следующего путешествия. Я должен был посетить королевские дворы Европы. Не только чтобы себя показать и на других со скукой посмотреть, но для того, чтобы достойно жениться.
Сначала была Германия. Мой родственник прусский король был от меня в восторге… Я пришел на могилу своей бабушки, королевы Луизы, самой красивой монархини Европы. Она едва не победила Бонапарта, естественно… красотой… После поражений от Бонапарта под Йеной прусский дедушка потерял много земель. И Луиза (тогда в расцвете свой красоты) решила отвоевать их… Для обсуждения окончательных условий мира она уединилась с Бонапартом… Если бы дедушка вовремя не прервал их уединенную беседу, то, как говорил сам Бонапарт: «Мне пришлось бы отдать завоеванное». В нее был влюблен победитель Наполеона Александр Первый, и, надо сказать, успешно. Дядя говорил… (далее вычеркнуто).
Итак, я приехал в Берлин. Мои красотки кузины… впервые я видел столько волшебниц! Каждая из них мечтала стать русской императрицей. Своим кокетством они сводили меня с ума… Я жил в знаменитом замке Сан-Суси, где когда-то разгуливал великий король Фридрих со своим гостем Вольтером. Этот мрачный мудрец-король, склонный к содомскому греху, не был моим героем…
Потом была Вена… Дом князя Меттерниха. Я много слышал о том, что он был не только самым хитроумным врагом Бонапарта, но и первостатейным Дон Жуаном… Дом его – сплошной соблазн… Вот уж поистине цветник. О, эти похожие на розы австрийские принцессы! Мы играли в «смелые фанты». И мне не забыть, как они восторженно подставляли губки. Меттерних много рассказывал о Бонапарте, но я плохо слушал (о чем нынче жалею)… Несмотря на краткость пребывания, я умудрился несколько раз серьезно влюбиться… И несчастный старый Жуковский тоже. Он даже написал несколько од в честь прелестниц…. Но подлинная любовь поджидала меня в Германии – в маленьком герцогстве Дармштадт. Это случилось во время ужина со скучнейшим герцогом Людвигом… Раскрылась дверь – и вошла моя будущая жена. Принцесса Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария… Ей было пятнадцать лет… Как она была чиста, как невинна! Ее глаза… лазоревые глаза, так напомнившие мне дорогие глаза матери… Я влюбился бесповоротно… Она читала наизусть Шиллера – к восторгу Жуковского, тотчас написавшего оду и в ее честь. Уже вечером я писал папа́: «Она понравилась мне с первого взгляда… Если Вы позволите мне, дорогой папа, после Англии я снова вернусь в Дармштадт».
Но впереди была Англия, откуда… ах, как трудно оказалось вернуться!
Королева Виктория!.. Ей было двадцать, и ее крестил мой дядя, Александр Первый. Нас бросило друг к другу…
Уже через пять минут я говорил с ней без умолку – это первый признак моей влюбленности. Я рассказал ей, как во время путешествия по России стоял на том самом месте, где переправился Бонапарт, и думал о том, как проходит мирская слава. Я хотел спросить о модном тогда слухе, будто Наполеон был отравлен англичанами… Но не посмел, чтобы не дай Бог не обидеть ее!
Она каким-то чутьем поняла вопрос и с негодованием отвергла этот слух.
Но спросила меня сама… о другом слухе, будоражившем воображение наших европейских родственников: правда ли, что победитель Наполеона Государь Александр Павлович не умер, но тайно ушел в Сибирь простым отшельником?
Я начал говорить, что это пустая болтовня, но она прервала меня:
– Только не смейте убивать скучной правдой эту прекраснейшую легенду.
И в ее дивных глазах были слезы…
И тогда я рассказал ей, как бесконечно печален был Победитель Бонапарта перед смертью…
Потом мы читали Гете. Я читал наизусть, а она подхватывала концы строчек.
И глаза мои говорили: «Как ты нежна… можешь ли ты полюбить меня? Потому что я уже тебя люблю!»
«Могу… еще как могу!» – отвечали её невинные глаза.
Она, конечно, понимала, что наш брак невозможен. Ведь, став ее мужем, я потерял бы права на русский престол. Но она не хотела отпустить меня…
Через два дня – бал в Букингемском дворце. Никогда не забыть этот бал…
И она сказала своей любимой фрейлине: «Русский принц – первый мужчина, которого я полюбила…» И позаботилась о том, чтобы эти слова передали Жуковскому… Нет, никогда я не видел такой самостоятельной отважной девушки! И наш поэт был в восторге, наблюдая нас, так страстно полюбивших друг друга с первого взгляда… Он, конечно же, написал оду.
Я решил отдать корону, только бы быть с ней вечно!
Жуковский написал папа́: «Королеве явно приятно общество Его императорского Высочества. Вокруг все только и говорят: они – идеальная пара. Если великий князь сделает предложение королеве, оно будет принято без колебаний».
Какие это были дни! Спектакль в Опере… Мы сидели каждый в своей ложе, но в антракте я вошел к ней… Теперь мы сидели, взявшись за руки, и молчали Я провел с нею наедине в этом молчании около получаса, счастливейшего в моей жизни.
Как я ждал ответа отца!
Последний бал состоялся в Виндзоре. Днем я увидел ее. О, как она была отважна, как презирала предрассудки! Разговаривая со мной, попросила дозволения отлучиться на пару минут… оставив на столе раскрытый дневник. И я прочел: «27 мая 1838 года. Виндзор. Семь пятнадцать. Обед в великолепно украшенной зале Сент-Джордж-холла… Я совершенно влюбилась в Великого князя, он прелестный, он очаровательный молодой человек. Я танцевала с ним… Он невероятно сильный, так смело кружит, что я едва поспевала… Мы мчались вихрем!.. Никогда прежде я не была так счастлива. До пяти утра не могла заснуть».
Я сказал ей на балу:
– Я взволнован этой… встречей и никогда ее не забуду. Поверьте, это не просто слова…
– Я тоже никогда не забуду, – сказала она.
Но все оказалось тщетно. Расстроенный Жуковский принес мне письмо отца: «Назад в Дармштадт, юный глупец! России нужен Наследник Престола, а не жалкий муж английской королевы».
Увидев меня, она все поняла.
Я сказал, что должен уезжать… Благодарил ее за гостеприимство, но в глазах были слезы. Я плакал и не хотел скрывать. Она утешала меня… и вновь наши руки соединились… Я прижался к ее щеке… и поцеловал. Она ушла со слезами на глазах.
На следующий день – прощание.
Утром я уезжал. Прелестно-застенчиво улыбаясь, дала мне прочесть дневник!
«Лорд Пальмерстон привел Великого князя, чтобы он попрощался со мной. Мы остались одни. Он взял мою руку и крепко сжал в своей. И сказал: «У меня нет слов, чтобы выразить все мои чувства». Добавил, как глубоко признателен за прием и надеется еще побывать в Англии. И тут он прижался к моей щеке, поцеловал меня так добро, сердечно, и мы опять пожали друг другу руки. Я ощущала, что прощаюсь с близким родным человеком… Я даже немножко… конечно, шутя, была влюблена в него…»
Так, словом «шутя» эта божественная девушка как бы освободила меня от беспомощных сожалений. Она ведь все понимала. Ибо она была прежде всего королева. Она это доказала свой жизнью. Хотя думаю, что тогда она еще верила в меня, в то, что я все-таки попытаюсь. Но что я мог против папа́! Да и кто во всей стране что-нибудь мог против его воли!
Уезжал с разбитым сердцем… На прощание я подарил королеве любимого пса по кличке Казбек. Она не расставалась с ним до его собачьей смерти…
Из Лондона вернулся в Дармштадт, о котором, признаюсь, совершенно позабыл.
Жуковский рассказал мне, что, пока я влюблялся, отец поспешил договориться с герцогом, и его дочь, которая мне так понравилось, согласна перейти в православие.
Я женился и был очень счастлив. Она была не только хороша. Она оказалась удивительно умна. Я очень часто колебался в жизни, но она была мне опорой все эти годы… Мой отец очень любил и ценил ее. И она его искренне уважала. Она, конечно же, догадывалась о другой жизни моего отца, но заставила себя верить: отец любил только мою мать.
А потом отец умер.
Перед смертью он оказался разбит и унижен.
Началось с того, что в очередной раз он попытался навести порядок в европейских делах. Он считал себя единственным защитником славян. Требовал от Турции особых прав для христиан. Когда Турция не согласилась, он попросту оккупировал дунайские княжества. И тогда сильнейшие европейские монархи напали на него скопом, все вместе!
Добро бы ненавистная отцу Франция, но против отца выступила Англия! Особенно подло повел себя австрийский император, которому отец так недавно помог подавить восстание в Венгрии. Наша армия, которую папа́ считал величайшей в Европе, была разбита… Из окна кабинета любимой виллы «Александрия» отец мог наблюдать в бинокль… вражеские суда! Выяснилось, что наш флот безнадежно устарел и вся наша военная мощь была легендой… Союзники высадили десант в Крыму и заперли нас в Севастополе…
Вести с фронта становились хуже и хуже. Папа́ заболел гриппом и отказался лечиться. Он был истинный рыцарь. После поражений своей армии он не захотел жить.
В своем кабинете на первом этаже дворца он лежал на жесткой походной кровати, прикрывшись солдатской шинелью. Никого не принимал, кроме матери и нас. Государственные бумаги повелел носить ко мне. Мать сидела рядом с ним, держа его руку… Потом ходили слухи, будто, отчаявшись уйти из жизни от гриппа, отец потребовал яд у нашего добрейшего Мандта. Медик умолял его не делать этого, но отец был неумолим. Он приучил – никто не смел ослушаться…
Во всяком случае, я боялся проверить тайну отца и никогда не говорил об этом с добрейшим Мандтом. Я стараюсь верить – папа́ просто сдался смерти.
14 февраля он распорядился сообщить двору о своей болезни.
В кабинете отца уже поселилась Смерть. Мандт обещал скорый паралич легких. Отец после исповеди громким и твердым голосом произнес молитву перед причастием. Потом благословил всех нас – своих детей и внуков… Каждого благословил отдельно, с каждым побеседовал.
Мне сказал кратко:
– Оставляю тебе «команду» не в надлежащем порядке. Оставляю тебе много огорчений и забот… Крестьян освободи… Но держи все – держи вот так!.. – Крепко сжатым кулаком железной руки он показал мне, как нужно держать Власть в России.
И вновь благость надвигавшегося конца вернулась к нему…
Благословил мою Машу… Он очень ее любил. Она была похожа на мою мать… и к тому же умна. Причем умна настолько, чтобы уметь прелестно скрывать это. Папа взял ее руку, взглядом показал на мою мать, поручая мать ей. Благословив всех, он сказал:
– Помните, о чем я так часто просил вас: всегда оставайтесь дружны.
Как много дало всем нам, оставшимся жить, это торжественное расставание…
В этом – одна из причин того, почему я боюсь убийства. Я боюсь исчезнуть из жизни, а не как отец – удалиться с молитвой. Как сказала старая фрейлина матери: «Я боюсь прийти к Нему впопыхах!»
Мать была добра к отцу до конца. Она сказала:
– С тобой хотят проститься Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен… – она перечисляла для благопристойности имена своих фрейлин и закончила: – и Варенька Нелидова.
Отец поблагодарил ее взглядом:
– Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть, ты скажешь ей, что прошу меня простить, что я за нее молюсь… и прошу ее молиться за меня. – После чего сказал: – Теперь мне нужно остаться одному – подготовиться к последней минуте.
Мать прилегла на кушетке в соседней зале.
Так наступила последняя ночь…
Меня позвали в кабинет. Отец хрипел… Прохрипел Мандту (по-немецки):
– Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка?
Затем прибавил:
– Я не думал, что так трудно умирать.
Вошел наш священник читать отходную. Отец со вниманием слушал и все время крестился. Когда священник благословил его, осенив крестом, он сделал ему знак тем же крестом благословить меня и мать. До самого последнего вздоха он старался выказать нам свою нежность.
После причастия сказал:
– Господи, прими меня с миром… – И успел прошептать матери: – Ты всегда была моим ангелом-хранителем, с того момента, когда я увидел тебя в первый раз, и до этой последней минуты…
Началась агония. Он отошел.
…Мы все стояли на коленях вокруг кровати. Взглянув на него, я был поражен – какое это было… неземное выражение. Я смотрел на него, не сводя глаз, прикованный к божественной тайне, которую читал на любимом лице. Той ночью мне раскрылось нечто… И я молил Бога, чтобы он не дал мне забыть этого…
И вот я Император!.. За окном ослепительное холодное солнце, и так же горит шпиль собора в Петропавловской крепости, как в тот далекий день, когда он обнял меня и сказал мне, что я Наследник.
Первый раз за полтора столетия престол передавался в совершенном спокойствии. Благодаря отцу, наша гвардия навсегда была устранена от вмешательства в наши дела.
Костя присягнул первым. Мы обнялись. И прошлые ссоры были навсегда забыты. Мы помнили завет отца.
В России так уж положено: когда на престол вступает новый царь, пробуждаются великие надежды. После похорон отца… как это ни тяжело писать… словно нечто тяжелое спало со столицы… кончился какой-то гнет… Будто похоронили не Государя, а целую эпоху… И все надеялись… И что греха таить, не так, как хотелось, вспоминали о времени отца. Помню, вечером мы сидели с Костей и подводили итоги.
Отец и вправду оставил «команду» в ужасном непорядке… Казна была пуста. Армия беспомощна и ужасно вооружена. По всей Европе отменили телесные наказания – а у нас секли, и беспощадно. Секли преступников, секли гимназистов, секли крепостных… Особенно зверски секли солдат. Секли за плохую выправку, за неряшливость в форменной одежде – до пятисот ударов, и полторы тысячи за попытку побега из армии, три тысячи за вторую…
Мне было двадцать, когда отец, «закаляя плаксу», повелел мне наблюдать наказание – пятьсот ударов.
Солдатика оголили до пояса. Ударил барабан. И повели его, болезного, сквозь строй, привязанного за руки к двум ружьям… Вели два солдата. Вели медленно, чтобы каждый мог ударить шпицрутеном. Во всю силу. Перекрикивая барабан, несчастный вопил, умолял, удары сыпались беспощадно… Уже кожа висела лоскутами, уже шатался… упал… подняли… Спины нет – обнаженное кровавое мясо… Еще упал, не вставал… Уже не слышно молений – конец. И мертвое окровавленное тело положили на дровни, и солдаты поволокли дровни с трупом. По хлюпающему кровавому месиву строй докончил положенное число ударов.
Меня рвало, отец презрительно усмехнулся.
Но тогда, вернувшись домой, я не мог глядеть на счастливо щебетавшую мать.
Я помнил то, что сказал Бонапарт: «Высеченный солдат лишен самого главного достояния воина – чести!»
Куда ни кинь взгляд, всюду плохо, всюду была гниль… Костя сказал:
– Надо немедленно начинать. Общество ждет.
Появился даже термин – «оттепель»… Оттепель после мороза отцовского царствования.
В тот вечер честный Костя предложил немедля объявить обществу о разрыве с прошлым – о началах коренных реформ… Костя всегда прямолинеен. Я сказал:
– Объявлять обществу мы ничего не будем… Мы вынуждены молчать, щадя честь и память папа́. Более того, мы поставим папа́ памятник… и потом… начнем реформы.
Памятник поставили недалеко от той площади, где папа разгромил мятеж гвардии, сделав его последним мятежом!
Севастополь бился до конца, врагу досталась груда окровавленных руин.
«Севастополь не Москва… Хотя и после взятия Москвы мы потом были в Париже». Так сказал я народу… Храброму Косте, требовавшему продолжать воевать любой ценой, ответил словами герцога Шуазеля: «Если не можешь воевать, заключи мир».
Мы воевать не могли: «Надо сначала восстановить могущество. Нужны реформы. Но для этого, – я повторил: – нам нужен мир».
Условия мира были катастрофические – мы практически теряли Черное море… Костя руководил морским ведомством и потому был особенно зол.
Но я разрешаю обсуждать мои действия только до моего решения…
Я начал с главной реформы. В нашем просвещенном столетии, когда все страны Европы давно освободились от рабства, подавляющее большинство моих подданных были крепостными рабами. Два моих предшественника (дядя и отец) отлично понимали, что сделать это необходимо, и… отступили. Ибо дворянство, главная опора наша, да и церковь – все были против.
И дядя, и отец помнили о судьбе своих отца и деда.
Крепостное право было сутью тогдашней русской жизни… Эти милые сердцу помещичьи усадьбы – с патриархальным бытом, с великим хлебосольством, где трудились бесправные рабы… Просвещенные наши помещики, любители Вольтера, покупали, продавали, проигрывали в карты своих крепостных – и это во второй половине девятнадцатого века!.. Законы религии и брака попирались каждый день. И множество незаконных помещичьих детей становились рабами своих братьев – детей законных… Но зато при этом положении Государству не нужны были ни суд, ни многочисленная полиция для крестьян… Помещик был их судьей и полицейским – он следил за своими крестьянами… Из крепостных набиралась наша битая шпицрутенами крепостная армия… Правда, некогда она победила Бонапарта… но сейчас была повержена. И самое ужасное – никто не представлял иного порядка. Мне предстояло взорвать всю прошлую, освященную веками и церковью русскую жизнь… И, взорвав, создавать все заново – управление на местах, суд, армию.
Двадцать три миллиона рабов с надеждой ждали моего решения…
В переполненном дворянами зале я сказал:
– Я решил это сделать, господа. Ибо если не дать крестьянам свободу сверху, они возьмут ее снизу.
И вскоре я услышал ропот… Опасный открытый ропот.
Я явственно услышал его после коронации в Москве.
Я прибыл в древнюю столицу уже по-современному, не в каретах, а по железной дороге. Но прежним был малиновый звон колоколов «сорока сороков московских церквей»…
Мы ехали с Машей по Тверской под этот перезвон и грохот артиллерийского салюта… Помню, тысячи испуганных ворон и голубей закрыли небо.
Наступило оказавшееся столь трудным 26 августа. Началось все хорошо.
Я вышел под руку с Машей на Красное крыльцо. Она была грустна и сосредоточена… Почему-то был грустен и я…
Нас встретило солнце, ослепительно сиявшее после стольких дней дождя.
Поставленные эстрады были переполнены публикой.
Во всех бесчисленных московских церквах и кремлевских соборах звенели колокола. И с Красного крыльца я поклонился моему народу.
Толпа радостно прокричала приветствия. Заиграли военные оркестры, ударил пушечный салют. Спустившись с лестницы, мы встали под балдахин, который несли высшие сановники… Процессия двинулась в собор.
К сожалению, высшие сановники, как им и положено, были в преклонных летах, и я боялся, как бы с ними чего не случилось. И не зря боялся…
В ужасающей духоте собора случилось то, чего я ожидал.
Старик, генерал-адъютант Горчаков, держал малиновую подушку, на которой лежала золотая держава… От духоты он потерял сознание – покачнулся и упал на церковный пол… Круглая золотая держава, смешно подпрыгнув, с перезвоном покатилась по плитам собора. Все бросились поднимать ее, а я – старика. Его привели в чувство, бедный старый генерал готов был умереть. Но я нашелся, сказал громко: «Ничего, что упал здесь. Главное – стоял твердо на поле боя».
Но тотчас последовало не лучшее продолжение…
Облаченный в порфиру, я преклонил колена, и митрополит благословил меня. Взяв корону из рук митрополита, я возложил ее себе на голову.
И тогда Маша, пугающе бледная, встала с трона и преклонила передо мной колена… Я надел на ее голову малую корону. Статс-дама, тоже весьма немолодая, закрепила её бриллиантовыми булавками.
И тут опять случилось!.. Когда Маша поднялась с колен, корона упала… Старуха от волнения плохо закрепила… Какой ужас был на лице Маши!.. Я понял, что сейчас она упадет следом за короной.
– Держись, милая, – прошептал я.
Я снова возложил корону, и уже все четыре статс-дамы, красные от ужаса, закрепили ее шпильками… От усердия они оцарапали Маше голову.
Мы сели на троны под выстрелы пушек и колокольный звон. Я сидел со скипетром и державой. На мне было килограммов пятнадцать орденов и регалий. Я задыхался в духоте. Бедная Маша тоже держалась из последних сил.
Свидетелями неприятных происшествий были только первые ряды. Остальные ничего этого не видели да и мало что слышали в шуме собора. Меня удивило новое отношение людей к происходившему. Люди смеялись, болтали, некоторые взяли с собой еду и преспокойно ели во время церемонии… Попробовали бы они все это во времена отца!
Я вышел в короне из собора. Маша в короне шла рядом. На лице ее – ни кровинки. Я тоже, вероятно, был хорош.
Мы опять шли в грохоте пушек, звоне колоколов и криках приветствий. Шли по высокому помосту, укрытому красной материей… И я думал: только бы в завершение дня не упасть с этого помоста… Слава Богу, обошлось.
Вечером вышли на террасу у самой крыши дворца. Внизу лежала древняя столица. Все горело иллюминацией – зубцы древних башен, колокольня Ивана Великого, соборы…
Маша стояла рядом и несчастно шептала:
– Корона упала… Ты меня бросишь…
Я целовал и всю ночь любил ее.
Но как сообщило Третье отделение, начали упорно распространяться слухи о дурных предзнаменованиях во время коронации.
Третье отделение быстро их успокоило, все еще помнили железную руку папа́. Был пущен полезный слух: будто оптинские старцы предсказали, что царствование будет долгим, спокойным и благодатным.
И продолжалась борьба за реформу. Мы работали за полночь. Я часто выходил с заседаний, когда пели птицы…
Опять обсуждения, опять проволочки… Но когда противники были особенно упрямы, я заявлял просто:
– Я так повелеваю, я так хочу.
И они тотчас вспоминали времена папа́.
Наступил великий день – Государственный совет, ненавидевший реформу, принял ее. Крестьян освобождали… с землей. Правда, с небольшим наделом, который они должны были выкупить при помощи государства…
Но главное – освобождали.
Мне принесли на подпись множество листов.
Росчерками пера я должен был порвать цепь, которой было тысячу лет…
Двадцать три миллиона русских людей должны были перестать быть рабами.
Утром появился Костя… Он был главным помощником в этом деле…
Я выпил кофей с ним и Машей… Потом пошел в домовую церковь. Попросил оставить меня там одного.
Я очень долго молился один… Я хотел услышать Его голос.
И, клянусь, услышал. Быстрыми шагами вернулся в свой кабинет. Перекрестился. Обмакнул перо – и подписал.
Прежней вековой жизни более не существовало.
Историческое перо подарил тогда Никсу… только оно ему не понадобилось.
Какой был восторг! Толпы ждали меня… У портретов моих молились Богу. Мне приходилось выходить из дворца с другого подъезда. На разводах офицеры кричали: «Ура!» Самый страшный враг отца, эмигрант Герцен, славил меня из Лондона… Не скрою, несмотря на всё его злоязычие… было приятно.
Все тронулось. Будто ледоход… Весна… Свобода! Во время правления отца на улицах Петербурга было малолюдно… Все сидели по департаментам или ездили в каретах. Если и выходили погулять, то старались ходить как-то сжавшись, тихо, незаметно…
И вот мы с Костей в офицерских мундирах инкогнито вышли на Невский.
Боже, сколько там гуляло молодежи, сколько красивых молодых лиц… Все жестикулируют, о чем-то спорят и главное – громко разговаривают!
Но свободными крестьянами кто-то должен был управлять. Бесплатные управители – помещики – канули в Лету. Пришлось придумывать новую власть – земские учреждения. Создавать и новый суд… Я подписал новые «Судебные уставы», где было впервые провозглашено равенство всех перед законом… В стране вчерашних рабов я создал суд присяжных. Весь прежний уклад русской жизни менял я.
Я был счастлив! Счастлив безмерно… когда с изумлением понял: я не угодил никому. Выяснилось, что недовольны… все! Помещики, которых спас от кровавых восстаний… Еще вчера они соглашались, что рабство противно Божьему закону. Теперь же заявляли, будто преданы обычаи отцов и разорены дворянские гнезда… Их многочисленная дворня – крепостные, работавшие слугами при доме, забывшие, что такое труд на земле, развращенные ленью, легкостью прелюбодеяний, которые так легко свершались в людских, переполненных незамужними девками, стали называть день освобождения «днем несчастья»…
Теперь ко мне все чаще являлся по утрам полковник Кириллов, начальствующий над сыскной полицией в Третьем отделении. Едва выпив кофей, я узнавал от него печальные новости… Оказалось, что сами освобожденные крестьяне-землепашцы недовольны свободой… Кто-то распространял слухи, будто объявлена ложная свобода. Будто есть некая истинная, подлинная воля, по которой крестьяне получают много земли, и совершенно бесплатно… Эту волю дворяне от крестьян утаили… В деревне начались кровавые восстания, поджоги дворянских усадеб и прочие бунтовские радости…
Вскоре заговорила и молодежь. Та самая молодежь, которой я дал столько свобод… Потребовали Конституцию, и немедленно… Парламент захотели в стране, где только вчера большая часть населения была в рабстве, где девяносто процентов крестьян не знают грамоты! Такова Россия!
Все тот же Кириллов принес мне перехваченные прокламации наших нигилистов… И я прочел печатную благодарность за все, что сделал!
«Нам нужен не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье… Если царь не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него».
Ни больше ни меньше!
«Выход из этого гнетущего страшного положения… один – революция, революция кровавая и неумолимая, – революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.
Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы…
Мы издадим один крик: «в топоры» – и тогда… тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!
Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто будет против – тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами…»
Я читал и вспоминал об отце. О его завете – о кулаке.
В Петербурге пошли непонятные пожары. Каждый день над городом стояло красное зарево. Выгорели целые районы… Огонь пробрался в центр – угрожал Пажескому корпусу и Публичной библиотеке… и я сам руководил тушением.
Кириллов сказал то, что думал я сам… не хотел, но думал, думал! Это не пожары – это поджоги. Молодые люди перешли от слов к делам!
Двор волновался… Ненавистники реформ тотчас придумали обвинять не меня, а… Костю! Будто реформы, приведшие к хаосу, – плод его дурного влияния… на меня! А сам я несчастная жертва.
И опять приходил с докладом Кириллов… Этот Кириллов – еще молодой человек, но уже сделал прекрасную карьеру – заведует политическим сыском… И не зря. Он воистину знает все…
Во время доклада Кириллов заговорил о другом Косте – Константине Петровиче Победоносцеве… Откуда-то знает, что я намерен сделать его главным воспитателем нового Цесаревича.
Сначала Кириллов долго хвалил Константина Петровича. Сказал, что Победоносцев умнейший, образованнейший человек, великий законовед… И только потом перешел к сведениям, добытым людьми его профессии. Поведал, что вчера Победоносцев заявил в разговоре с фрейлиной Тютчевой: «Нет, не зря Держава покатилась в Соборе… Если вовремя не прекратить наши безумства (то бишь мои реформы!), Держава воистину скатится в бездну. И мы – с ней». В той же беседе с фрейлиной Тютчевой он обещал «привести Наследника к другому полюсу» – то есть сделать сына врагом реформ отца!
– И в довершение, – сказал Кириллов, – он осмелился бранить Ваше Величество за то, что вы, осмелюсь процитировать, «не понимаете страны, которой правите».
– Как странно, я, кажется, не успел сделать ему ничего хорошего… За что же он так меня бранит?
Кириллов улыбнулся и сказал:
– У Вашего Величества справедливое мнение о людях. Те, кто расследует человеческие тайны, его разделяют…
Это было очень серьезно. Победоносцев прежде читал курс законоведения Никсу. После смерти Никса я действительно сделал его основным воспитателем Саши.
Теперь я должен был от него освободиться…
Если папа был недоволен служащим, он незамедлительно изгонял его со службы… Я сторонник иного – метода прабабушки Великой Екатерины… Я, наоборот, начинаю с милостей, чтобы изгнанный мог объяснить впоследствии себе и окружающим, будто отнюдь не прогнан, просто ему дали отдохнуть в заботе о его здоровье… Так вокруг меньше недовольных и, следовательно, интриг.
Я решил сам поехать к Победоносцеву, чтобы все видели знак моего благоволения, прежде чем я с ним расстанусь.
Победоносцев ждал меня в своем огромном кабинете в нижнем этаже. Посредине стоял чрезвычайных размеров громадный стол с бронзовыми львами… Были еще два стола, покрытые колоннами книг.
Он стоял у стола, почтительно склонив голову… Необычайно худой, этакий высокий скелет с оттопыренными ушами, носом-клювом и нависшим над лицом высоченным лбом…
– Я давно мечтал поговорить с вами, Ваше Величество… И вот сподобился, слава тебе Господи! – истово перекрестился…
На это обязательное верноподданническое вступление я не ответил, ласково глядя на него.
И тогда последовал его монолог:
– Ваше Величество, поверьте, мы… иные! Мы не Европа. У нас свой путь развития. Наш Ковчег Завета – это наши традиции… Мы все должны делать не торопясь. Тихими стопами добираться до Европы… Нетерпение для нас смерти подобно. Всегда говорю извозчику: «Плачу, чтоб вез медленно». И знаю: карета не перевернется даже на наших ужасных дорогах… Европа требует, чтоб мы ввели у себя побыстрее все свободы, не понимая, как наши люди опасны в свободе. Жозеф де Местр, посол Пьемонта, умнейший человек, которого так ценил незабвенный Государь Александр Павлович, часто говаривал: «Дать в России много свобод – это то же, что дать никогда не пившему человеку много вина и ждать от него разумных действий». Есть поучительная легенда о духе разбойника Степана Разина, который заключен в скале… Только беспощадная власть и суровые законы царей сдерживают в скале анархический, бунтарский дух народа. Дикий человек с кистенем в руке жаждет выйти из скалы в наше бескрайнее поле. В свободе наш не ведавший свободы дикий человек – страшен, он весь мир вокруг себя разрушит и потом сам же себя погубит… Европейцы – люди порядка… Если негодует, вы видите: он негодует… Наш человек поприветствует, поклонится лбом в землю низко, а потом с тем же добрым лицом за горло ухватит и задушит. Перед тем не забыв перекреститься… Поверьте, Ваше Величество, вы задумали слишком много реформ сразу… Ваше Величество, я преподавал в университете и знаю, как опасны у нас молодые люди. Россия нынче опаснейше пробудилась, она от полученных свобод уже пьяная… Кровью как бы не кончилось, Ваше Величество! Как бы не появился у нас Пугачев уже с университетским образованием… Известный писатель Достоевский, мой очень хороший знакомый, который сам горячо заблуждался в молодости… замечательно сказал мне о наших молодых людях: «Если нашему молодому человеку дать карту звездного неба, он и ее тотчас исправит». Да Ваше Величество и сами видите – кажется, вы им достаточно дали, но они уже требуют всего…
Он еще говорил… много говорил…
Я слушал его с большим интересом. Этот умнейший человек говорил то, что внутри меня самого часто говорит другой голос… Голос папа́…
Я сделаю Победоносцева главным наставником Саши…
Однако возвращаюсь в ужасный день.
Осмотрев опальные картины, поехал на прогулку в Летний сад.
По дороге заехал в Мраморный дворец к Косте.
На лестнице у мраморных статуй меня дожидалась Костина жена.
Очень хороша, похожа на Марию Стюарт со старинного портрета… пока не начинает говорить. У нее гортанный хрипловатый голос. И к тому же ужасный французский. Как важен голос для женщины…
Вот у нее такой нежный голос.
Между тем Санни (Александра Иосифовна, супруга Константина Николаевича) шептала хрипло удивительные вещи:
– Я очень рада, что Ваше Величество приехали. Костя не велел вам говорить… Его Высочество, как известно, великий борец с суевериями… Но я обязана рассказать… Нам всем следует быть настороже. Дело в том, что вчерашней ночью вот в этой спальне появился он… Сейчас вам все доложит Никола…
По лестнице уже сбегал старший сын Кости.
Как хорош, мерзавец, – красавец, истинный гвардеец, украшение правого фланга. Впрочем, мой Никс не хуже… Был не хуже… Никак не научусь говорить о нем в прошедшем времени…
Красавец Никола недавно вернулся из Парижа. Костя рассказал на днях, что он полон впечатлениями – парижские музеи, театры совершенно зачаровали юношу. Но на днях я получил донесение французской полиции… Они рассказали: Никола в Париже не был ни в одном музее, ни в одном театре, зато усердно посещал притоны, где курят гашиш. И разнообразные бордели, порой самого опасного свойства, где девки могут заразить смертельными болезнями… При этом ловко дурачил приставленных к нему наших агентов… Но французских не провел. По-своему я люблю Николу, хотя, думаю, от него всем нам будет много хлопот!
Я уже собрался показать донесение счастливому отцу… Представил, как бедный Костя вздохнет, пообещает строго с ним поговорить. Но как ему с ним говорить, если сам он открыто живет с балериной…
Да мы все… с большими грехами. Маша права.
И тут мне показалось, что я не без радости готовился рассказать Косте о Николе… Неужели мщу за то, что мой Николай был, а его – есть?
Я решил не показывать французское донесение!
Никола начал рассказывать:
– Вчера ночью я поздно вернулся… – (нетрудно догадаться откуда). – И шел к себе через Белый зал. И посреди огромного зала в лунном свете… стоял он! – У Николы от возбуждения в глазах были слезы. – Император Павел Петрович, – шептал Никола, – в ночной рубашке… с кружевным воротом и большим пятном крови. Увидев меня… растворился в стене.
– Никола был ни жив ни мертв… от страха весь пропотел, – добавила Санни неприятным голосом..
– Я так и знал! – на лестнице показался Костя. – Опять эти бабьи рассказы. Как их любит моя жинка!
Он придумал звать ее простонародно – «жинка». Я не могу слышать это слово. Хотя мне показалось, он нарочно не вышел меня встречать, чтобы дать Николе рассказать.
Но Санни не унималась:
– Ваше Величество, что вы на это скажете?
Я пожал плечами и сказал, что могу лишь позавидовать Николе. Мне приходилось видеть нашего деда только на дурных портретах.
Но, несмотря на шутку, на душе стало смутно.
И это видение – дед в кровавой рубашке посреди бесконечного зала с мраморными колоннами – в лунном свете…
Можно представить, как я об этом вспомнил всего через какой-то час!..
И я поехал в Летний сад навстречу выстрелу.
В Летнем саду я гулял с молодыми Лейхтенбергскими. Рассказывал им смешные истории из детства – о проказах их матери, моей сестры Машеньки… когда увидел её.
День был ослепительно солнечный… В сопровождении горничной она шла по Летнему саду… Точнее, летела. Она была в маленькой шубке. И, сорвав меховую шапочку, радостно кричала:
– Ах, Дуняша, до чего же хорошо!
Солнце сияло. И лицо ее, запрокинутое к солнцу, тоже сияло!
Я вмиг торопливо распрощался с милыми родственниками. Думаю, с трудом скрывая улыбки, молодые люди отправились к карете в сопровождении моего адъютанта.
А я, избавившись и от них, и от адъютанта, быстрым шагом догнал её.
Гулявшие – их было немало в этот солнечный день, – обнажив головы, глазели на нас…
Она сказала:
– Дуняша, подождите меня здесь.
Дуняша отстала, села на скамейку.
Мы вошли в пустую аллею…
– Я хочу сегодня вечером показать вам картины… Это маленькая выставка во дворце…
– Какие картины… какая выставка? – отчего-то смеясь, спросила она.
И тут, потеряв голову, я наклонился к ней. И она, поднявшись на цыпочки, схватилась за мои плечи, поцеловала…
И зашептала:
– Я так люблю вас сегодня, что даже пугаюсь…
И, держа шапочку в руках, опрометью, как мальчишка, пустилась бегом по аллее… Каштановые волосы скрылись за поворотом…
Постоял, все еще чувствуя ее детское ясное дыхание, ее губы. Как был счастлив! Не знал тогда, что всего через несколько минут…
Помню, шел по аллее к выходу и улыбался…
Мне минуло сорок, когда увидел её. Я прибыл на маневры под Полтавой. Остановился в поместье моего флигель-адъютанта князя Михаила Долгорукого. Славная древнейшая фамилия. Они Рюриковичи, в их роду святой Михаил Черниговский и основатель Москвы Юрий Долгорукий…
Помню, как после ужасного обеда отправился погулять по огромному парку. И вдруг навстречу мне идет совершеннейшая кукла – в белых панталончиках, в розовом капоре, из которого вывалилась тяжелая каштановая коса…
На мой вопрос:
– Как тебя зовут? – кукла ответила незабываемо:
– Екатерина Михайловна.
Ей было тогда одиннадцать лет!
– А что ты здесь делаешь?
– Ищу Императора, – все так же важно сказала она.
За завтраком усадил на колени маленькую красотку. Она вдруг совершенно покраснела, стала пунцовой, и я… почувствовал грешную тяжесть ее тела… И тоже покраснел.
На следующий день я уезжал. И в саду снова встретил её. Это было смешно, но она меня явно ждала.
– О вас плохо заботятся, Ваше Величество, – сказала она, глядя на меня зелеными газельими глазами, – немедля выговорите камердинеру – у вас сорочка несвежая.
Одиннадцатилетняя девочка разговаривала со мной, как маленькая женщина…
Я только потом понял: она была женщиной с рождения, эта маленькая Джульетта. И, страшно сказать, я почувствовал в ней эту женщину…
Изысканно-любезно она предложила мне показать сад. К счастью, к нам присоединился появившийся из дома отец. Прощаясь и закинув голову, чтобы встретиться со мной глазами, маленькая нимфа произнесла церемонно:
– Ваше Величество, я навсегда запомню этот день…
Прошло несколько лет. Я совсем забыл о ней, когда Адлерберг передал мне письмо от ее матери. Умер ее отец, сделавший невозможное: промотал одно из крупнейших состояний России! Семья осталась без гроша.
Как насмешливо сказал Адлерберг: «Сумел передать детям единственный капитал – свою красивую внешность». И я тотчас вспомнил – и тяжесть тела на моих коленях, и её косу… Короче, греховно (что тут таиться, замаливать надо!) решил стать их опекуном. Заложенное и перезаложенное родовое имение перешло под мою опеку, оплатил расходы по воспитанию детей. Мальчиков определили в Пажеский корпус, а ее и ее сестру отправил в Смольный институт благородных девиц.
Она попросила об аудиенции. И состоялась наша вторая встреча – в Петербурге.
Вошла, сверкая зелеными глазищами в пол-лица.
Я сообщил ей о своих распоряжениях.
– Мне сказали о них, Ваше Величество. Я осмелюсь поблагодарить… и отказаться. Я не вправе отказываться за братьев и сестру, но за себя – отказываюсь.
Я молчал. Она торопливо продолжала:
– Я не нищая, Ваше Величество, я – бедная. Это иное. Я княгиня Долгорукая. И хотела бы оградить себя от подаяний…
Я смотрел на прекрасное лицо – гнев идет юным красавицам. Я сказал строго:
– Вы можете не подчиниться мне как человеку, желающему заменить вам отца. Но вы не смеете не подчиниться мне как Государю, – и, засмеявшись, прибавил: – Надеюсь, помните, своеволие отправило на плаху не одного из славных Долгоруких…
Но, видимо, в этом вопросе юмор был ей недоступен:
– Что ж, если Вашему Величеству понадобится моя жизнь…
Ответ был очень удачен для меня.
– Ну, конечно, понадобится, милый ребенок… – сказал я отечески. Засмеялся, поднялся: – Я очень прошу вас, милая Катенька, в память о нашей старой дружбе принять… – И неожиданно для себя… обнял ее.
Мы молча стояли, обнявшись. Она… дрожала.
Я отпустил ее. Расплакалась и убежала, нарушив все правила этикета.
С тех пор началось…
Честно говоря, после тех объятий я был уверен, что все случится как обычно. То есть стремительно и прекрасно.
Но произошло необычное… Сперва встречи на людях. Потом безумные объятия в моей карете, молчаливые поцелуи… и её яростные слезы… Мои грешные руки… И ее шепот: «Нет! Нет!»
Я вел себя, как пятнадцатилетний лицеист!
И до сих пор – ничего.
На днях в первый раз её привезли во дворец… Сообщил ей, что хотел бы, чтобы она ушла из Смольного и стала фрейлиной Императрицы, с которой я уже переговорил.
Маша сказала мне тогда:
– Воля Вашего Величества священна. Но спрячьте свои глаза, мой друг!
Бедная Маша помнила «эти глаза»… Почти тридцать лет прошло с тех пор, как я глядел на нее «этими глазами». Но я уже не помнил.
Однако отказалась она. Преспокойно посмела отказаться.
Сказала:
– О нет, Ваше Величество, это спящий и пустой мир. Оживает он только на балах и при вечернем свете… В этом мире мишуры царствуют туалеты и бриллианты, которые будете дарить мне вы, ибо мы беднее церковных крыс. И все вокруг станут их обсуждать, а я буду еще одной ряженой куклой… Вашей куклой.
– Что же вы хотите?
И она ответила словами, которые теперь произносит молодежь:
– Служить Отечеству.
Невероятно! Как изменилась жизнь, как изменилась страна. Я хорошо помню дворец при отце… В самом воздухе его было что-то благоговейное. Люди во дворце говорили шепотом, ходили, горбясь, в каком-то полупоклоне – чтобы казаться меньше и услужливее… Все было наполнено присутствием Богом данного Повелителя. Теперь совсем не то… Маленькая воспитанница Смольного института спокойно не приняла предложение своего Государя. И, самое удивительное – это результат изменений, которые совершил я.
Думая об этом, шел к выходу из Летнего сада… Собака бежала впереди. Я радостно отвечал – кивал людям, торопливо снимавшим шапки. Должно быть, улыбался им – был от счастья как пьяный.
Оставались минуты.
Вышел из сада. Был четвертый час.
У решетки Летнего сада стояла толпа зевак. Так всегда, когда выхожу из Летнего сада после ежедневной прогулки. Полицейский прогуливался вдоль толпы, увидев меня, вытянулся.
Рядом с моей коляской скучал жандармский унтер-офицер. Заметил меня и тоже вытянулся. Я подобрал длинные полы шинели, готовясь сесть в коляску. Жандарм помогал сесть…
И в этот момент в тишине замершей почтительно толпы услышал оглушительный хлопок. Выстрел.
Тотчас из испуганно расступившейся толпы выскочил кто-то молодой, высокий… Бросился наутек по набережной в сторону моста.
Но полицейский уже рванулся за ним…
Оцепенев… я смотрел, как они бегут.
Прошли мгновения, я услышал голос жандарма, в который раз повторявшего:
– Ваше Величество, надо ехать… Здесь могут быть еще злодеи… Ваше Величество! Надо ехать, прошу Вас.
А я все стоял – смотрел, как полицейский, догнав молодого, опрокинул его на землю, вырвал пистолет, бил им наотмашь по лицу…
Тот жалко защищал свое лицо от ударов. И вопил одно и то же:
– Ребята, пожалейте, я за вас стрелял! Пожалейте!
– Да прекратите, наконец! – крикнул я. – И уведите мерзавца!
Сел в коляску, и мы поехали.
– Ваше Величество, может, изменим путь? – спросил кучер.
Я не сразу сообразил, о чем он.
– Может, не надо нам по Миллионной? Злодеи знают наш обычный путь и могут…
– Обычным маршрутом! – приказал я.
Не хватало еще, чтобы я прятался в собственной столице!
Но ведь стреляли! Стреляли! На своего царя впервые при народе посягнули! И это после всего, что сделал для России.
Та же ночь на 5 апреля 1866 года.
Дописано мною в два часа ночи.
Не смог заснуть. Решил вернуться к случившемуся.
Вижу некую мистическую линию… Слышу шепот моего Ангела, который предупреждал весь день… и которого я не услышал!
Боже мой, что происходит сейчас, после выстрела?
Столица сошла с ума. Все вспомнили свою любовь к Государю, вспомнили все, что сделал. Всюду пение «Боже, царя храни»…
Пришел Кириллов. Сообщил мне обстоятельства покушения. Они меня поразили…
Вот его рассказ:
«Мы допросили всех, кто был в толпе. Оказалось, что в момент выстрела стоявший рядом со злодеем не дал ему убить Ваше Величество… Отвел руку злодея, Ваше Величество. Точнее, сам Господь его рукой отвел злодейскую руку. Этот простой русский человек по фамилии Комиссаров родом из Костромы. Из Костромы был родом и Иван Сусанин, заплативший своей жизнью, спасая вашего августейшего предка… Если Вашему Величеству будет угодно, мы привезем его во дворец…»
Я распорядился привезти немедленно.
Мистика! Мистика в параде портретов предков! Мистика – в видении Николы, мистика – в спасении!
Поехал в Казанский собор – отслужил благодарственный молебен…
Вернулся во дворец. В беломраморном Николаевском зале выстроились бесконечные делегации. Меня встретило поистине громовое ура.
Привели мещанина… Белобрысый, плюгавый, глаза испуганно бегают – не самый приятный господин. Но ведь спас, отвел злодейскую руку! Обнял его и пожаловал дворянство. Теперь он Комиссаров-Костромской.
И вновь – громовое ура.
Мне было интересно, что написал в дневнике Саша…
По моей просьбе, следуя традиции, идущей от отца, Кириллов приносит мне (но только когда я ему велю) выписки из дневника Наследника. Я решился на это, ибо обязан знать обо всем, что связано с будущностью страны…
Саша записал: «Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое… Беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу, крики, в которых чаще всего слышатся «Каракозов!», «Комиссаров!», угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго; группы народа, пение «Боже, царя храни»… И страшнейшее ура.
Папа крепко поцеловал меня. Он любит меня, я счастлив».
Мои записки
(Записки князя В-го)
Пришла очередь после записок повелителя рассказать о себе…
Рассказ незаметного муравья, который тем не менее столько определил в истории несчастной Родины!
Сейчас, подводя итоги жизни и вспоминая человеческую комедию, которой был свидетелем, преисполненный презрения, я все чаще повторяю слова тетки: «Человеческая порода осуждена Господом либо грозить, либо ползать». Впрочем, господин Кириллов сказал получше: «Наш народ «или Сидору в ноги, или Ивану в рыло…»
Род наш прежде знаменит был и славой, и великим богатством. Нас разорил отец…
Начиналась его карьера ярко.
В начале века был он светский лев, вождь молодого Петербурга. Служил, конечно же, в самом блестящем – в кавалергардском полку. В то время все были галломанами. Но отец никогда не был, как все. Он придумал быть англоманом и денди. Дендизм – это искусство жить. Та манера одеваться, тот ресторан, та любовница, та дуэль, те привычки… Главная гордость денди – быть не как все, уметь нарушать правила… но в пределах правил! Быть эксцентричным и непредсказуемым, но оставаться в рамках хорошего тона и безупречной светскости… И в этом доходить до конца.
В какой восторг пришли почитатели отца, когда мой родитель покинул самый престижный кавалергардский полк и перешел в Ахтырский – только из-за того что мундир ахтырцев, по его мнению, был изысканнее. И лишь когда офицеры кавалергарды получили бальные красные вицмундиры с серебряными аксельбантами, все то же чувство прекрасного заставило отца немедля вернулся. Вкус заставлял его свершать опасные поступки. Возмущенный безвкусием туалета графа Р., отец вызвал его за это на дуэль. Перед тем как поднять пистолет, он в последний раз потребовал от графа сменить сюртук, оскорбивший истинного денди.
К сожалению, граф отказался и был убит…
И конечно, был он верховодом веселых потех тогдашних молодых людей, почитавших обязанностью дружить и с Вакхом, и с Венерой. Он был законодатель прославленного гвардейского пьянства… Это отец придумал расставлять рюмки с коньяком на бесконечной лестнице в штабе корпуса кавалергардов. Причем чем выше ступень, тем больше на ней стояло рюмок, которые надлежало выпить. И как правило, только он умудрялся подняться на последнюю ступеньку, откуда, пошатываясь, глядел вниз на лестницу, укрытую телами павших товарищей.
Без сомнения, преуспел он и в «науке страсти нежной, которую воспел Назон», – преуспеть в ней считалось также обязательным. Походы в бордели, любовница-цыганка – для души и тела, соблазненные дамы высшего света – для репутации. Важно было не только соблазнить даму, но и выставить на веселое поругание ее рогатого и, как правило, титулованного мужа.
Особенно почетным среди молодых повес было увести чью-то горячо любимую любовницу. Отец соблазнил знаменитую балерину Машеньку Д. – любовницу конногвардейца графа Л. Граф, естественно, вызвал его, они стрелялись на популярных среди конногвардейцев шести шагах расстояния. Граф стрелял первым, нервничал и промазал. Отец расхохотался и выстрелил в воздух.
Граф уже хотел броситься к нему с объятиями, но отец остановил его.
– Я надеюсь, мы не шутки пришли шутить. Я выстрелил в воздух, потому что забрал ваше. Но вы уж постарайтесь попасть в меня. Ибо следующим выстрелом я вас непременно убью.
И он уперся в него знаменитым своим дуэльным взглядом. Пронзительный, холодный взгляд… У несчастного заходила рука, и он опять промахнулся. После чего отец хладнокровно убил его… Император Александр Первый обожал отца, и дело замяли.
Во время войны с Наполеоном в возрасте двадцати одного года отец получил крест – храбро дрался в знаменитой Битве народов при Лейпциге… Раненный, остался на поле боя… Когда русские войска вступили в Париж, был в почетном карауле при Императоре…
Во время Венского конгресса он отличился и на другом столь же привычном для него поле сражения – ведь там собрались все красавицы Европы… Он заработал целый список наград Амура. Среди его славных трофеев была госпожа Б. – вдова одного из главных героев прошедшей войны, правнучка первой нашей Императрицы. Правда, вскоре оказалось, что Государь также пленен этой Венерой, и отец поспешил исполнить долг верноподданного…
Со славой вернулся он в Россию…
В это время он переживал пик, высшую точку своей карьеры. Самый блестящий молодой человек Петербурга, его ценил Государь. Все уже ждали его назначения адъютантом Императора…
И вот в этот момент был он то ли осчастливлен, то ли наказан судьбою. Он полюбил… Откуда в этом любвеобильном Дон Жуане родилась поистине роковая страсть – загадка души человеческой. Впрочем, она была достойна самой пылкой любви. Одна из самых знатных и красивейших невест России, умна и добродетельна – воистину совершенство обитало тогда в Петербурге. Но имелось два печальнейших обстоятельства: она была невестой другого и любила другого.
Отец безумствовал! Но все напрасно… Чтобы не видеть ее, собирался даже покинуть любезное наше Отечество.
Однако Бог судил иначе.
В это время умер Александр Первый, вступил на престол Николай Первый. И состоялось знаменитое восстание декабристов…
По всему Петербургу шли аресты. Самые блестящие молодые люди из знатнейших фамилий очутились в казематах Петропавловской крепости… Из крепости их возили через мост во дворец, где их допрашивал сам Император.
Очутился в тюрьме и жених нашей красавицы…
Отец, конечно же, состоял в тайном обществе, но, к счастью, на площади не был. За несколько дней до бунта он взял отпуск из-за болезни деда и находился в имении… Но само участие в обществе должно было навлечь на него неумолимое наказание. Он и был допрошен, однако, к великому изумлению петербургского света, отделался выговором. Более того, новый Государь, беспощадный к мятежникам, оставил отца на службе. Все расценили это как объявление конца преследований. Но незлобивость Государя коснулась только отца и на нем закончилась. Пятерых повесили. Жениха красавицы вместе с остальными бунтовщиками повезли в Сибирь на каторжные работы. Тогда иные невесты и жены поехали на каторгу вслед за женихами и мужьями. Ждали подвига и от нее. Но то ли она не решилась, то ли родители не позволили… Она осталась в Петербурге.
И вскоре мой отец мог считать себя счастливейшим из смертных – она отдала ему руку и сердце.
Вот тогда-то и началось таинственное… На пике блестящей карьеры отец вдруг вышел в отставку и затворился в одном из своих поместий. Здесь произошла с ним удивительнейшая метаморфоза: великолепный денди стремительно превратился в обычного пьяницу и мота… Обожавший прежде словесность, он теперь ничего не читал. Объявил, что читать в России нынче нечего, ибо люди мыслящие у нас не пишут, а пишущие не мыслят… Отныне он пил до бесчувствия, играл до бесчувствия и разорялся…
В короткий срок умудрился спустить не только свое огромное состояние, но и богатейшее женино приданое. Он будто торопился все уничтожить.
Вскоре у него осталось лишь одно небольшое имение… Причем любовь к жене таинственно переросла… в ненависть! Рассказывали, что пьяный он избивал ее. Несчастная красавица мучилась недолго – ранняя чахотка помогла ей покинуть наш бренный мир. А отец продолжал пить и брюхатить крепостных девок.
Ваш покорный слуга и родился от крепостной. Трое детей до меня – от разных дворовых девок – так и остались крепостными. Мои босоногие братья бегали по имению. Отец называл их «моими дорогими выблядками». И меня постигла бы их участь. Но в это время отец увлекся идеей столетней жизни. Он подружился с неким графом Тарновским, очень нашим безумцем… Русский безумец если на чем-нибудь помешан, то до конца. Этот был помешан на долголетии. Он уверял, что можно дожить в здравии и бодрости до ста пятидесяти лет как минимум… Один из секретов, которым он поделился с отцом, состоял в том, что человек не должен помнить, сколько ему лет. Годы создают ощущение старости – это и есть наш главный убийца. Поэтому отец запретил справлять в деревне дни рождения… И конечно, надо было сосредоточиться на правильной пище, которая отныне состояла из ключевой воды, нагретой на солнце, овощей и фруктов. Лекарства принимать строжайше запрещалось, только природная аптека – травы и снадобья…
Граф объявил, что если человек будет жить так с детства, то полтораста лет ему обеспечены, и при этом – никаких болезней.
Отец решил проверить теорию на мне, благо я только что родился. Впрочем, как обычно, вскоре он остыл к предприятию, но ко мне успел привязаться, даже, можно сказать, полюбил меня… Уж очень я был похож на него и лицом, и даже тембром голоса. И воспитал он меня как дворянского сына…
Я его смертельно боялся. Лица его не помню, помню только руку – морщинистую, как срез дерева. И то, как цепко, больно приглаживал он этой рукой мои густые кудри.
Государь, по-прежнему к нему благоволивший, разрешил усыновить меня и дать мне свою фамилию и титул.
В 1855 году император Николай умер.
Новый император тотчас освободил всех декабристов, которых тридцать лет держал в тюрьмах и ссылках его злопамятный родитель.
Они вновь появились в петербургском обществе – печальные тени прежних блестящих офицеров – старики, согнутые лишениями и временем.
В петербургских салонах их чествовали. Все ждали, что отец немедля отправится в Петербург на встречу с друзьями буйной молодости.
Но он остался в имении и продолжал пить и развратничать.
Впоследствии наш родственник Федор Михайлович Достоевский очень интересовался моим отцом, и некоторые характерные словечки старика Карамазова взяты у него. Но особенно интересовался он загадочнейшей дуэлью «проклятого кавалергарда» – так назвал он моего отца.
Я тогда был отправлен в Петербург, готовиться к поступлению в гимназию, жил у тетки и не видел эту историю. Уже после смерти отца старый слуга Васильич подробно рассказал её мне…
К отцу приехали два старых господина. Отец, видно, ждал их и сам вышел встретить. Приехавшие очень кратко поговорили с ним. После чего отец приказал принести пистолеты…
Дуэль произошла в нашем парке. Отец не утратил своего страшного умения. По команде «сходитесь» тотчас выстрелил. И убил приехавшего…
Назначили разбирательство. Но уже при начале оного отец отправился вслед за своей жертвой. Объявлено было – от удара. Но поговаривали, будто он принял яд. Во всяком случае, вскрытие тела в завещании он запретил, как делали все самоубийцы. Хотел быть похоронен по обряду и в фамильном склепе.
Он оставил мне имение – заложенное и перезаложенное.
К завещанию был приложен листок бумаги, разделенный на две части. Справа было написано: «Моих умерших четверо. Я сам. Моя первая жена. Моя вторая жена. Мертворожденная дочь от крестьянки». Слева значилось: «Убитые мной на дуэлях» и шли четыре имени убитых. Под этим была подведена черта и стояло резюме отца: «С Богом – в расчете».
После смерти отца я остался жить у тетки, в ее огромном доме на Фонтанке. Дом соседствовал со знаменитым Третьим отделением – нашей всесильной тайной полицией.
Тетка отца ненавидела. Ненавидела так же пылко, как когда-то любила и поклонялась. Она была очень богата, бездетна и всю свою любовь обрушила на меня. Называла меня Красавчик. У нее была отвратительная привычка больно тереть рукой мои непокорные волосы, приводя их в порядок… Она обожала обсуждать с гостями мою внешность, привлекая к этим разговорам и меня…
– Боже, как он красив! Какие у него реснички… Зачем тебе такие длинные, отдай их мне, Красавчик!
И мерзко хрустела пальцами. Я ее очень не любил, а она меня очень любила, прости меня Господи.
Зима в Петербурге нарядна… В сыром Копенгагене, где я нынче живу, мне часто снится: крепкий морозец, узоры на огромных венецианских окнах… И под руководством тетки начинается мое мучительное одевание – теплые штаники, гетры, шубка, шапка, башлык поверх шапки, варежки. Да еще муфту привяжут… И вот по устланной ковром мраморной лестнице, поздоровавшись со швейцаром в черной с золотом ливрее, выходим на улицу. Двери с зеркальными стеклами захлопнулись. Подали карету, везут в Летний сад… Пар от лошадей на морозе… Веселый кучер Степан в поддевке. Останавливаемся у золотой решетки Летнего сада… Голубые тени на мерцающем на солнце снегу… Красно-бурый гранит набережной покрыт легким снежком, в солнце сверкает искрами… И так мне хорошо! Прежде чем меня отведут в сад, успеваю варежкой сделать на изморози какой-нибудь рисуночек.
Мне было одиннадцать лет, когда Государь отменил крепостное право. Тогда у меня начались идейные ссоры с теткой.
Была она любимой фрейлиной покойной матери Государя Николая Павловича. После ее смерти при дворе более не появлялась, хотя приглашалась на все придворные празднества. К новому Государю относилась прохладно – отмену крепостного права, как многие помещики, именовала несчастьем.
И вся хронология прошлой жизни у нее делилась так: до «несчастья» и после.
Я же готов был жизнь отдать за Государя. Я никогда не забывал, что мои предки рождались, жили и умирали в этом вековом рабстве. И новый Государь дал нам свободу.
Помню, как в Летнем саду впервые я увидел Государя. Он гулял с собакой. Я шел за ним на некотором отдалении, вместе с нашим слугой Фирсом. И мечтал…
О, как я мечтал, чтоб появился убийца, а я непременно грудью защитил бы его!
И на руках его умер.
Это был как бы медовый месяц пылкой любви между царем и всей прогрессивной Россией. Пьяные от счастья и свободы солнечные годы.
Но уже скоро пошли слухи о таинственных революционерах. И начались студенческие волнения. Петербург наблюдал невиданное…
Мы возвращались с прогулки из Летнего сада… Огромная демонстрация кричащих молодых людей, окруженная жандармами, шла по набережной. Впереди, будто возглавляя ее, ехал на коне бледный петербургский градоначальник, которого тетка «знала еще в пеленках».
А потом заполыхали таинственные пожары. Каждую ночь над городом стояло зарево… Пожары приписывали все тем же революционерам, «обнаглевшим от полученных свобод». Фирс рассказал, что на почтамте задержали прокламации с призывами к убийству царя… Тетка торжествовала: «Вот они, плоды вашей воли», – обращалась она, конечно же, ко мне.
Тетка мечтала для меня о военной карьере.
– Ну погляди, какой ты красавец. Ты, как твой проклятый отец, истинный кавалергард… Покойный Государь (Николай Первый) любил порядок. В конногвардейском полку служили только высокие брюнеты, а в кавалергардах – такие же рослые блондины.
Глаза тетки туманились… Она молча, с нежной улыбкой, сидела у камина – видно, вспоминала, как галантны были кавалергарды-блондины и как от них не отставали конногвардейцы-брюнеты.
Излишне говорить, что, назло тетке, я объявил: военным быть не желаю, хочу поработать на земле, как мои предки-крестьяне, и посему буду поступать в Московскую земледельческую академию.
Как она ненавидела, когда я вспоминал о материнском роде! И как мне нравилось дразнить своевольную старуху.
Но была еще главная мечта, о которой я не говорил никому…
В те годы гремели литераторы – Тургенев, Чернышевский. Герои литературные были реальней живых людей. Помню, с каким упоением я читал «Отцы и дети»… Герой романа, все и всех отрицающий, – Базаров был тогда главным моим кумиром. И словечко «нигилист» (так называли в романе все отрицающего Базарова) стало официальным наименованием всех свободомыслящих молодых людей России. Передовые идейные девушки влюблялись только в нигилистов…
Я разговаривал с теткой исключительно цитатами из книг.
– Милая тетушка, – говорил я, указывая на картины, украшавшие гостиную, – Не кажется ли вам, что наше общество, имеющее в своей среде столько голодных и бедных и при этом тратящее деньги на искусство, следует сравнить с голодным дикарем, украшающим себя побрякушками?
– Вы хотите назвать побрякушками картины великих мастеров?
– Именно, дорогая тетушка. Ценность имеет только то, что реально полезно. А это – хлам.
– И Леонардо да Винчи тоже хлам? – попадалась на удочку тетушка (у нее был один его рисунок, которым она очень гордилась).
– Именно. И Рафаэль, и любимый вами Пушкин – все совершеннейший хлам. На помойку их!
И далее начинались крики взбешенной тетушки.
Каждый вечер я обязан был молиться. Бога я побаивался, но все-таки не устоял перед искусом и спросил у тети цитатой из модного критика, очередного властителя моих дум:
– Не кажется ли вам, любезнейшая тетушка, что мир, созданный Господом, несколько своеобразен? Он напоминает гигантскую кухню, где повара ежеминутно рубят, потрошат и поджаривают… друг друга. Попавши в такое странное общество, юное существо прямо из утробы матери тотчас переходит в какой-нибудь котел и поглощается одним из поваров. Но не успел еще повар проглотить свой обед, как он сам, с не дожёванным куском во рту, уже сидит в котле и обнаруживает достоинства, свойственные хорошей котлете…
Боже, что с ней было… Как она кричала и крестилась, а я… я хохотал!
И видимо, тогда она решила пригласить ко мне строгого гувернера.
В это время публиковался Федор Михайлович Достоевский. Он только что выпустил «Преступление и наказание»… Роман тогда гремел – идея, что все дозволено, коли есть цель, была популярной у молодежи. Нас волновало Преступление. Наказание же мы пропускали, оно казалось довеском для цензуры… И действительно, что такое жизнь жалкой ненужной старушонки, если цель великая! Я гнал от себя мысль, но не думать не мог…
Мысль была простая: убил бы я тетку, если бы нужно было для высокой цели?
Мой гордый, страшный ответ себе: «Непременно!»
Меня прошиб пот после этого ответа, хотя в глубине души я знал, что не смог бы! Никогда не смог бы!
Так что нетрудно догадаться: главным и тайным моим желанием было стать писателем. И в академию я поступал, чтоб быть ближе к земле, то есть к народу.
Каков был мой восторг, когда я узнал, что Аня Сниткина, находившаяся в отдаленном родстве с моей крепостной матерью, должна была стать стенографисткой у самого Достоевского! Я потребовал, чтоб ее к нам пригласили. Тетка относилась к писателям презрительно. Она сказала, что этот Достоевский был государственным преступником, осужденным на казнь. Только неизреченной милостью прежнего Государя он спасся, его помиловали, и он отбывал каторгу… Следует ли приглашать стенографистку каторжника в порядочный дом?!
Но я настоял, и как всегда, легко. Вообще я знал – тетка обожала мои прихоти. Чем диковиннее они ей казались, тем более она их ценила. Думаю, она вспоминала брата, которого так ненавидела и по-прежнему… любила! Короче, эту Аню, которую я никогда не видел, пригласили.
Аня Сниткина оказалась скучнейшей, бесцветной барышней в столь же скучном коричневом платье с белым крахмальным воротничком. Она явно стеснялась в нашей гостиной с мраморными колоннами и золочеными кариатидами.
Сидя в кресле рядом с гигантским рубиновым подсвечником, испуганно молчала… Я спросил о писателе. Оказалось, Достоевского она еще не видела. Ей только предложил эту работу преподаватель, обучавший ее стенографии.
Он и объяснил Ане всю важность работы. Достоевский, будучи без денег, подписал договор с кровопийцей-издателем и, взяв аванс, обязался за пару месяцев написать роман. Если он его не напишет, все последующие сочинения безо всякого вознаграждения перейдут в собственность издателя на несколько лет. Так что у него остался один выход – продиктовать роман стенографистке. Она добавила:
– Идти к нему боюсь. У него эпилепсия, припадки. К тому же он вдовец – одинокий мужчина… – И вздохнула.
Но на этом памятный вечер не кончился. Именно во время Аниного рассказа в гостиную вошел маленький, щуплый молодой человечек.
Тетка сказала торжественно:
– Знакомься, это Сергей Геннадиевич Нечаев. Он взялся готовить тебя в Земледельческую академию.
На вид ему было лет двадцать. Круглолицый, с коротко стриженными волосами и круглым простонародным лицом. А потом он поднял глаза…
Его глаза! Сколько лет прошло, а я все помню, как темные маленькие глазки впились… Охватили будто железными клещами. Смотрели с такой силой власти и ярости, что я почувствовал животный страх.
Но уже в следующее мгновение глаза погасли, стали безразличными.
Только насмешливая улыбка не сходила с его лица во время Аниного рассказа.
Когда тетка вышла проводить Аню, он внятно сказал:
– Глупая курица!
Вот так я познакомился в один день с будущей женой писателя Достоевского и героем его будущего романа.
Впоследствии, когда началось следствие по делу Нечаева, оказалось, что нового воспитателя рекомендовала тетке графиня Ч., подруга тетки по Смольному институту, где обе учились, как говорится, еще до Рождества Христова. Отец Нечаева какое-то время был в услужении у графини. Тетку в Нечаеве пленили три обстоятельства: он преподавал Закон Божий, не был студентом («все студенты – нигилисты») и, главное, как она поняла из разговора с ним, относился насмешливо к новому Государю. Короче, любил Царя Небесного и куда менее – земного. Кроме того, выяснилось, что у него есть множество знакомых среди студентов Земледельческой академии. К радости тетки он сказал, что народ там учится больше из провинции, весьма консервативный, и в студенческих беспорядках академия пока не участвовала.
В это время у тетки собирался весьма известный тогда в Петербурге салон из старых бюрократов прошлого царствования. Поговорив с печалью о реформах, которые, как всем известно, до добра у нас не доводят, ибо «в России лучшее всегда враг хорошего», переходили к главному – к картам. Играли по-крупному. Тетка в игре была удивительна. Она выигрывала, всегда выигрывала.
В тот день Нечаев стоял в гостиной у колонны и следил за игрой.
Тетка спросила насмешливо:
– Уж не хотите ли вы, батенька, к нам присоединиться?
– У меня нет денег, ко всеобщему счастью.
Тетка взглянула удивленно.
– Всенепременно к счастью, – повторил он, – потому что если сяду играть, непременно выиграю.
Она позвала любимого лакея Фирса. Тот принес пачку ассигнаций. И, глядя с ненавистью (невзлюбил Фирс моего учителя), отдал Нечаеву.
Тот сел. Кусая ногти (это была его привычка – мучить руки), сдал карты…
Началась игра.
Он медленно клал карты, обводя присутствующих взглядом. И, клянусь, глаза его горели неким огнем. Маленькое тело напряглось…
Я не очень помню подробности, но он обыграл тогда и тетку, и остальных.
Впоследствии тетка клялась, что была как во сне. Но больше он никогда не играл, да и тетка его не звала.
Вообще он был таинственный человек. Когда я пытался его разговорить – спрашивал о его жизни, отвечал насмешливо:
– Вы не должны сейчас ничем интересоваться, кроме будущих экзаменов.
Однажды он велел мне прийти к нему утром до чая – объяснил, что собирается ехать к больной матери и хочет дать мне задание.
Утром я подошел к его двери – она была приоткрыта. Я открыл ее. И увидел его… голого. Он лежал на полу на доске. Раскинув руки, будто распятый… Он вскочил в бешенстве:
– Кто вам разрешил входить без стука?!
Метнулся к столу и торопливо убрал какую-то бумагу, свернутую рулоном.
А я увидел доску, на которой он лежал. Она была утыкана шляпками мелких гвоздей. Он лежал гвоздях!
– Но вы меня позвали… Дверь была приоткрыта… – испуганно оправдывался я.
Но он, как-то нервно расхохотавшись, молча вытолкал меня и – щелчок – закрылся изнутри.
С тех пор его комната была всегда заперта. Только потом я понял, что в тот день он сделал главное – посеял во мне неукротимое любопытство.
Я уже не мог забыть о гвоздях и о том, как он метнулся к столу, убирая бумагу. И мне особенно захотелось снова проникнуть в комнату…
– Он все время беседует с кем-то. А ведь он там один… Должно быть, с дьяволом, – сказал как-то Фирс. – И как барыня его терпит…
Впоследствии тетушка говорила, что много раз хотела его выгнать. Но не решалась. Какая-то сила была в нем, ему невозможно было сказать «уходите».
Все случилось, когда в очередной раз Нечаев отправился к больной матери. Днем, проходя по коридору, я увидел в его дверях ключ. Он, видимо, очень спешил и оттого забыл его.
Сомнение было недолгим. Повернув ключ, я проскользнул в таинственную комнату.
И сразу на столе увидел… Это был лист бумаги с набранным в типографии текстом. Я начал читать… уже вскоре… с ужасом!
«Молодая Россия обращается к тебе!.. В нашем обществе – все ложно: от религии, заставляющей верить в Бога – в эту мечту горячего воображения, до семьи с узаконенным правом сексуального насилия… И, наконец, вершина лжи – самодержавие. Нам не нужна ничтожная наследственность, прикрытая горностаевой мантией. Нам нужен выборный старшина. Выход из этого гнетущего губительного положения один – революция… Кровавая и неумолимая… Мы не страшимся ее, хотя знаем, что прольются реки крови. Современный мир следует разрушить до самого основания. Близок день, когда мы развернем знамя перед самым Зимним дворцом…»
И подпись: «Центральный Революционный Комитет».
Я дочел до конца и услышал сзади его насмешливый голос:
– Не желает ли молодой человек обернуться, чтобы посмотреть мне в глаза?
Я застыл. У меня не было сил пошевелиться.
– Все-таки обернитесь. Не думал, что благородный юноша из благородного семейства способен на такое. Оказывается, недаром ваш дом соседствует с Третьим отделением.
Я готов был провалиться сквозь землю.
– Ну что мне с вами теперь делать? И что делать вам со мною? – продолжал Нечаев. – Мне – следует дать вам пощечину и вызвать вас. Но нельзя, вы несовершеннолетний. Ну а вам следует донести на меня тетке…
– Я не донесу, – торопливо прошептал я.
– Ну что ж… тогда и я не стану оставлять позор на вашем лице.
И вдруг засмеялся тоненько – этот пронзительный смешок я слышу и поныне.
– Неужели вы можете забыть? Ведь в ваших жилах течет и матушкина кровь. Кровь поколений рабов, над которыми издевались беспощадно. Пороли, как наверняка порола своих слуг ваша тетка, или насиловали, как ваш отец. Неужели вы при вашем благородстве можете все это забыть? Мы с вами намеревались поехать в Москву – знакомиться с академией. Но вместе с академией я могу познакомить вас с молодыми людьми. Они ненамного старше вас… но они знают: «Народ освобожден… но счастлив ли народ?» Народ обманут. Землю помещики оставили себе. Вместо свободы писать то, что ты думаешь, – Цензура. Вместо Конституции – Самодержавие… Мы по-прежнему – пугало для Европы. Спасет только революция… – шептал он. – Разрушение нынешнего порядка… Итак, в вашей воле сказать мне, что в Москву вы не поедете. И я тотчас покину ваш дом. Или… поедете?
Тонкий нервный голос хлестал меня.
Он был прав. Мою мать отобрал у жениха мой отец. Материного деда запороли на конюшне. Обоих дядьев отец проиграл в карты…
Я сказал:
– Мы поедем в Москву.
Нечаев обнял меня:
– Спасибо, товарищ…
На следующий день мы отправились в Москву. Это было мое первое путешествие по железной дороге. Огромное пыхтящее стальное чудовище с трубой, извергающей дым… В купе пахло гарью от паровоза…
За окном – грязные, размытые оттепелью дороги, жалкие избы, церквушки…
Нечаев зашептал:
– Вот они, церкви… и кресты… Мы им нового Христа предъявим – с бичом, которым выгнал он торгующих из храма… Христа, бедняков зовущего против богатых. Толстозадую Русь возмутим… Близится великое время. Вот эти железные дороги приближают всемирную Революцию. Теперь все бунтари мира в считаные дни могут повстречаться. Возникнут гигантские революционные объединения. Но главное – железные дороги сделают правителей беззащитными. Раньше он ехал в карете, окруженный стражей, – попробуй достань там его… А теперь он отдан во власть пространства, где на каждой версте его будут поджидать бомбы!..
Он был в исступлении. Он показался мне безумным. И я уже клял себя за то, что поехал с ним!
Мы остановились в дорогой гостинице в центре Тверской улицы.
Тетка снабдила меня множеством рекомендательных писем.
Недаром Императрица Екатерина Великая звала Первопрестольную Республикой. Там, в этом Царьграде, во дворцах, окруженных садами, доживали свой век вельможи прошедшего николаевского царствования. Вечерами в Английском клубе играли в карты и злословили по поводу деяний Александра Второго и жизни в Петербурге…
Москва была богомольна. У Иверской в душном полумраке горели тысячи свечей и было тесно от толп молящихся… С Воробьевых гор весь город сверкал – горели на солнце золотые купола московских церквей без числа.
Но такую Москву я увижу потом. В тот приезд я её не увидел.
И теткины письма остались не переданными, у нас были другие занятия.
Утром мы позавтракали и отправились, к моему изумлению, в дорогой магазин цветов. В большом тазу плавали бутоны орхидей. Они стоили гроши. Нечаев купил два бутона и украсил ими наши сюртуки.
Оглядел меня.
– Ну хорош, до чего же хорош! Вот такой ты нам нужен…
Он привел меня в какой-то совершенно кривой переулок. Пришли в большой доходный дом. Дом состоял из крохотных квартир-клеток, хозяин сдавал их студентам. Это было огромное общежитие студентов…
Постучали в одну из квартир. Открыл совсем небольшого росточка молодой человек, тоненький, очаровательно смущающийся, с премиленьким личиком. Очень он походил на хорошенькую барышню. Помню, он был в потерявшей цвет когда-то синей рубашке и в поношенных брюках, заправленных в болотные сапоги. Но тоже с бутоном орхидеи в кармане рубашки.
Бутон, как я узнал потом, – это пароль.
В крохотной комнатке можно было задохнуться от запаха дешевого табаку.
– Ну и накурено у вас. Дрянь вы люди, себя убиваете, – сказал Нечаев.
– Только что кончили заседание. Если хотите чаю, у нас нет. Все выпили и колбасу съели… пока заседали, – сказал «барышня».
– Ну и к чему пришли?
– Ни к чему не пришли. Только чай выпили… Впрочем, я против. Но он хочет сделать и сделает. – И «барышня» кивнул в сторону окна. Там сидел белобрысый, худой, какой-то нескладно высокий молодой человек с жидкими длинными волосами.
На протяжении всего разговора он хранил совершенное молчание.
Нечаев сказал «барышне»:
– Не понял – чего ты боишься? Ведь ты организацию создал, чтоб сделать это.
– Я не за себя. Меня он никогда не выдаст. Хватать невинных будут. Разгромят студенческие организации.
– Так это же славно. Больше ненависти будет. Только ненавистью к власти страну разбудить можно. Больше репрессий, больше казней – вот что нам нужно. Кровь для Революции – как удобрение. Быстрее всходы.
– Да, много кровавой работы будет у грядущей Революции, – засмеялся «барышня». – Меня сестра на днях спросила: «Сколько людей придется истребить в Революцию?» – все с той же застенчивой улыбкой добавил он.
– Надо думать о том, скольких можно будет оставить, – усмехнулся Нечаев.
Заметив испуг на моем лице, «барышня» нежно засмеялся:
– Совсем молоденький твой товарищ.
– На совсем молоденьких – вся надежда, – сказал Нечаев. – После двадцати пяти они остепеняются – дрянь люди.
– Да, людей после двадцати пяти нужно убивать, – вздохнул «барышня». – Слыхал, что вы очень богатенький, юноша? – вдруг обратился он ко мне. – Но вы должны знать: если вы с нами, то все ваше богатство – наше. Революция требует всего человека. «Оставь отца, жену и мать и следуй за мною». Один из наших товарищей отца зарезал, чтобы нам денег дать…
– Сказал глупость и напугал, – засмеялся Нечаев. – Идем от этого безумного… Чаю здесь все равно не дадут.
Уже уходя, вдруг остановился у стула, на котором недвижно сидел, уронив голову на руки, белобрысый. И обратился к нему:
– Обнимемся, товарищ.
Белобрысый поднялся, и они нелепо обнялись – уж очень высок был белобрысый и мал Нечаев.
На улице Нечаев сказал мне:
– Запомни этот день. Он исторический. И белобрысого запомни. Услышишь о нем скоро. Вся Расея о нем услышит…
По дороге он пояснил:
– Их кружок называется «Ад». Ибо жизнь наша сейчас – ад… Но зато завтра… Подождем до завтра.
Мы вернулись в Петербург засветло. На перроне увидели белобрысого. Оказалось, он ехал в нашем же поезде. Но, к моему изумлению, Нечаев его будто не узнал.
– Но это же… – начал я.
– Ты его не знаешь. Запомни, – оборвал Нечаев.
Проходя мимо нас, белобрысый улыбнулся.
На следующий день мы обедали, когда явился бледный Фирс.
– В батюшку царя стреляли у Летнего сада!
– Убили? – вскричала тетушка.
– Промахнулись, Господь защитил, – сказал Фирс.
Тетка побледнела и велела заложить экипаж. Потом спросила:
– Где гувернер?
Приказала позвать Сергея Геннадиевича – ехать с нами. Фирс ответил, что Нечаев с утра ушел к больной маменьке – ночью ей стало хуже.
Пришел «наш околоточный» – тетка его всегда щедро одаривала. Она спросила:
– Известно ли, кто стрелял?
– Студент, – объяснил полицейский. – К тому же дворянин, как ни позорно говорить… Злодей убил бы Государя, да, говорят, стоявший рядом мещанин отвел его руку… Сегодня Государь с народом говорить будет.
Тетка велела запрягать, и мы поехали к Зимнему. Помню, всюду были толпы возбужденного народа. Проезжая, видели, как толпа окружила молодого человека, по виду студента, длинноволосого, в очках, с пледом в руке – так обычно ходят студенты… Они били его. К нему на помощь неторопливо шагали двое полицейских – не спешили спасать.
Люди распевали гимны, крестились… Неумолчно звонили колокола.
На дворцовой площади у Зимнего – море людей и множество экипажей.
Все взгляды – на балкон над входом в Салтыковский подъезд.
Закричали дружно: «Ура!»
На балкон вышел Государь – высокий красавец в конногвардейском мундире. За ним – императрица, худенькая, высокая, в шубке, наследник и его братья – все в военных мундирах. Мальчики были как на подбор – стройные, высокие. Только наследник – бесформенный, толстый.
Толпа снова восторженно закричала: «Ура!» Все пали на колени и запели «Боже, царя храни!».
– Но уж очень много пьяных, – брезгливо сказала тетка и велела трогать домой.
Дорогой она волновалась о Нечаеве:
– Ведь он длинноволосый и ходит с пледом, как бы не прибили…
Вечером Нечаев не пришел. Решено было утром послать за ним Фирса.
Всеведающий Фирс сказал (ему сообщил околоточный), что завтра преступника привезут на допрос к нашим соседям (в Третье отделение).
С раннего утра я занял место у окна. Вся набережная была оцеплена конными жандармами.
Подъехала карета, окруженная все теми же жандармами. Его вывели… Я видел только голову без шапки и русые волосы…
И вдруг он задрал голову, посмотрел на небо и перекрестился.
Перекрестился испуганно и я… Это был белобрысый!
Всю ночь я не спал. Ждал – арестуют. Придумывал речи для суда. О, как я мечтал вернуться в ту прежнюю беззаботную жизнь!
Утром тетка побаловала новостями:
– Назначен диктатор… словцо-то какое!
Диктатором стал генерал Муравьев (Михаил Николаевич Муравьёв, или Муравьёв-Ви́ленский), усмиривший Польское восстание.
Тетка ликовала:
– Я его, голубчика, хорошо знаю! Живодер первостатейный, ад по нему, конечно, плачет, в Польше даже дам вешал… Но сейчас такой и нужен! Этот порядок наведет. Твой любимый «Современник» закрыли… Ай да Муравьев! Наш живодер всю вашу дурь повыбьет…
Я промолчал. Мне было не до споров. Я смертельно боялся! Неужто взяли Нечаева?!
Утром вся набережная возле нашего дома была заставлена каретами. На допросы к соседям (в Третье отделение) привозили буквально всю столицу… Говорят, допрашивали по целым дням…
Вечером тетка позвала меня в кабинет покойного мужа.
В этот кабинет она заходила, только когда беседовала с управляющими, приезжавшими из имений.
Чувствуя недоброе, я пошел в кабинет. В первый раз я робел перед старухой…
– А ты, друг мой, умен, да я умнее, – усмехнулась тетка.
На столе лежал… мой дневник! Отец приучил меня вести дневник, и я… все записывал.
– Я сразу дурное почувствовала… уж очень ты стал печален, друг мой. Ты уж прости, что прочла… Да как узнать иначе? Спасибо бумаге.
Она молча бросила дневник в камин. Я молчал.
– Про нигилиста твоего я в первый же день узнала. Фирса послала разведать. Про мать свою он, конечно, наврал. Никакая мать по тому адресу не живет… Исчез он, растворился… Фирс про него донести хотел, да я запретила. Негодяй Нечаев, да свой негодяй, сроднилась с ним…
Я молчал.
– Что делать с тобой? От греха немедля отправишься со мной за границу. Пока в Петербурге поуспокоятся… Успокоятся они скоро. У нас рвения на три дня хватает обычно. На четвертый делом заниматься устанут… и все будет по-старому.
В первый раз в жизни я любил свою тетку.
Дневникъ императора Александра II
Воскресение (без даты)
Вечером в театре давали «Жизнь за царя». Опера шла под непрерывные аплодисменты. Спасший меня сидел рядом с моей ложей.
После спектакля перед сном читал Маше вслух депеши и телеграммы со всей России.
Города, народности, сословия выражают похвальные патриотические чувства. Зимний дворец завален телеграммами… Тысячный митинг был на Красной площади у храма Василия Блаженного, молились и пели тропарь «Спаси, Господи, Люди Твоя и благослови достояние Твое…»
Неужели нужен был выстрел этого безумного, чтобы тебя полюбили вновь?!
Вечером долго стоял в Гербовом зале у окна. Как когда-то в детстве… Зажгли свечи. Газовые фонари горят только в коридоре.
Заканчивается длинный весенний день. Скоро начнутся белые ночи. Как я люблю эти ночи без тьмы и город, спящий в небесном призрачном свете…
Должен на что-то решиться… Вспоминал слова Победоносцева – и предсмертные слова отца: «Держи все!» И его кулак.
6 апреля
Утром из Павловска примчался Костя. Он умолял меня не спешить.
– Насилием мы ничего не добьемся. Ты должен помнить наш любимый лозунг: «Ни слабости, ни реакции».
Я попытался перевести разговор. Я уже все решил – и не хотел обсуждений с Костей.
– Твоя Санни, должно быть, ликует… Выходит, Никола не зря видел несчастного дедушку.
Костя покраснел, долго молчал. Потом сказал:
– Никола никого не видел. Оказалось, мой мерзавец узнал, что ты получил какую-то бумагу о его похождениях в Париже и готовишься мне показать….
(Это, конечно же, сообщила ему моя Маша! Она обожает мерзавца!)
– И хитрец придумал, как направить наши мысли в иное русло. Имея безумную мать, помешанную вместе с твоей жинкой на спиритизме, он и придумал… про призрак.
– Я предупредил тебя: с ним будет много хлопот.
Костя вздохнул и… вернулся к теме:
– Тебя не смущает это всеобщее ликование?
– Разве это плохо? Ликуют о спасении Государя, и повсюду!
– Но особенно в кабаках. В столице – непрерывные молебны вперемежку с вином… Уже появились какие-то пьяные люди, которые срывают шапки на улицах у тех, кто недостаточно ликует. Всех длинноволосых в очках волокут в участок. Газеты называют «Спасителем» этого прохвоста… эту полицейскую выдумку, – так Костя назвал Комиссарова.
– Но почему ты думаешь, что это выдумка?
– Ты ведь и сам так думаешь. Я могу тебе рассказать, как было… Этот пошлый, плюгавый человечек стоял в толпе и глазел, как ты будешь выходить из сада. Раздался выстрел. Слава Богу, безумец промахнулся, потому что стрелял в первый раз… После выстрела вместе со всеми, кто был в толпе, Комиссаров был схвачен и отправлен в генерал-губернаторский дом. Но узнав, что он из Костромы, жандармам… точнее, господину Кириллову, которого ты так ценишь… пришло в голову придумать патриотическую историю – еще один костромич спас своего монарха!
– Откуда ты все это знаешь?
– Наше с тобой любимое выражение: «В России все секрет, да ничего не тайна»… Спроси сам, но построже, у Кириллова. Вчера этого Комиссарова посадили в театре рядом с нашей ложей. Он сидел завитой, веснушчатый, и рядом его жена в аляповатом, мучительно-безвкусном кокошнике. И над ними ты! Ему нанимают кучеров и лакеев, ему дарят дом, его портреты выставляют рядом с твоим портретом. Его все именуют «Спасителем»… Это стало его именем! Прозвище так прилепилось, что его супруга, которая с утра до ночи бродит по Гостиному Двору, закупает шелка и брильянты, всюду рекомендуется «женою Спасителя», к великому смущению купцов… Боже мой, как мы ничего не умеем, у нас всё – по-рабьи! Даже спасение Государя!..
Я ничего не ответил.
И Костя, закончив свой патетический монолог, откланялся, чувствуя себя героем.
Я вызвал Кириллова. Он спокойно подтвердил: да, Комиссарова они придумали.
– Энтузиазм народа доказывает, Ваше Величество, что мы поступили правильно.
– Но более так не делайте, – сказал я строго, однако не слишком.
Он прав. Народ любит понятную мистику.
Кириллов прекрасно ведет следствие. В кратчайший срок все было узнано!
Покушался злодей по фамилии Каракозов, 26 лет. Из дворян, учился в Московском университете, был исключен за неуплату. Сам из провинции… В Москве сошелся со своим родственником, нигилистом по фамилии Ишутин, вольнослушателем все того же Московского университета… Этот молодой человек кружок придумал… Сначала решили осуществить в нем идеи Фурье – организовать переплетные мастерские. В них они должны были трудиться вместе с рабочими и заодно обучать тех ненависти к правительству. Это, естественно, им скоро наскучило. В переплетной мастерской работать надо. А работать у нас на Руси кому ж охота… Тогда-то решили поторопиться и побыстрее организовать революцию. Поднять народное восстание, убить меня и создать государство без всякой собственности. Для чего и создали тайное ядро в кружке под названием «Ад». Почему такое откровенное название – следователи пока не поняли…
В этом «Аду» они и обсуждали, надо ли меня убивать немедля или стоит подождать и пока пропагандировать в народе… Вот о чем думали эти новые молодые люди, которым я дал столько свобод…
Но этот Каракозов ждать не захотел! Торопился убить!
Что же делать? Сомнения, вечные мои сомнения… И все же, старательно все обдумав, решился огорчить и Костю, и всех наших либералов… Подписал указ о создании Следственной Комиссии во главе с генералом Муравьевым…
Велел привезти Муравьева.
Три года назад он усмирил Польшу. Поляки – эти вечные бунтари… Их непреходящая любовь к свободе закончилась полным параличом власти – государство погибло, земли разделили между собой прабабушка Екатерина, австрийцы и пруссаки…
Но вместе с польскими землями мы получили еще одну награду – постоянный бунт. Они мечтают о несбыточном – о возрождении своего государства. Но, уверен, если каким-то чудом оно возродится, они сделают все, чтобы оно погибло. Ибо государство – это разумная несвобода, с которой поляки никогда не смирятся… Если бы я предсказывал, что будут делать народы в следующем веке, около слова «Польша» я написал бы «бунтует».
Я сделал Костю наместником в Польше. Он был добр к полякам. Предложил дать им широкую автономию… Но они приняли это за слабость. Создали тайное правительство, стреляли в бедного Костю, напали на наш гарнизон. Перебили множество несчастных солдат… И тогда я позвал Муравьева. Отправляясь в Польшу, он сказал: «Для меня самый хороший поляк – это поляк повешенный». И потребовал отозвать из Польши доброго Костю…
Я вынужден был согласиться. Муравьев беспощадно вешал – даже ксендзов, даже женщин. Сжигал поместья, тысячами отправлял бунтовщиков в Сибирь… И усмирил… правда, поссорив нас с заграницей. В первых рядах негодовавших, конечно же, были французы – они нынче дали приют тысячам польских бунтовщиков.
Я наградил Муравьева за Польшу… Хотя этот кровожадный бегемот вызывал у меня чувство брезгливости. И, надо сказать, у всех близких мне людей. Генерал-губернатор Петербурга князь Суворов как-то сказал мне: «Если Муравьева отправят в рай, я предпочту ад…»
В общем, после Польши я отправил Муравьева на покой.
И теперь мне пришло в голову призвать этого господина.
Он вошел, поклонился. За время отставки сильно ожирел. Огромный, тяжело дышит – этакая помесь медведя и бегемота… с тигриными глазами. Жирное, беспардонное, одутловатое, курносое, бульдожье лицо.
Так что нигилисты сразу поймут – этот церемониться не будет.
В начале разговора чудовище было осторожно… Но я сумел сделать его смелее.
Он понял: я разрешаю ему просить головы его прежних врагов.
И он попросил:
– Государь! Все они, космополиты, – приверженцы европейских идей. – (Это у него главное ругательство!) – Вон их, Государь! Истинно русские, – (величайший комплимент), – должны теперь прийти во власть.
15 апреля
В три дня он (не я) разгромил всю либеральную партию…
Его заклятый недруг, бедный князь Суворов, потерял генерал-губернаторство в Петербурге… И прежний начальник Третьего отделения… И министр просвещения, распустивший молодежь, – всех их по его требованию я отправил в отставку. Идут допросы, хватают не только виновных, но даже подозрительных, закрывают журналы. В столице, как сообщил мне Кириллов, началась паника, все клянут… Муравьева!
Что ж, правителю всегда необходимо иметь «плохого второго». Около вас должен находиться человек, которого общество считает причиной своих бед. Они должны верить: не будет Н. – и все станет хорошо! Муравьев мне нужен, чтоб напугать. Я понимал, что реального проку от него не будет. Он хорош только в условиях военного времени.
Надо было подумать о реальном борце с крамолой. О новом хозяине Третьего отделения. Прежний явно не справился. Нужен молодой цепной пес.
И я назначил Петра Шувалова…
Шуваловы – забавная семейка. Возвысились они во времена Императрицы Елизаветы. В царствование пратетушки один из Шуваловых был ее любовником, а другой – крупнейшим финансистом и, как положено у нас, – крупнейшим казнокрадом и хитрецом.
Когда пратетушка увлеклась юным кадетом Бекетовым, сей бестия поспешил стать ближайшим другом юного и простодушного избранника. И на правах друга дал ему мазь для белизны лица… От этой мази у несчастного все лицо пошло гнойными прыщами. Императрице шепнули о венерической болезни, которую подхватил изменник-кадет. Взбешенная, она прогнала от себя несчастного любовника и вернула прежнего – Шувалова… Кстати, сын предприимчивого негодяя совершенно не похож на отца. Отличился и тонким умом, и благородством, и воспитанием. Он настолько владел французским, что публиковал в Париже свои стихотворения. Прабабка Екатерина, весьма вольно писавшая по-французски, все свои знаменитые письма Вольтеру отсылала сначала ему. И он беспощадно правил… Великая Екатерина назвала его «моя умная прачка».
Граф Петр Шувалов моложе меня на девять лет… Он участвовал в некоторых моих веселых похождениях. Пользуясь нашей дружбой, он рискнул приволокнуться за моей племянницей Машей Лейхтенбергской… Так что мне пришлось сделать ему строгое замечание… После этого граф Петр сразу поумнел, и теперь он то, что мне нужно, – «преданный, но умный» (как зову его я) и «цепной пес» (как зовет его Костя).
Граф Петр – из старшей ветви рода Шуваловых и соединяет в себе несовместимые качества предков и родственников. Он весел, остроумен, абсолютный комильфо и при этом… жестокий солдафон и проныра.
Нужный нынче господин.
Сегодня я спросил у Кириллова, как он отнесся к назначению графа Петра Шувалова и что об этом говорят в столице.
– У нас все рады, – ответил Кириллов. И не замедлил подставить начальника: – Говорят, он либералам-то шею быстренько свернет, у него сам Государь по струнке будет ходить… Глупость, конечно, Ваше Величество…
Их сердечная ненависть друг к другу!
Вечером пришел докучать Костя.
– Побойся Бога, дорогой Саша. Возвращается отцовское инквизиторство. В городе на допросы волокут буквально всех – литераторов, чиновников, офицеров, учителей и учеников, студентов, нянюшек, мужиков, князей и мещан… Следователи спрашивают девушек: скольких имели мужчин, грозят выдать желтый билет, если не отвечают… Да что мещан! Обнаглели до того, что посмели следить за мною! Мой камердинер вчера рассказал, что его вызвали, пугали, пытались подкупить… Поверь, граф Петр Андреевич не просто ничтожество. Он – опасное ничтожество. Он всюду рассказывает о близости к тебе. Кстати, его уже подобострастно зовут Петром Четвертым. Он у нас теперь Государь…
Я сказал миролюбиво, хотя кипел:
– Милый Костя, я хочу, чтоб ты меня понял, не гневался и, как всегда, поддержал… Это ведь ты когда-то передал мне фразу, сказанную нашему прадеду Петру Третьему: «Вы слишком добры, Государь! Доброта вас погубит!» И ведь погубила. Боюсь, что наш папа прав: мы живем в Азии, здесь нужна строгость, строгость и еще раз строгость.
Костя хотел опять броситься в бой. Но я остановил его:
– Позволь закончить. Помнишь, как-то ты жаловался мне на журнал, издаваемый поэтом Некрасовым? Ты сказал, что этот опасный господин – кумир молодежи! И вот вчера вечером опасный кумир пришел в Английский клуб, там – событие. Английский клуб избрал в почетные члены Муравьева… Был торжественный обед. По окончании обеда Муравьев сидел в креслах, вокруг него – почетные гости… И тут наш красный вождь молодежи господин Некрасов подходит и просит позволения прочесть стихи в честь того, кого еще вчера они дружно травили именем «Вешатель»… К чести Муравьева, он в ответ – ни слова, молча продолжил курить трубку. И тогда вчерашний неустрашимый начинает подобострастно читать свой панегирик. Не правда ли, интересно, как моментально сей господин излечился от всех заблуждений… А ты говоришь – «безумие». Нет, найдено единственно разумное, наше лекарство… Еще папа учил меня: как только начинается настоящая расправа, тотчас спешат встать на колени вчерашние смелые. А вот когда все они успокоятся, тогда и продолжим, дорогой Костя, наши реформы…
Уходя, Костя сообщил: все эти дни злодей Каракозов усердно молится в тюремной церкви…
Понял, куда он гнет, и… промолчал. После ухода Кости я вызвал Кириллова и спросил о подкупе камердинера брата.
– Это приказал Петр Андреевич Шувалов.
– Передайте ему, что впредь я категорически запрещаю это делать.
Кириллов поклонился.
Суббота (без даты)
Приговорили к повешению двоих – Каракозова и его родственника, руководителя подпольного кружка Ишутина… Родственника я помиловал – заменил виселицу на бессрочную каторгу. Но дарование жизни велел объявить ему в последний миг, когда наденут на него смертный балахон. Так уже делали во времена папа́…
Воскресенье (без даты)
Мне сообщили, что стрелявший Каракозов действительно молился все дни.
Принесли его письмо – просит простить и помиловать. Ну что сказать на это? «Как человек – давно простил, но как Государь – не имею права…» Этак многие стрелять захотят, если поверят, что безопасно. Этак и государству конец… А я поклялся до последней капли крови защищать самодержавную Русь. Перед Богом поклялся.
Пошел к Императрице. Говорил с ней о письме несчастного злодея. Но Маша молча обняла и сказала: «Терпи свое царское бремя».
Как странно… Она религиозна, и я все ждал, что попросит простить… И тогда пришлось бы уступить… И тяжесть – с плеч долой! Но не стала. Она бывает удивительно жестока, будучи такой доброй…
Господи! Помоги! Научи!
Плакал.
Привезли её. Встретились с ней в кабинете папа́… Отсюда лестница прямо в ту комнату…
Вошла, точнее, вбежала.
– Боже, что со мной было, когда услышала! Я хотела тотчас бежать… Я совсем с ума сошла! Что же это такое?
Она плакала.
Я целовал ее, и она уже в безумии отвечала. И все-таки не решился позвать ее в ту комнату… Но подло сказал:
– Уходи, милая… я не могу больше…
Сказал и… надеялся… что сама…
Но момент прошел. Она уже опомнилась. Расставались…
Шептала:
– Спасибо, что не позвали меня туда. Спасибо, что гоните… – (все на «вы»), – меня…
– А ты… пошла бы?
– Да! Да! Сегодня пошла бы… А завтра прокляла бы себя. Я не хочу быть там, где были все. Не хочу быть Главной Мадемуазель – кажется, так звали мою родственницу… твою любовницу…
Но и я, и она уже знали – случится.
Мои записки
(Записки князя В-го)
После войны, революций, переполненных поездов, набитых беженцами и солдатами, бессудных расстрелов – после всего, что выпало мне на долю, так забавно вспоминать наш идиллический отъезд за границу и мой детский страх.
Окруженная множеством провожавших лакеев, тетушка стояла на перроне и под сочувственные их вздохи вспоминала о временах, когда в Париж ездили в карете и не было ужасных крушений, о которых пишут нынче в газетах. После чего тетушка в десятый раз повторила наставления почтительно слушавшему управляющему…
Наконец появился паровоз. Каким чудовищем тогда он казался!
Сверкая черной сталью, с угрожающе огромным колесом, свистя, сипя, изрыгая клубы пара, паровоз стукнулся буферами в вагон и встал во главе состава…
