Еще не вечер бесплатное чтение
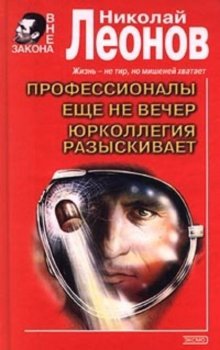
Накануне
Подполковник милиции Лев Иванович Гуров стоял на берегу Черного моря и швырял камешки в мутные невысокие волны, которые равнодушно и вяло взбегали на берег, шуршали галькой и отступали для нового разбега. Бросать камешки было неинтересно – и всплеска не видно, и звука не слышно, но Лева занятие свое не прекращал и, отбросав пригоршню, наклонялся за новой порцией гальки. Камешки были одновременно и теплые, и прохладные. Сначала он удивился, вроде так быть не должно, затем сообразил, сыщик как-никак: солнце нагревало лишь верхнюю, наружную часть камешка, «спинку», так сказать, а его «животик» оставался прохладным, чуть влажным.
Мартовское солнце даже в полдень было незлобивым, рассеянным, на пляже лежали только отчаянно терпеливые. Некоторые ухитрились порозоветь, большинство же светилось здоровой городской свежестью, похожей на снятое молоко. «И кожа у них, наверное, в пупырышках», – лениво подумал Гуров и попытался зашвырнуть камешек подальше. Получилось плохо, камешек исчез где-то в невысокой волне в нескольких метрах от берега.
– Здравствуйте, – сказала, подходя к Гурову, стройная молодая девушка. – Наконец вы нашли себе подходящее занятие, – и опустила на землю сумку и одеяло.
– Здравствуйте, Таня, – ответил Гуров, отряхнул ладонь и присел на шершавый валун.
Они познакомились несколько дней назад, на этом же месте, когда Лева тоже пытался загорать. Она так же подошла и поздоровалась, спросила, как его зовут, не скрывая насмешки, оглядела с ног до головы. Гуров, представляясь, как всегда, замялся. Лев Иванович – звучит претенциозно, Лев – смешно, Лева – вообще не звучит.
– Гуров, – буркнул он и, стараясь не торопиться, натянул на себя тренировочный костюм фирмы «Адидас». Этот костюм он успел возненавидеть в первый же день по приезде. Подавляющее большинство отдыхающих красовалось в чем-то подобном, и Лева, к немалой своей досаде, невольно оказывался в общем строю. «Вернусь и заставлю Ритку продать. За сумасшедшие деньги терпеть унижение…» – решил он тогда.
В день знакомства Гуров узнал, что Таня местная, живет с мамой в собственном доме, закончила курсы медсестер, работает в санатории, сейчас, как и он, в отпуске. Слушая ее неторопливую речь, Гуров, полузакрыв глаза, разглядывал новую знакомую и думал о том, что такие девушки встречаются на Кавказе, возможно, в Ростове или Краснодаре, но не в Москве и Ленинграде. Смешение рас, то самое, о чем булгаковский Воланд говорил: «Причудливо тасуется колода». Русская? Украинка? Нет. Но и не армянка и не грузинка. В Тане было понемногу от нескольких народов, причем взято далеко не лучшее, но в совокупности получилась женщина, на которую любой мужчина обратит внимание. Сильное смуглое тело, которого она не чувствует, не демонстрирует, как животные не ощущают свою естественность и красоту: они такими родились, такими и живут.
С первого дня Таня держалась с Гуровым как со старым знакомым: без кокетства, ненавязчиво, но и не скрывая своего любопытства к новому и ей неизвестному, что нес в себе человек из далекой Москвы.
– Странный вы, непонятный. – Таня расстелила одеяло и легла, не раздеваясь. – Вижу, вы мужчина сильный, самостоятельный, с другой стороны – одинокий, словно потерянный.
– Так оно и есть. – Гуров рассмеялся.
– Вы очень хорошо слушаете, с интересом, но без любопытства. О себе ни слова, но и таинственность не изображаете. – Таня, видимо, пригрелась, стянула с себя кофточку. – А мне интересно. Можно, я вас порасспрашиваю?
– Зачем? – Гуров пожал плечами. – Я сам признаюсь. – Верный своему принципу врать лишь в крайнем случае, сообщил: – Тридцать семь, женат, дочь, юрист. Выгнали из дома, приказали отдыхать, мол, нервное истощение у меня.
– А жена не ревнует? Отпустила на юг, одного.
– Ревнует, однако гордая, – ответил Гуров, подумал и добавил: – И умная. Мужчину нельзя удержать силой. Он либо любит, либо не любит.
– А вы всегда говорите правду? – Таня лукаво улыбнулась.
– Стараюсь. – Гуров пожал плечами. – Не всегда получается. Жизнь врать порой заставляет, бывает, характера на правду не хватает. Слаб человек.
– Потрясающе! – Таня села и уставилась на него, словно увидела что-то ей совершенно незнакомое.
Гуров решил инициативу в разговоре перехватить, используя старый, избитый прием: встречный вопрос.
– А как у вас, Таня, с правдой и ложью? Каковы ваши взаимоотношения?
– У меня? – Таня почему-то удивилась, затем захохотала, свалилась на одеяло. – Умереть можно! Я же баба! Для меня правду сказать – что уксусу выпить.
Она явно валяла дурака, говорила чушь, желая отгородиться, спрятаться. Гуров невольно насторожился, придавая голосу серьезность, сказал:
– Зачем женщин обижать? Думаю, вы разные.
– Думаешь. – Таня вновь села, взглянула на Гурова уже без любопытства, оценивающе, словно прикидывая, с какого боку ударить.
Он взгляда не отвел, не улыбнулся. Пауза излишне значительно затягивалась. «Ох и непроста ты, девушка, что-то ты мне голову морочишь». Гуров словно проснулся. Начал прокручивать все их встречи и беседы, понял, что не успевает – не все восстановит, не поймет вот так, сразу. И прошлое отбросил, сосредоточился на настоящем.
– Ох, мужики, мужики, – вздохнула Таня. – Повелители, умники, которые все знают. Мы, конечно, разные, а в одном, считай, одинаковые. Что правда, что ложь? Добро? Зло? Да ну вас! – Она махнула на Гурова рукой, повернула лицо к солнцу. – Такой день! Настроение! Все испортили!
«А что я, собственно, испортил? – подумал Гуров. – И кто этот разговор начал? Что-то ты, девушка, запуталась, сейчас я тебе помогу выбраться».
– Я согласен, – миролюбиво заявил он. – Вы врушка. Свойственно данное качество вашему очаровательному полу… Оставим это. Поговорим о вас лично. Вы ведь живете на холме? – Гуров указал направление.
– И это правда, – обрадованно согласилась Таня.
– У вас пляж лучше, галька мельче, и идти вам в два раза ближе. А вы сюда приходите. Почему? Соврите что-нибудь оригинальное.
– Вы мне нравитесь.
– Интересно. – Гуров кивнул. – Вы меня в бинокль разглядели?
Таня два дня прогуливалась у гостиницы, поджидая Гурова, но сказать об этом, по известным причинам, не могла, а быстрого ответа, похожего на правду, не находила. Поэтому отделалась немудреной шуточкой:
– В программе «Время» передавали, что Лев Иванович Гуров прибыл на наш курорт, остановился в гостинице «Приморская», страдает нервным истощением, требуется развлечь.
– Здорово! – Гуров захлопал. – Развлекайте! Хорошо, что в программе «Время» назвали мое имя и отчество. А то как бы вы узнали, что я Лев Иванович?
– Ой! – Таня схватилась за голову. – Это у вас в Москве никто никого не знает. У нас проще. В гостинице две мои подружки работают. Я такое о вас знаю… Закачаетесь!
– Поделитесь! Может, и я закачаюсь?
– Нет! У вас своя компания, у меня – своя.
– Тогда не смею мешать. – Гуров церемонно поклонился. – Всего наилучшего, – и, стараясь не оступиться на осыпающейся под ногами гальке, поднялся на набережную.
Таня смотрела ему вслед и думала, что напрасно приходит сюда. Этот человек ей не по зубам, можно нарваться на неприятности.
Гуров тоже был недоволен собой: решил отдыхать, так и отдыхай, а не придумывай себе заботы, которых тебе на службе хватает. Уже четвертый день, а прилетел он неделю назад, Гуров ощущал какой-то дискомфорт, что-то фальшивое в своем, казалось бы, беззаботном курортном житье-бытье. Он не желал заниматься анализом, а желал любоваться морем, пальмами, получать максимальное удовольствие от своей полной свободы. Спишь, ешь, ложишься, встаешь, гуляешь, можешь идти налево, можешь направо, хочешь – вверх, хочешь – вниз, ничего не должен, все как в сказке, желаешь – выполняй.
Первые дни он так и чувствовал себя, затем настроение стало портиться, естественность в поведении исчезла. Словно слушал он красивую музыку, да неожиданно оркестр разладился, ворвались фальшивые ноты и зазвучали все отчетливее. Гуров пытался их не слышать, вернуть гармонию, а она исчезла.
Был март, погода не установилась, дождь, ветер, солнце вперемежку. Гурову такая погода нравилась, даже думать не хотелось, что творится на этой театрально-декоративной набережной в разгар сезона. Он сел на скамейку неподалеку от статуи, глянув на нее с умилением и благодарностью. Эта гипсовая промокшая и озябшая девушка возвращала на землю, к жизненным реалиям, так как окружающий ландшафт был настолько неестественно красив и гармоничен, что человек рисковал воспарить или подумать, что он оказался в краю неродном. А взглянешь на ее воздетые ручки, плотненький купальничек, который надежно закрывает то, на что и смотреть-то не хочется, и поймешь: все нормально, ты на земле, дома.
«Давай разбираться, Гуров, что тебе жмет, отчего неуютно». Он начал вспоминать события, встречи, разговоры последних дней, очень быстро, ни за что не цепляясь, докатился до сегодняшнего дня. Значит, так: бросал камешки в море, никого не трогал, не мешал, появилась Таня. В чем дело? Почему вдруг напрягся? Пришел человек на пляж, солнце блеклое, прячущееся, однако загорать можно. Не обманывай себя, она ищет с тобой знакомства. Может, человеку одиноко… Все, и больше ничего? Может, профессионалка? Не сезон, клиентов нет. В гостинице у нее подруги работают, подсказали? Но в картотеке он всегда пишет: юрисконсульт. Бронь у него не милицейская, а горкома. «Ничего интересного обо мне в гостинице узнать нельзя, – подвел итог Гуров. – Однако она ищет знакомства».
Как часто случается, решение пришло неожиданно. Так решаешь геометрическую задачу. Кажется, нет ответа, условия неверны, а провел дополнительную черточку, соединил два угла, и все просто, только удивляешься своей недогадливости.
«Дело не в Тане как таковой, интересуется тобой девушка, и Бог с ней. В последние дни с тобой, Гуров, познакомилось несколько человек. Ты стал центром курортной компании. На гитаре не играешь, не поешь, застольем не руководишь, анекдоты не рассказываешь. Чего в тебе интересного? Посоветоваться с Отари? А не посмеется он? Лучше выглядеть глупцом до того, чем после», – решил Гуров.
Прошлой весной Гурова вызвали к генералу. Константин Константинович торопился на коллегию, поэтому, когда Гуров вошел, кивнул на присутствующего в кабинете мужчину и, не вдаваясь в подробности, коротко сказал:
– Лев Иванович, познакомьтесь с гостем и окажите помощь.
Невысокий бритоголовый то ли грузин, то ли армянин – Гуров не смог разобраться, выпрыгнул из кресла, поблагодарил генерала и выкатился из кабинета.
– Лева, – задержал Гурова Константин Константинович, – не сердись, что отрываю от дел, не перепоручай его, помоги сам.
– Хорошо, Константин Константинович, – ответил Гуров, понимая по тону генерала, что ничего хорошего в ближайшее время не предвидится.
Отари Георгиевич Антадзе, майор милиции, начальник уголовного розыска курортного города, который часто называют здравницей страны или жемчужиной Черноморского побережья, являл собой фигуру колоритную: мастер спорта по вольной борьбе, при среднем росте он весил сто десять килограммов. Отари приехал в столицу за «своим» жуликом, не желая отвлекать коллег от их многотрудной работы.
Все это Гуров установил в своем кабинете очень быстро и сразу понял, что Отари, видимо, опытный сыщик и в своей стеснительности лукавит. Он прилетел, потому что знает: «своего» жулика разыскивают, как родного, а по чужим ориентирам работают, словно ищут троюродного. Винить в этом сотрудников нельзя, так как ни один из розыскников от безделья не страдает.
Гуров Отари понимал, не осуждал, однако знакомству не радовался. Тот смотрел на Гурова виновато, просил называть себя только по имени, объяснив, что на его земле так принято, сам же обращался к хозяину исключительно по имени-отчеству.
– Мошенник, большой мошенник. – Отари выложил на стол фотографию разыскиваемого. – Людей много обидел, нацию позорит, надо его быстро-быстро в тюрьму. Он сейчас здесь, у вас, – и постучал пальцем по столу.
Гуров заглянул под свой стол, чем привел Отари в неописуемый восторг.
– Здесь вроде его нет, – серьезно сказал Гуров. – Где разыскивать будем?
Отари погладил широкой ладонью бритую, отполированную солнцем голову, глянул хитро.
– Мало-мало есть. – Он достал блокнот, открыл в нужном месте, протянул Гурову.
В блокноте были записаны две интуристовские гостиницы.
– Интересно, – вздохнул Гуров, возвращая блокнот. – Поехали.
Они побывали в гостиницах, в отделениях милиции, на территории которых находились эти гостиницы, но, как Гуров и ожидал, богаче не стали. Отари поселился в одной из гостиниц, записал телефон Гурова и дежурных по отделениям милиции и сказал:
– Спасибо, Лев Иванович, я один справлюсь.
Гуров молчал. Константин Константинович приказал помочь, однако своей работы хватает. На данном этапе в розыске мошенника, кроме наблюдения, личного сыска, предложить нечего. Узнать мошенника по фотографии вряд ли возможно, значит, задержать его может только сам Отари. Чем ему помочь? Находиться рядом, гулять у гостиниц, сидеть в кафе? Сколько дней? В принципе вся затея майора провинциальная и наивная. Преступник может сменить место охоты, уехать из Москвы.
Гуров окинул взглядом литую фигуру Отари. Конечно, один на один майор возьмет мошенника легко. А если тот окажется в компании соотечественников?
Отари ждал терпеливо, поглядывая на Гурова голубыми глазами, гладил свою полированную голову, казалось, слышал вопросы и готов был ответить на них.
– Вы за каждым «своим» лично вылетаете? – спросил Гуров. – А как же город?
Отари улыбнулся, пожал плечами, отвернулся. Гуров понял, что лучше ему было бы и не спрашивать. Раз начальник розыска прилетел, значит, ему этот преступник очень нужен. И оперативников у Отари мало, потому он здесь один, и как там без него в городе, майор не знает.
– Извини. – Гуров протянул руку. – До завтра, позвони в девять.
Отари разыскал мошенника на третий день. Гуров вскоре эту историю забыл, а месяц назад, когда его начали выгонять в отпуск, Рита сказала:
– Рекомендую Черноморское побережье. Там сейчас тихо, безлюдно. Я взять отпуск не могу, знаешь мою ситуацию, а тебе необходимо проветриться. Тем более что дорога у тебя бесплатная.
Жена, видимо, позвонила Константину Константиновичу. Гурову оформили отпуск. Выписали проездные документы, а он и не сопротивлялся.
В аэропорту его встретил Отари, отобрал чемодан, усадил в машину, привез в гостиницу, где его ждали. Он поселился в двухкомнатном «люксе» с балконом и окном на море и только к вечеру понял, как устал. «Наверное, я в последние дни совсем плохо выглядел, раз они все так на меня накинулись». Отпуск так отпуск. Первые сутки Гуров выходил из номера только в кафе, потом начал спускаться к морю, гулять по набережной.
Гуров сидел на скамейке, поглядывал на родную неуклюжую гипсовую девушку и пытался реставрировать дни, которые он провел на отдыхе.
Двое суток он отсыпался, бродил в одиночестве по набережной. Моросил мелкий дождь, ветер хлопал тяжелыми от воды полосатыми тентами; мутные возле берега, волны у буя, за который никто и не собирался заплывать, наливались свинцом. На третий день он надел костюм, белую рубашку и спустился на второй этаж, в ресторан, который только открылся после перерыва. Занято было лишь несколько столиков. Гуров знал, что шестиместный стол занимать опасно, официанты этого не любят, но четырехместные были только в центре зала, где сидеть одному неуютно. Кроме того, как каждый оперативник, Гуров не любил, когда за спиной ходят, и он сел у окна за большим столом. Как обычно, если события разворачиваются в жизни, а не на экране телевизора, на Гурова просто не обращали внимания. Он сидел тихо, ничего не требуя, официантки расположились в другом конце зала, тоже не шумели, обсуждали свои проблемы. Таким образом, установилось равновесие. Читая в газетах полемику на тему «Служба быта», Гуров неоднократно задумывался: кто с кем полемизирует и чего добивается? Неужели умные социологи, опытные журналисты всерьез полагают, что способны на страницах газет и журналов разрешить жизненную проблему?
Гуров поглядывал в дальний угол ресторана на невозмутимо беседующих женщин. «Культура обслуживания давно утеряна, экономически я им не нужен, можно говорить и писать ежедневно, ничего не изменится. Когда она наконец подойдет, я встану и поздороваюсь, – решил Гуров. – Какой получу ответ?»
Его размышления прервала подошедшая девушка.
– Здравствуйте, – сказала она, занимая место напротив Гурова. – Давно ждете?
«Удивился я тогда или нет? – Гуров провел рукой по шершавой скамейке, взглянул на грязную ладонь и подумал, что его фирменный костюм вскоре станет нормальной рабочей одеждой. – Почему она подошла ко мне, хотя в зале было полно свободных столов? Я тогда подумал, мол, не любит красивая женщина одиночества, ведь актер не может играть перед пустым залом. Может, не точно так подумал, но похожее мелькнуло тогда».
Гуров запоздало поднялся, поклонился:
– Здравствуйте.
– Майя.
– Гуров… Лев Иванович, – произнес он.
– На Иваныча вы пока не тянете, – рассмеялась Майя. – Вы всегда такой скромный? Приходите, садитесь и молчите? А если фужер разбить? Громко! Потом сказать, что случайно. Два рубля, а сколько удовольствия! Начнут ругаться, осколки собирать. А завтра подойдут мгновенно.
– Завтра работает другая смена, – ответил Гуров.
– Ни полета, ни фантазии!
– Мне уйти?
– Сидите. – Майя махнула на него рукой, вздохнула. – Летишь на этот курорт, надеешься на что-то новое, неожиданное. Только спокойно, Левушка, я женихов не ищу, хватает.
– Не сомневаюсь, – искренне ответил Гуров.
Майя была девушкой эффектной, не красивой, не хорошенькой, а именно эффектной, рекламной. Но не в пошлом понимании рекламы-распродажи. Рыжеватые, явно крашеные волосы обрамляли лицо правильного овала, коротковатый нос, полные губы, подведенные к вискам глаза, косметики в меру.
– Ну и как? – спросила она, нисколько не смущаясь под внимательным взглядом Гурова.
– Неплохо. Даже отлично, – ответил Гуров. – Вас спасают глаза. Содержание. Иначе при такой внешности и манере себя вести вы походили бы на куртизанку.
– Проститутку? Кстати, как вы относитесь к проблеме? Модная сейчас тема.
Гуров не успел сформулировать свое отношение к модной теме, к ним подошел элегантно одетый мужчина.
– Добрый день. Майечка, собираете отряд волонтеров? – Он подмигнул Гурову. – Артеменко. Зачислен вчера. На правах старослужащего должен вас предупредить…
– Володя! – перебила Майя. – Кончай трепаться. Распорядись! Мы с Левой сидим с утра.
– Разрешите? – Артеменко взглянул на Гурова вопросительно.
Официантка не подошла, подбежала.
– Здравствуйте, здравствуйте! Обед на три персоны? Зелень. – Она уже быстро писала в блокноте. – Лаваш подогреем. Сыр, есть язычок…
Артеменко не обращал на официантку внимания, сел, взял стоявшую на столе бутылку минеральной. Официантка тут же открыла ее, продолжала говорить и записывать.
– Горячим нас сегодня шеф не балует. Цыплят не рекомендую, шашлыки тоже. Но голодными не отпустим.
– Лед, пожалуйста, – прерывая ее монолог, сказал Артеменко.
После этого обеда, который незаметно перешел в ужин, жизнь Гурова изменилась.
В ресторане или буфете встречали улыбками, здоровались, выяснилось, что всегда есть холодный кефир или ряженка, даже боржом. В компании появилось еще двое мужчин. На следующее утро, у моря, он познакомился с Таней.
«Так, все сначала, – скомандовал Гуров, встал со скамейки, почистил брюки и пошел от гостиницы в сторону порта. – Эмоции отдельно, факты отдельно.
Спокойно, подполковник. – Гурову недавно присвоили звание, он еще не привык к нему. – Итак, спокойно. Кому и зачем ты можешь быть нужен? Делами о хищениях ты не занимаешься, пропиской в Москве не командуешь, к поступлениям в вузы отношения не имеешь. Никаких громких дел сейчас твое подразделение не ведет. Никому ты, подполковник, не нужен. Таковы факты.
Но к тебе же явно пристают, знакомства с тобой ищут. Причем люди совершенно разные, казалось бы, никак друг с другом не связанные».
Владимир Никитович Артеменко порой выглядел пятидесятилетним, но случалось, когда он задумывался или считал, что никто на него не смотрит, то выглядел и на все шестьдесят. Он очень следил за собой, кажется, и брился дважды в день, его костюмы всегда отутюжены, рубашки свежи, туфли начищены, одеколоном он пользовался очень умеренно. От вопроса, где и кем он работает, Артеменко не то чтобы уклонился, просто свел ответ к шутке. Мол, администратор, руководитель среднего масштаба, которому жить не стыдно, но и хвастать нечем. В гостинице, да и в других ресторанах и кафе, куда Гуров с ним заходил, Артеменко знали, встречали наилучшим образом. С первого дня Гуров установил с ним немецкий счет, то есть каждый платил за себя, и Артеменко отнесся к этому просто. Деньгами он не сорил, непомерных чаевых не давал, и причина его авторитета у обслуживающего персонала оставалась для Гурова неизвестной. Находясь в эйфории отпуска, в состоянии непривычного безделья, Гуров тогда не обратил внимания, а сейчас вспомнил. Артеменко последовательно пресекал повышенное внимание к своей персоне со стоpоны обслуживающего персонала, однако не скрывал своих возможностей. Несколько раз Гурову приходилось видеть гуляющих цеховиков – подпольных миллионеров. Артеменко никак не походил на них. И еще. Он, видимо, достаточно много и часто пил, но, поскольку пьяным ни разу не был, похмельем не страдал, руки у него никогда не тряслись, эта неумеренность в глаза не бросалась. О том, что Артеменко попивает, Гуров узнал случайно, заглянув пару дней назад к нему в номер, такой же точно, как его собственный. Горничная заканчивала уборку, и в ее корзинке лежали две пустые бутылки из-под коньяка. В ванной, куда Гуров зашел, чтобы вымыть руки, на полочке у зеркала тоже стояла начатая бутылка марочного коньяка.
Сейчас Гуров все это вспомнил, пытался как-то систематизировать, понять Артеменко, однако цельного образа не получалось. И еще пустяк, казалось бы, задумываться не стоит, однако почему Артеменко позволял называть себя всем без исключения по имени? И чем скромный юрисконсульт Лев Гуров мог заинтересовать этого странного человека?
Майя. Фамилии ее Гуров не знал. Инструктор физкультуры на каком-то предприятии. Лет около тридцати.
Гуров задумался. Кургузая, обрывочная информация, собранная из случайно оброненных фраз. В прошлом Майя была в большом спорте, как она выразилась: «Я лишь бронзовая, до золота силенок не хватило». Ходила замуж, не понравилось, скучно.
У гостиницы стояла сверкающая «Волга», которой Майя почти не пользовалась. «И зачем я велела сюда ее пригнать, сама не пойму, – сказала она. – Надо позвонить, чтобы прилетели и забрали».
«Волга» была ухоженная, вылизанная, и явно не женскими руками. Кто машиной занимается, кто ее пригоняет, угоняет? Поклонник? Бездумная, бескорыстная любовь? Майя отдыхает одна. Почему одна? Деньги? Возможно, единственная дочь в обеспеченной семье. А почему отдыхает в марте, не в сезон? Скучно же, даже загорать тяжелый труд. Ее интерес к Гурову в принципе объясним. Избалована мужским вниманием, привыкла, выбор небогат, Гуров и подвернулся. Кажется, ничего в Майе загадочного, но чем дольше он думал, тем больше в нем росла уверенность: эффектная, остроумная, казалось бы, открытая Майя в чем-то, причем в главном, лжет. Как лжет и Артеменко, которого все зовут по имени, что так же противоестественно, как гладить хищника, хотя он и из породы кошачьих.
– А, Лев Иванович, разрешите нарушить ваше уединение?
Гуров повернулся и увидел еще одного лгуна, самого неумелого в их компании.
Леониду Тимофеевичу Кружневу было лет сорок с небольшим. Среднего роста, болезненно худой, с темными кругами под глазами, тонкими поджатыми губами, он не вызывал к себе симпатии. Мягкий тембр голоса и постоянный вопрос, как бы застывший в глазах, которые от темных окружений казались неестественно огромными, придавали Кружневу такой беззащитный вид, что отказать ему в общении было невозможно. Он пытался держаться развязно и беззаботно, получалось у него плохо, и он, словно понимая свою актерскую бездарность, постоянно смущенно улыбался, как бы извиняясь.
Два дня назад, утром, он подошел в кафе гостиницы к столику Гурова и сказал:
– Приветствую, уважаемый. Не выпить ли нам по стаканчику вина? По случаю знакомства, так сказать. – Он прищелкнул каблуками, поклонился. – Кружнев, Леонид Тимофеевич. Москвич. Бухгалтер. Нахожусь в очередном отпуске.
Гуров взглянул на пустые столики, пожал плечами, вздохнул:
– С утра не пью, поручик. А вы никак ночью проигрались? – Гуров копировал тон и лексикон Кружнева, надеясь, что тот обидится и отойдет.
– Не судите да не судимы будете, Лев Иванович. – Кружнев расставил принесенную на подносе закуску, вынул из кармана болтавшегося на нем пиджака бутылку сухого вина, сходил за стаканами, налил. – Не извольте удивляться. Вчера слышал, как к вам обратилась дежурная. А нахальство мое исключительно от стеснительности.
Он чокнулся со стаканом Гурова и выпил одним духом.
– Знаете, пятый десяток разменял, Черное море впервые вижу. Один. Супруга недавно умерла, погибла, так сказать, в автомобильной катастрофе. Я и pешил гульнуть, а не умею, не обучался.
Гуров не любил стриптиз, в искренность случайных исповедей не верил, однако, выражая сочувствие, прижал ладонь к груди, кивнул и пригубил холодное, терпкое и очень легкое вино.
– Отдыхать, оказывается, – это большое искусство и дело довольно утомительное. – Кружнев вновь налил себе и выпил. – Я так вот попиваю винцо, поддерживаю состояние эйфории. Осуждаете?
Молчать становилось неприличным, и Гуров сказал:
– Я по части отдыха тоже не мастак.
– Вижу, но вчера вечером вы находились в развеселой компании – светская львица и преуспевающий современный бизнесмен. Еще с вами был эдакий плейбой, как я понял, из местных.
– Толик? – Гуров усмехнулся. – Действительно из местных. Работает физкультурником в санатории. Ну какой он плейбой?
Вечером Кружнев сидел с ними за одним столом и рассказывал древние анекдоты. Никакой настороженности он у Гурова не вызывал, разве что жалость и раздражение. Неудачник, слабый, поверхностный человек, видимо, из интеллигентной семьи.
Толик, тот самый физкультурник из санатория, как и все остальные, сначала познакомился с Гуровым. Их встреча состоялась на аллее напротив этой самой здравницы. Знакомство состоялось элементарно просто – Толик преградил своим спортивным телом дорогу Гурову и сказал:
– Привет, старик. Меня зовут Толик. Какие проблемы? Чем могу?
Гуров ответил: мол, проблем никаких, и хотел улыбающегося атлета обойти. Но не тут-то было.
– А у меня есть. – Толик широко улыбнулся. – Твоя жена? – Он кивнул в сторону стоявшей неподалеку Майи.
Гуров неожиданно для себя разозлился и заговорил певуче, на блатной манер:
– Не жена, парень. И мальчик, что стоит с ней рядом, – он взглянул на Артеменко, – не ейный муж. Я твоего имени не называл, катись. Счастливой охоты!
Гуров решил, что отбрил нахала, но и опытным сыщикам порой случается ошибаться.
– Вот дает! – Толик хлопнул его по плечу. – Ты мне сразу понравился, хоть и выглядишь интеллигентом.
Он подвел Гурова к Майе и Артеменко.
– Честной компании салют! Даме персонально! – Он поклонился. – Вот друга встретил, а он жалуется: мол, некуда в вашем городишке девать время и деньги. Да, – он хлопнул себя по широкой гулкой груди, – меня Толик зовут. Человек я в плохую погоду незаменимый. Все знаю, везде мне рады, за мной как за каменной стеной.
Артеменко беспечно улыбался, казалось, разыгрываемая клоунада ему доставляла удовольствие.
– Великолепный у вас, Лева, дружок. Наверняка в научном зале библиотеки познакомились, – сказал он.
– Экземпляр, – согласилась Майя. – Ну-ка, Толик, повернись, – и сделала пальцем круговое движение.
Толик повернулся, улыбаясь, словно выслушивал комплименты.
– Хвост давно отпал? – спросила Майя.
– Давно! – обрадовался Толик. – Но остальное при мне, не сомневайтесь. – И, чувствуя, что сейчас его прогонят, быстро продолжал: – Вы, москвичи, должны быть к аборигенам чуткими, жалостливыми. Мы же в заповеднике живем. Вчера в порту одна посудина причалила. Ее фашисты строили, денег награбленных не жалели; внутри уют, обшивочка, полировочка, бары-шмары, прочие атрибуты чуждой цивилизации. По нынешним временам соки подают, кофием людей травят, но если вы меня с собой возьмете, примут в лучшем виде, все будет. Ну как, командир, двигаем? – Он взглянул на Артеменко. – Как я понимаю, именно вы распорядитель кредитов?
– Пошли! – сказала Майя и, чувствуя, что Гуров сейчас откажется, взяла его под руку.
Так в их компанию ворвался непрестанно улыбающийся Толик.
Итак, за несколько дней с ним познакомились: Майя, Артеменко, физкультурник Толик, бухгалтер Кружнев, а на пляж стала приходить Таня. И чем дальше он вспоминал, тем ему больше случайные знакомства не нравились.
«Да, надо позвонить Отари, – решил Гуров. – В конце концов, он устроит мне номер в другой гостинице, я перееду и буду жить спокойно. А как я Отари объясню свою просьбу? Стыдно, Гуров, ты становишься подозрительным шизофреником. А не нравятся тебе люди, не поддерживай отношений, кто тебя заставляет?»
– Не помешал? – Кружнев, склонив голову набок, заглядывал Гурову в глаза и виновато улыбался. Он был не один. За его щуплой фигуркой громоздился улыбающийся атлет Толик.
– Извините, занят, – сухо сказал Гуров и зашагал прочь от гостиницы.
– Лев Иванович, извините, – бормотал за спиной Кружнев. – У нас предложение…
– Бухгалтер, – перебил Толик, – оставь человека в покое.
Предложения Гуров не слышал. «Интересно, чем я занят и куда направляюсь? Может, в отдел к Отари заглянуть, посидеть среди своих?»
Но в милицию Гуров не пошел, понимая, что дел у коллег хватает и без него, бездельника. Откуда Гурову было знать, что ждет его скорая встреча с Отари, скорая и неизбежная?
Поднявшись в город, Гуров долго бродил под накрапывающим дождем, потом пообедал в столовой, зашел в кинотеатр, через полчаса сбежал. Вернувшись в гостиницу, он прокрался в номер, заперся, не подходил к телефону, не отвечал на стук в дверь. Вечером стучали особенно настойчиво.
– Лева, ты жив? Отзовись! – настойчиво и громко требовала Майя.
Пришлось подойти к двери.
– Жив, но болен и лег спать, – сердито информировал Гуров.
На следующее утро ему пришлось горько пожалеть о своем поведении. Столько дней терпел, мог бы потерпеть еще один.
Таким образом, непосредственно перед катастрофой он никого из компании не видел, последней информацией не располагал. Что делать. Случается, на человека нападает хандра.
Артеменко Владимир Никитович
Он родился сыном «врага народа». Отца арестовали, когда мать была на седьмом месяце. От потрясения она заболела, родила преждевременно. Мама рассказывала, что на темени у Володи пульсировала тонкая кожа, под которой кости не было, глаз он два месяца не открывал. Врачи сказали: ребенок жить не может. Он тех слов не слышал, но, не открывая глаз, ел непрестанно, окреп, занял местечко под солнцем.
В войну мать и сын жили, как все, впроголодь. В детстве Володя ни разу не почувствовал, что он сын врага. Отцов в те годы почти ни у кого из ребят дома не было, борьба за жизнь отнимала столько времени и сил, что на раздумья ничего не оставалось, а мать помалкивала.
Война кончилась, отец умер в лагере. К последнему событию Володя отнесся равнодушно: никогда человека не видел, а сообщения о смерти в те годы поступали ежедневно, среди сверстников говорили о ней обыденно. К Сталину Володя Артеменко относился, как и подавляющее большинство окружающих, с восторженным благоговением. Он кое-как закончил десятилетку, перебиваясь случайными заработками – зимой помогал в котельной своего дома, летом работал в ЦПКиО имени Горького на аттракционах, катал отдыхающих. Поступил на юридический факультет университета. В метрике в графе «Отец» у него стоял прочерк, но к этому времени мать уже получила бумажку, в которой фиолетовыми чернилами было написано, что Артеменко Никита Иванович реабилитирован за отсутствием состава преступления. Володя уже знал, что слова эти означают: никакого преступления отец не совершал.
Что теперь поделаешь, убили и убили, двадцать миллионов погибло, чего об одном слезы лить? Паспорт у тебя, парень, есть, метрику с позорным прочерком никому показывать не надо, тебе еще вместо отца и справку, написанную фиолетовыми чернилами, с гербовой печатью выдали, дорога перед тобой светлая, шагай. Человек – сам творец своего счастья.
Володя Артеменко зашагал. С товарищами-студентами поехал на целину. И сегодня, спустя больше тридцати лет, он вспоминает иногда владевший всеми подъем и энтузиазм, сутки без сна, скользкие от пота рычаги комбайна, непроходящую боль и усталость в теле, костры и песни. А вот чего он никогда не может забыть, так это ту осень, когда они, молодые, гордые, возмужавшие, считавшие себя победителями, увидели, как гибнет выращенный ими хлеб.
Целина была их Великой Отечественной, проверкой молодого поколения. Казалось, они достойны отцов, выстояли и победили. Хлеб, убранный бригадой Артеменко, не вывезли, он остался гнить. И Артеменко долго виделись горы гниющего зерна, за которое он заплатил щедро, не торгуясь. Сколько было у него в ту пору сил, столько и отдал. А над ним просто посмеялись, обманули. С газетных страниц рапортовал комсомол: с заданием партии справился, планы перевыполнены. А Володя знал, что это обман, и впервые понял, что прав был Козьма Прутков: «Не верь написанному».
Володя вернулся в Москву, узнал, что мать похоронили месяц назад, что ему слали телеграммы, которые его не нашли. А может, телеграммы потеряли, а то и вообще забыли передать. Так он остался один в двенадцатиметровой комнате, девять семей в квартире со всеми удобствами.
Культ личности был всенародно развенчан, Сталина клеймили, возмущались, негодовали. Володя Артеменко помалкивал, наблюдал. Без любопытства, но как-то отстраненно отметил, что шумят и воинствуют люди, которых культ напрямую, непосредственно не коснулся.
В семьях же, которые культ переехал, отрезал кусок, только вздыхали, заглядывали в семейные альбомы, доставали и рассматривали потускневшие фотографии. И будто успокоились: отцов не воскресить, детям надо жить. Как фронтовики говорят о войне лишь друг с другом, так и родственники погибших в лагерях не ведут бесед с посторонними, да и между собой нечасто. Обмолвятся несколькими словами и замолчат, словно человек, касающийся дрожащими пальцами старой раны, которую страшно разбередить.
Артеменко получил диплом, стал работать следователем в районной прокуратуре, оклад получал небольшой, жил бедно и однообразно. Скучно женился и скучно развелся, детей, слава Богу, не нажили.
Сейчас, вспоминая свою молодость, время, когда жизнь вокруг бурлила, все призывали к свободе и обновлению, он себе удивлялся: почему он тогда будто задремал?
А время шло. Хрущева сняли, выяснили, что Америку по всем показателям завтра еще нам не перегнать, кукуруза нужна, но расти во всех климатических зонах не хочет и, видимо, не будет, о коммунизме, который должен наступить в восьмидесятом, громко говорить перестали, а новых сроков не установили.
У женщин Артеменко всегда имел успех, но ему нравились женщины праздничные, шикарные. Чтобы обладать ими, требовалось иметь либо деньги, либо талант. Ни тем, ни другим следователь Артеменко не располагал и обходился кратковременными равнодушными связями. Вина он почти не пил, отчего близких друзей не имел: известно, мужчин объединяет работа, семьи либо застолье. Последнее отпадало – жены приятелей его не привечали, мало ли чего холостой может придумать. Работал он много, пользовался авторитетом, засиживался в кабинете порой допоздна – торопиться-то некуда. Взяток он не брал, с подследственными держался скорее мягко, чем жестко, люди, получавшие после знакомства с ним срок, зла на Артеменко не держали.
Так он жил-поживал, добра не наживал, стоял в безнадежной очереди на квартиру, жениться не собирался и уже смирился с мыслью, что жизнь не удалась. Взрыв произошел неожиданно и разнес его сонное существование в клочья.
Он вернулся с работы около восьми часов и обнаружил в своей квартире сверток, в котором находилось всего-навсего двадцать тысяч рублей. Входная дверь в квартиру открывалась копейкой, замок в его комнату – гвоздем либо пилочкой для ногтей, так что войти мог всякий, кто хотел. Записки никакой не было, лежали двадцать тысяч и вся недолга.
Деньги он убрал в шкаф с посудой, зная по опыту, что залезшие в квартиру воры деньги ищут в белье и среди книг. Заявить о происшедшем прокурору Артеменко даже в голову не пришло. Он отлично понимал, что его покупают, не знал только, по какому конкретно делу и что взамен попросят. Он пришел на работу к семи утра, вынул из сейфа дела, которые находились в производстве, и очень быстро установил, какое из них могло стоить такой суммы. Начальник некоего управления, находясь за рулем личного автомобиля марки ГАЗ-24 в нетрезвом виде, врезался в «Жигули», и находившаяся за рулем молодая женщина, не приходя в сознание, скончалась.
Он убрал остальные дела в сейф, оставив на столе пока еще совсем тоненькую папочку. Наезд, точнее убийство, так как водитель был пьян и значительно превысил скорость, произошел третьего дня.
Артеменко, перечитывая материалы, думал о том, что водитель машины может быть трижды начальником, а срок он получит внушительный. Одновременно случается и такое, в голове вертелась и другая мысль, совершенно противоположная: следователь решал, правда, пока теоретически, что для спасения водителя можно предпринять, какие документы следует из дела убрать, а какие изменить и вытянуть преступника на условную меру наказания.
«Сегодня податели денег не объявятся, – рассуждал он, – бросили кость и ждут, схвачу я ее или отнесу хозяину. Они не пошли со мной на прямой контакт, знают, я не беру, значит, имеют обо мне информацию. От кого? Прокурор отпадает, скорее всего, осведомитель – кто-то из коллег. Если я пойду к прокурору? А секретарша? Конечно, можно старика вызвать по телефону и решить вопрос вне прокуратуры. И вытащить на свет это дерьмо. Хорошо дерьмо, если может бросить двадцать тысяч на авось. Кооперативная квартира с обстановкой. Интересно я буду смотреться в этом кабинете: занимаю пятерки и покупаю квартиру».
Артеменко сам с собой играл в прятки, отлично понимая, что к прокурору не пойдет, будет ждать, как развернутся события.
Через пять лет Владимир Никитович Артеменко жил в двухкомнатной квартире улучшенной планировки, ездил на собственной машине, работал директором дома отдыха под Москвой. Он искренне удивился, как легко и безболезненно произошла перемена, словно он не перебежал в лагерь своих противников, а зашел в магазин, сбросил с себя все, начиная с белья и носков, и надел новое. И ничего, оказывается, не жмет, все подогнано точно по фигуре. Надо отдать должное, занимались его экипировкой профессионалы.
Тогда, в далеком прошлом, его остановили на улице, пригласили в машину – никакого принуждения, все с улыбкой, даже с юмором. В кабинете загородного ресторана его ждал мужчина лет сорока с внешностью чиновника среднего звена, скучным невыразительным лицом. Уже через несколько минут Артеменко убедился, что перед ним человек незаурядного ума, воли и выдержки.
– Здравствуйте, Владимир, садитесь, поужинаем.
Имя и фамилию этого человека Артеменко узнал только через десять лет.
– Вы не пьете, а я рюмку себе позволю. – Он налил и выпил, подвинул гостю салатницу.
Стол не ломился от яств: салат из овощей, язык, графинчик водки и минеральная вода. Хозяин начал разговор без предисловий.
– Как вы относитесь к моему предложению? Вы знаете, о чем идет речь? Хотите ли вы помочь? И возможно ли помочь?
– Не знаю, – ответил Артеменко, – я думаю третьи сутки, решить не могу.
– Вас смущает сторона этическая или правовая?
– Не знаю.
Хозяин отложил вилку, взглянул на Артеменко внимательно, прищурился, словно прицеливаясь.
– Вы мне нравитесь. Женщина погибла, мой приятель оказался подонком. Говоря «оказался», я себя обманываю, давно знал, что он дерьмо. Но я в таком возрасте, Владимир, когда друзей не выбирают, как и не меняют коней на переправе. Девочку не вернешь, и за десять лет моего дружка не исправишь. Возмездие? Чтобы другим неповадно было? Давайте не будем переделывать человечество и решать, быть войне или ей не быть! Вопрос идет, как я понимаю, о вашей совести. Вы – член партии?
– Естественно.
– Да, на вашей работе естественно. – Хозяин вздохнул. – Проблема взаимоотношения человека с самим собой сугубо личная, помочь извне невозможно. Конечно, я могу сказать вещи, хорошо вам известные. Ваш лидер награждает сам себя и, видимо, спит спокойно. Как ведут себя его дочь и зять, вы тоже знаете. Я могу привести вам примеры, десятки, сотни примеров безнравственности и откровенной уголовщины среди лиц неприкасаемых. Вы возразите: мол, пусть так, они такие, а я иной. Вы правы, Володя, абсолютно правы. Чем я могу вам помочь? – развел он руками. – Вы отлично понимаете: соверши аварию кто-либо из неприкасаемых, у вас и материала в сейфе не было бы. И ваш прокурор, мужественный фронтовик и честнейший человек, о данном факте просто бы ничего не знал. Мой приятель, эта обезьяна в человеческом обличье, не виноват, что служит у личности относительно беспомощной. Я делаю, что могу. Если вы откажетесь, претензий никаких, угроз тем более, за деньгами заедут, и мы с вами никогда не встречались.
Хозяин выпил еще рюмку и стал аппетитно, неторопливо закусывать. Артеменко пил минеральную воду, что-то жевал, но вкуса еды не ощущал. В голове лишь гулкая пустота, обрывки не связанных между собой мыслей. Он отлично понимал: его покупают и вербуют, но раньше ему казалось, что делается это как-то совсем иначе, более цинично, прямолинейно и жестоко.
Человек, сидящий напротив, говорил правду – все так и есть, существуют неприкасаемые. Он, Артеменко, выявляет, доказывает вину только тех, кого ему разрешают отдавать под суд. Развенчали и заклеймили культ личности… Почему-то вспомнились горы гниющей на полях целины пшеницы. Волюнтаризм тоже заклеймили. А что сегодня? Дождутся, когда умрет, выявят недостатки и дружно осудят, кольцо вновь замкнется. А он, Артеменко, будет служить, как служил, голосовать, соглашаться и поддерживать, возмущаться прошлым и восхищаться настоящим.
Он не заметил, как подали шашлык. С трудом прожевав кусок, налил себе в рюмку водки.
– Кофе, пожалуйста, – сказал хозяин официанту. – Вы мне нравитесь, Володя. Не люблю болтунов и людей, принимающих решения быстро. Скоро соглашаться – легко отказаться. Если вы решите служить у меня, официальное место работы придется сменить. Согласитесь: располагать деньгами и жить в коммуналке не имеет смысла. Место я вам подберу, повод для ухода из прокуратуры – состояние здоровья. Был бы человек, а болезнь у него врачи найдут, я позабочусь.
Артеменко вывел подследственного из-под прямого удара. Передопросив свидетелей, он одни документы фальсифицировал, другие уничтожил. И друг хозяина получил три года условно. Врач, с косящими, как у одного булгаковского персонажа, от постоянного вранья глазами, обнаружил у Артеменко какое-то заболевание, объяснил симптомы, научил, на что следует жаловаться, и вскоре он из прокуратуры уволился и стал заместителем директора дома отдыха.
Год Артеменко не беспокоили, помогая анонимными звонками со вступлением в кооператив, с покупкой машины, организацией быта. Затем в доме отдыха появился Пискунов, тот самый спасенный им от тюрьмы выпивоха-автолюбитель. Борис Юрьевич, так звали этого деятеля, передал Артеменко поклон от общих знакомых и просьбу отвезти в Ригу черный увесистый кейс. Так началась его служба в подпольном синдикате, размах деятельности которого Артеменко не представлял. И сегодня, спустя более чем двадцать лет, он знал об этой корпорации только в общих чертах, что спекулируют валютой, квартирами, машинами. Но какие суммы оседают в руках хозяина, сколько людей на него работает, кто и сколько получает, Артеменко не знал. Его это вполне устраивало: опыт прежней работы подсказывал, что чем меньше контактов и информации, тем меньше риск, а в случае провала – короче срок.
Хозяина звали Юрий Петрович. Сегодня он пенсионер, а где работал раньше – не говорит. А Артеменко и не интересуется. И эта его манера никогда ничего не спрашивать, брать деньги и не торговаться, крайне импонировала Юрию Петровичу. Он приехал в дом отдыха год назад и сказал:
– Володя, все меняется, надо и нам перестраиваться, иначе посадят. Уже арестовали две группы, выхода они на меня не имеют, но треть «империи», – он криво улыбнулся по-старчески бескровными губами, – я потерял.
– А может, самораспуститься? – спросил Артеменко. – Мне лично денег до конца жизни хватит.
– Деньги, Володя, лишь бумажки. Я без дела и власти жить не могу, помру.
– А так помрем в тюрьме, в одной камере.
– Чушь! Ничего ваш новый не сделает. Молодой идеалист. За его спиной такая гора лжи нагромождена, что ею вера у людей захоронена. Человек без веры жить не может, не жизнь это, а жалкое прозябание. По моим подсчетам, новые начинания, по вашей терминологии, среднее звено похоронит. Если у человека головной мозг команду дает, а в спинном блок, то ноги не двигаются.
– Блок можно убрать.
– А где взять людей? Из миски похлебку выплеснуть, да из того же котла свежую налить? Чиновники пригрелись, работать не хотят, да и не умеют.
– На нас умельцы найдутся.
– Возможно. А что делать? Ну, уйдем мы с тобой в стоpону. Думаешь, все наши вpаз успокоятся? Никогда. Будут пpодолжать, сядут и заговоpят. А без меня они очень быстpо сядут.
– А что делать?
– Надо бы двух, лучше тpех, убpать, похоpонить, чтобы на нас не могли выйти.
– Я на убийство не пойду.
– А куда ты денешься, Володя?
Разговоp на этом пpеpвался, но Аpтеменко знал: шеф никогда ничего не говоpит пpосто так, надо ждать пpодолжения. Он начал думать, и ничего толкового пока в голову не приходило.
В принципе Петрович прав: новая волна сметает такие тяжелые фигуры подпольного бизнеса, что об их «синдикате» и говорить не приходится – его просто слизнут и не то что в «Известиях», в «Вечерке» упомянуть не удосужатся.
В последнее время Артеменко покупал множество центральных газет, читал и радовался, когда находил статью с очередным разоблачением или фельетон о «подпольщиках». Ему бы следовало испугаться, а он восторгался, смаковал подробности, и чем выше пост занимал «герой», тем больше Артеменко получал удовольствия. Ведь министры, замы – взяточники и воры – самим фактом существования реабилитировали Артеменко в собственных глазах. Раньше, защищаясь, пытаясь спрятаться от самого себя, он создал такую конструкцию: «Отца моего ни за что ни про что арестовали, посмертно реабилитировали, так это лишь бумажка. Хорошо, я стерпел, встал под новые знамена. И что? Я верил, голосовал, поддерживал, шагал в ногу со всеми. Оказалось, что подняли не то знамя, и в ногу я маршировал не в ту сторону. Снова заиграли марши и начали бить барабаны. Я не так уж ретиво, но зашагал. Сколько можно верить? Возможно, я человек слабый: вышел из колонны, начал думать о благе личном, нарушать закон, «тянуть одеяло на себя». Ну, слаб человек, а искушение велико. Так мне высокое звание Героя и не присваивают, на ордена я сам не претендую, и вообще, если от многого взять немножко, то это не кража…»
Но как он себя ни уговаривал, а спустя годы цинично признал: ты, Владимир Никитович Артеменко, предал друзей и стал вором. Так есть, и не крути, живи, пока живется. Сегодня же, когда на свет Божий вытащили фигуры – не тебе ровня, людей, воровавших так, что по сравнению с ними ты просто агнец, ликуй, Артеменко, и пой, чист ты перед совестью и перед людьми чист, хотя с ворованного партвзносы и не платишь.
«Сегодня вы прошедшие чуть не двадцать лет называете периодом застоя. Развратили меня окончательно, теперь перестраивать начнете? Нет, поздно, молодых перестраивайте, мое поколение потеряно».
Почему Артеменко отождествлял себя и своих содельников с целым поколением, неизвестно, но подобная теория его абсолютно устраивала, замиряла с агонизирующей совестью. Наступил мир, воцарилось благоденствие.
И надо же, пришел этот мудрец, шеф, организатор производства, Лебедев Юрий Петрович, и весь праздник испортил. Надо уносить ноги. Просто выйти из дела, устраниться? Не поможет, возьмут через год или два, по его статье срок давности длинный, им не прикроешься. Что делать? Петрович предлагает выбить связующее звено между ними и непосредственными исполнителями, тогда низ потонет, а верх останется на плаву. Теоретически верно, только Петрович – мастер в области экономики, в уголовных делах – новичок. Убийства спланированные, с заранее обдуманным намерением, раскрываются практически всегда.
Шло время, Петрович не появлялся, мрачные мысли начали отступать, тускнеть.
Майя приехала в дом отдыха на неделю. Артеменко сразу определил в ней профессионалку, послал в номер цветы, ужинали они в ресторане. Начало «романа» походило на все предыдущие, как оловянные солдатики один на другого. Но уже в первый вечер Майя внесла значительные коррективы.
– Мой номер «люкс» и на ночь не сдается, минимум месяц. Стоимость – тысяча, оплата перед въездом. Естественно, клиент может заплатить, переночевать и не возвращаться.
– Считаю, что вы мотовка, подобные апартаменты не встречал, но уверен, они стоят значительно дороже, – ответил Артеменко.
– Дороже можно, – милостиво согласилась Майя.
Через неделю, может, позже, так как Майя путевку продлила, точный срок определить трудно, Артеменко влюбился. Он не почувствовал, не осознал, в какой момент превратился из квартиросъемщика в постояльца, с которого плату берут вперед, а ночевать пускают по настроению, из милости, не нравится – закройте за собой дверь. К материальной стороне Артеменко относился просто: наворовал достаточно, наследников нет, в крематории деньги не требуются. Зависимость, в которую он попал, он недооценивал. «Станет невмоготу – сорвусь, от любви в моем возрасте еще никто не умирал». Так человек выпивает раз в неделю, затем через день, каждый день, сначала только вечерами, потом и в обед, вскоре прикладывается и с утра. Уже и под гору скатился, вот и канава перед носом, а он все пыжится, заплетающимся языком декламирует: «Да я когда угодно, хоть сей момент, вот эту последнюю – и до Нового года завяжу».
В течение года Артеменко завязывал с Майей дважды. Когда она рядом – плохо, когда далеко – еще хуже. Пpеследовал ее запах, голос, в самые неожиданные моменты Артеменко вздрагивал, слыша стук ее каблуков, но Майя не появлялась.
Вернувшись после второго побега, Артеменко сделал предложение.
– Зачем? – Майя взглянула удивленно. – Разве нам плохо? Ты старше меня почти на тридцать лет, над нами смеяться будут. Мужик, мол, из ума выжил, а девка – хищница.
– А ты не хищница?
Майя иронически улыбнулась и не ответила.
Артеменко подарил ей свою старую «Волгу». Так как дарить машину непрямому родственнику не разрешается, он продал ее через комиссионный, оплатив стоимость расходов. Майя погладила Артеменко по щеке, сказала:
– Спасибо, – и укатила на собственной машине домой, ночевать не осталась.
Артеменко так запутался в своих отношениях с Майей, так устал от круглосуточной борьбы с ней и собственным самолюбием, что на время забыл о последнем разговоре с Юрием Петровичем и той угрозе, которая нависла над ними.
Шеф явился к нему в служебный кабинет без звонка, не подчеркивал своего старшинства, занял стул для посетителей.
– Ты был следователем по уголовным делам, – начал он без предисловий. – Бориса требуется срочно убрать. Думай.
– Хорошо, обмозгуем, – согласился Артеменко и посмотрел на Петровича с благодарностью.
Это чувство, естественно, было вызвано не предложением-приказом убрать Бориса (кстати сказать, делать этого Артеменко ни в коем случае не собирался), а той идеей, которую подал ему Юрий Петрович.
«Как мне самому в голову не пришло? Если Майи не станет, она исчезнет, то я буду свободен! Когда начинается гангрена и процесс ее необратим, ногу отрезают. Вырываясь из капкана, хищник отгрызает себе лапу».
Катастрофа
Проснулся Гуров от телефонного звонка и молниеносно вскочил – сработал выработанный годами рефлекс. «Начало восьмого, совсем сбрендили от безделья друзья, – подумал он и трубку не снял. – Соскучились, понимаю, но ничего, позавтракаете без меня, я еще сплю». Он не спеша отправился в ванную, спокойно брился, полоскался под душем, слушал вновь оживший телефон и отчего-то злорадствовал: «Звони-звони, торопиться некуда, здесь не Москва, я никому ничего не должен».
Лев Иванович Гуров не так давно стал заместителем начальника отдела МУРа, подполковником. Когда перед отъездом на юг он зашел в парикмахерскую, мастер посоветовала ему оставить баки – молодому человеку, на ее взгляд, очень идет седина. «Она вас не старит, – рассуждала девушка, щелкая ножницами, – а придает некоторую загадочность. А то у вас глаза больно озорные, легкомысленно выглядите».
Лева ответил парикмахерше, что, пожалуй, подумает, а сегодня виски все-таки подстричь, черт с ней, с загадочностью.
Сейчас Гуров, причесываясь, внимательно осмотрел себя в зеркало. Виски действительно чуть серебрились, но, чтобы заметить это, необходимо зрение орла.
Гуров надел костюм и выбирал галстук, когда в дверь постучали.
– Я сплю! – громко сказал Гуров.
«А чего я, собственно, вчера разбушевался? Знакомые тебе не нравятся? Вроде бы преследуют тебя, прессингуют? Мания величия! Кому ты нужен, подполковник? Непогода, скучно людям, они не привыкли к безделью и одиночеству, тянутся друг к другу и к тебе не более, чем…»
В дверь снова постучали. Гуров поправил галстук, одернул пиджак, открыл дверь, театрально поклонился.
– С добрым утром!
– Гражданин Гуров? – В номер вошел сержант милиции.
Гуров отметил настороженный блеск его агатовых глаз. Черные усики сержанта воинственно топорщились, юношеское лицо своей строгостью рассмешило Гурова.
– Уже и гражданин? – Он некстати хихикнул. – Но и с гражданами полагается здороваться, товарищ сержант.
– Почему вы не снимали трубку, Лев Иванович? – Сержант быстро прошел в номер, заглянул в ванную, хотел открыть шкаф, но не открыл. – Почему отвечаете, что спите?
– Долго объяснять, товарищ сержант, – серьезно ответил Гуров. – Сначала связывал простыни, все-таки третий этаж, а дама испугалась. Потом возился с наркотиками, тайника нет, пока спрячешь… Вы завтракали? – Он шагнул через порог, вынул из двери ключ, вставил с обратной стороны. – Пошли выпьем по чашке кофе и спокойно обсудим ваши проблемы. А то вы от неопытности и служебного рвения начинаете нарушать закон.
Сержант растерялся, усики у него поникли, он бросил взгляд на номер, который ему явно хотелось внимательно осмотреть, стоял в нерешительности.
Гуров почувствовал себя неловко. «Мальчику максимум двадцать два, наверное, только в армии отслужил, опыта ни жизненного, ни милицейского, а я, старый волк, над ним подшучиваю, вроде куражусь. А чего он явился? Может, Отари не мог дозвониться и послал за мной? Глупости, сержант бы вел себя иначе».
Они так и стояли, хозяин уже в коридоре, а гость – в номере.
Гуров оценил нелепость ситуации и миролюбиво спросил:
– У вас ко мне дело? – и почему-то усмехнулся. – Идемте, идемте, выпьем по чашке кофе и потолкуем.
«Самоуверенный какой, одно слово – москвич! – Сержант рассердился. – Усмехается нагло. Дверь не открывал. Шуточки. Что-то неладно с постояльцем».
– Вы где работаете, гражданин? – Сержант полагал, что такое обращение должно подействовать на человека. «Будьте вежливы, но не забывайте, кого вы представляете, – вспомнил сержант наставления начальства. – Вы всегда должны владеть инициативой». – В нашей гостиничной карточке написано, что юрисконсульт. В каком учреждении, министерстве?
Гурову надоело: «Стоим, как сопляки, и препираемся».
– Все! Выходите из номера. – Он кивнул сержанту. Когда тот нерешительно шагнул, поторопил его, подтолкнув под локоть: – Идем к администратору, там объяснимся!
– Но-но, только без рук! – вспылил сержант.
Гуров не ответил, запер номер и быстро пошел по коридору, милиционер затрусил следом, догнал и дышал в затылок.
Начальник уголовного розыска майор милиции Отари Георгиевич Антадзе сидел в холле первого этажа и, поглаживая полированную голову, беседовал с Артеменко и Майей. Майор видел спускающегося по лестнице Гурова, не улыбнулся, даже не поздоровался, глянул безразлично и продолжал разговор. Четвертым за их столом сидел старший лейтенант милиции. «Следователь, – понял Гуров, – но не прокуратура, значит, никого не убили. Видно, обворовали моих приятелей, а меня вчера весь день не было».
Подполковник Гуров ошибся. И он довольно быстро сообразил, что рассуждает поспешно. За соседним столом сидели двое в штатском, оба с чемоданчиками. Один из них – эксперт, другой – врач. «А почему врач? И почему Отари хочет, чтобы о нашем знакомстве не знали? Здесь что-то не так. – Гуров тяжело вздохнул, как дремлющий в гамаке человек, услышавший, что его зовут окучивать картошку. – Подите вы все от меня! Никому я ничего не должен, я отдыхаю! Это ваши грядки!» Ничего подобного Гуров вслух не произнес, злость же сорвал на незадачливом сержанте:
– Да не дышите мне в ухо, не сбегу! Поздно уже, вон сколько вас понаехало!
Отари на них не посмотрел, но улыбки не сдержал, тихо беседовал, никаких записей не вел. Следователь, отложив официальные допросы, делал какие-то пометки в блокноте.
Чертыхаясь, покряхтывая, Гуров словно распрямил затекшую поясницу и, совершенно не желая того, начал работать. Все небритые, у эксперта ботинки в грязи, брюки мокрые. Врач читает и правит свое заключение. Труп либо тяжкие телесные… И не в гостинице, оперативники на улице лазили, промокли плащи, что лежат на одном из кресел, уже лужа натекла. Подняли группу ночью, сюда они прямо с осмотра, работали три-четыре часа, значит, дело дерьмо.
«Отари определенно имеет на меня виды».
Гуров подошел к столу, за которым Отари и следователь беседовали с Майей и Артеменко, и сказал:
– Здравствуйте. Извините, что прерываю. Моя фамилия Гуров, живу в триста двенадцатом, доставлен под конвоем.
Артеменко рассеянно улыбнулся и кивнул. Майя взглянула на Гурова неприязненно:
– Мою «Волгу» угнали.
– Черт побери… – пробормотал Гуров. – Приношу свои…
– Кажется, Лев Иванович? – перебил Отари. – У нас к вам несколько вопросов. Зайдите в отделение, скажем, часов в двенадцать.
– Майя, я не умею утешать, да и бессмысленно. – Гуров перевел взгляд на Отари: – Я не знаю, где здесь милиция. Если я вам нужен, пришлите за мной машину. И что за порядки? Вламываетесь в номер…
– Вы не подходите к телефону, – вмешался в разговор следователь.
– Между прочим, со вчерашнего дня, – вставила Майя.
– Извините, Лева, женщина нервничает, – сказал Артеменко.
– Да чего уж, понятно. Я в кафе на втором этаже, – Гуров кивнул Артеменко. – Договорились?
Он сделал общий поклон и ушел. «По угону не выезжают бригадой во главе с начальником розыска, – рассуждал Гуров, доедая яичницу и прихлебывая теплый прозрачный кофе без вкуса и запаха. – Так почему такой аврал? Не буду гадать, скоро все выяснится».
Когда он спустился на первый этаж, группа уже уехала. Артеменко прохаживался у гостиницы. Гуров спросил:
– Владимир Никитович, вы словно сошли с рекламного проспекта, как вам удается быть постоянно в форме?
– Лева, когда ты разменяешь второй полтинник, поймешь, что оставаться в строю непросто. Где вчера пропадал?
– Не скажу.
– А я видел твою пассию, даже знаю, как ее зовут и где она работает. Берегись.
– А где Майя? Машина была застрахована? – поинтересовался Гуров.
– Застрахована, застрахована, – говорил Артеменко, явно думая о другом и брезгливо кривя губы. – На полную стоимость, и тачке одиннадцать лет, крылья и пороги гнилые. Майечке лишь профит от этого угона. Она же изображает… – Он махнул рукой. – Актерка! – Артеменко вздохнул, оглядел Гурова с головы до ног, спросил: – А что, по каждому угону выезжает такая группа?
– А кто его знает.
– Конечно, вы юрисконсульт и не в курсе милицейских порядков.
Артеменко знал, где и кем работает Гуров. Поэтому усмехнулся, а потом не выдержал и рассмеялся.
Парадокс ситуации заключался в том, что Владимир Никитович знать-то знал, но все вытекающие отсюда последствия не учел. Его насторожил выезд опергруппы на элементарный угон, он задал Гурову вопрос, рассчитывая, что «юрисконсульт» может проговориться. Тот не проговорился, а вот сам Артеменко, посмеиваясь над собеседником, наболтал лишнего.
Гуров, поддерживая разговор, согласно кивал, беспечно улыбался и напряженно просчитывал ситуацию. Точнее, не просчитывал, лишь выстраивал вопросы, на которые впоследствии он постарается найти ответы.
Откуда Артеменко знает сумму страховки, возраст и внутреннее состояние машины? Внешне «Волга» выглядела великолепно. Почему он обратил внимание на количество и состав приехавших сотрудников?
Веранда в доме Отари была большая, деревянные столбы обвиты плющом. Хозяин сидел в торце длинного, человек на двадцать стола, ел яичницу с помидорами, запивал мацони и изредка поглядывал на Гурова из-под припухших после дневного сна век. Отари не пользовался ни вилкой, ни ложкой. Взяв кусок хлеба, он ловко собирал еду с тарелки и, не уpонив ни крошки, не пачкая ни губ, ни своих коротких, толстых пальцев, отправлял еду в рот.
Гуров следил за приятелем завороженно, он и не представлял, что можно есть так аккуратно и аппетитно без помощи привычных приборов. Обнаженный торс Отари бугрился мышцами. В одежде майор производил впечатление нескладного толстого увальня, а обнаженный походил на Геркулеса. Он вытер рот и руки полотенцем и сказал:
– Как выражаетесь вы, русские, вот такие пироги.
Гурова привезли в дом полчаса назад, он и понятия не имел о пирогах, тем не менее согласно кивнул.
– Машину нашли в ущелье около трех утра. Лепешка, водитель тоже. Семь километров от города. Думаю, угнали «Волгу» примерно в два. Лепешка-каpтошка. – Отари потер свою голову, вздохнул. – Не нравится мне все, плохое дело, грязное. Воняет. – Он поднес к носу пальцы, сложенные щепотью. – Хозяйка машины – плохая, мужчина ее – плохой, все пахнет. Понимаешь?
– Нет, не понимаю, – признался Гуров. – Вокруг Майи много мужчин. И я…
Отари прервал его жестом:
– Перестань. Вы все так… зелень вокруг мяса. Артеменко. Плохой человек.
– Оставим вопрос, кто с кем спит. – Гуров рассердился.
Он несколько дней провел с людьми, не думал, как говорится, в голову не брал, кто с кем в каких отношениях. Лишь утром, когда Артеменко сказал о машине и страховке, Гуров подумал, что знакомство Владимира Никитовича с Майей на отдыхе – плохое кино.
А Отари поговорил с людьми час и, пожалуйста, раскусил. «Он на работе, а я на отдыхе», – оправдывал себя Гуров.
– Дороги у вас, известно… Гнал ночью, не вписался в поворот.
– Не сказал я тебе, Лев Иванович, виноват. Угонщик наш, местный, ас. Ночью с завязанными глазами самосвал прогонит. Да и сорвался он совсем не в опасном месте. Такие пироги. Облазили мы все, смотрели хорошо. У него переднее колесо слетело, на дороге осталось. Кто-то ему машину приготовил. Понимаешь?
– Сговор?
– Не знаю. Думал долго, версий много, больше, чем пальцев на руке. Зарегистрировали как угон и несчастный случай. А как начальству докладывать? Я мальчиком много врал, да разучился. И время сейчас, сам понимаешь, люди правду знать хотят. Повесить на себя убийство? Ты сам сыщик, понимаешь.
– Зарегистрировали правильно, по факту, – ответил Гуров. – А работать надо по версиям.
– Как работать? Что делать? Допрашивать? Кого? О чем? Что спросить могу? Работать, Лев Иванович, ты будешь. Ты можешь, я – не могу. Понимаешь?
– Слушай, Отари. Ты меня отдыхать пригласил. У меня нервное истощение, врачи в санаторий направляли, – быстро заговорил Гуров.
– Это правильно. Значит, версии такие, запоминай. Они продали «Волгу» тысячи за две-три, рассчитывая получить страховку. Потом испугались, что мы угонщика поймаем, и гайки крепления отвинтили.
– Пустое, не те люди. – Гуров сорвал с вьюна лист, прикусил и тут же выплюнул. – Кофе свари! Хозяин называется. Признайся, ты грузин или армянин? Гостеприимство! Ты почему жуликов в гостинице расплодил? Ты там кофе пил?
Отари сверкнул улыбкой, соскочил с табуретки и перестал походить на Геркулеса – ноги коротковаты, ростом не вышел.
– Сердитый какой! Нехорошо, товарищ подполковник, на младших по званию так шуметь. – Он побежал в дальний угол веранды, где стояли газовая плита и кухонные шкафы. – Кто говорил мне: «Отари, я прилечу к тебе, если обещаешь, что не будет ни одного застолья?» Кто честное слово с меня брал? Я жуликов не развожу, они сами размножаются, газет не читают, о перестройке не слыхали.
Отари поставил перед Гуровым чашку густого ароматного кофе и стакан холодной воды. Гуров осторожно пригубил горячий кофе, запил водой. Он знал, что у Отари трое сыновей, и спросил:
– Семья где? На курорт отдыхать уехали? – Гуров улыбнулся, пытаясь шуткой развеселить хмурого хозяина.
– У отца в горах работают. – Отари оглядел пустую веранду, казалось, прислушиваясь к тишине пустого дома, и ударил кулаком по столу. – Я им устрою отдых!
Гуров понял, что коснулся больной темы, вида не подал, кивнул, хлебнул кофе и обжегся.
– Человек что ищет, то и находит. Ты думал, как люди живут в нашем городе? Тысячи и тысячи приезжают сюда отдыхать, год работают, три недели отдыхают. Ты, Лев Иванович, заметил, что для тебя рубль в Москве есть рубль, а здесь? – Отари дунул на открытую ладонь. – Наш город завален дешевыми деньгами. Нет, вы их честно заработали, но здесь они теряют цену. Дед, отец и я этот дом построили. Зачем? Чтобы мальчики в нашем доме выросли уродами?
Отари говорил путано, сбиваясь, но Гуров понимал. Проблема соблазнов в больших городах давно признана, а проблема курортного городка?
– Родственники, их друзья, соседи друзей, знакомые соседей! – Отари снова хлопнул по столу. – Здесь дом – не турбаза! Я жене сказал, второй раз повторил! Утром пьют, днем опохмеляются, вечером опять пьют! Деньги ползут, бегут, летят, все отравили, девки голые ходят. Я взял шланг, из которого сад поливаю, здесь встал и как пожарник! – Отари махнул рукой.
– Наверно, шумно было?
– Шумно, – согласился Отари. – Выговор по партийной линии недавно сняли. Семья на трудовом воспитании, дом пустой, я один. – Он вздохнул. – Ты меня, Лев Иванович, не отвлекай. Начинай думать, работать тебе надо.
– Мне? – удивился Гуров.
– Перестань! – Отари широко взмахнул рукой. – Ты мужчина! Гордый! Отказаться не можешь! Шары-мары, слова-молва, брось, пожалуйста!
– Да, Отари, ты не дипломат.
– С врагом или с чужим я могу крутить. – Отари толстыми пальцами повернул невидимый шар. – Я о тебе много знаю, Лев Иванович, уважаю, обижать не могу.
– Черт бы тебя побрал! – Гуров допил кофе. – Одевайся, поедем в твою контору, мне надо поговорить с Москвой.
– Зачем Москва? – Отари нахмурился.
– Товарищ майор, старшим вопросы не задают. И еще, мне не нравится сержант, который утром приходил за мной. И вообще, кроме вашего начальства, я не хочу, чтобы знали, кто я и что задействован.
Гуров разговаривал со Станиславом Крячко, который возглавил некогда его, Гурова, группу.
– Много работы, Станислав? – задал он праздный вопрос, разгоняясь.
– Отдыхаем, Лев Иванович, начальство на курорте, мы тут подсолнухи грызем, с губы не сплевываем.
И Гуров словно увидел, как Станислав, быстро улыбнувшись, уже открыл блокнот и достал авторучку.
– Я рад за вас. – Гуров подвинул к себе протоколы допросов и стал диктовать данные на Артеменко, Майю, Кружнева, номер машины, номер уголовного дела.
– Мне нужно знать об этих людях максимально больше. Ты, Станислав, взрослый и умный, тебя учить – только портить. Материал передай по ВЧ начальнику уголовного розыска.
– Спасибо, Лев Иванович, – ответил Крячко. – Я рад, что вы не сгорите под солнцем и не потеряете спортивную форму.
– У тебя когда отпуск? В августе? Я распоряжусь, тебе забронируют номер.
– Благодарю за внимание, но я отдыхаю в местах, где бронь не требуется, отсутствуют не только ВЧ, телефон-автомат, почта, но и канализация.
– Жизнь покажет, Станислав.
– Вам она уже показала.
– Не хами начальству! Жду!
– Хорошей погоды, товарищ подполковник. Мы все вам кланяемся.
– Вот язва, – усмехнулся Гуров, положил трубку, взглянул на Отари. – Оставь меня одного, я почитаю допросы.
Эксперт, осматривавший разбившуюся машину, не сомневался: гайки крепления правого переднего колеса были ослаблены, свинчены до последнего витка. Следовательно, катастрофу подготовили. Кто? И для кого? В показаниях Артеменко и Майи Степановой существовали противоречия. Артеменко утверждал, что утром он собирался ехать в совхоз за бараниной. Майя дала показания, что Артеменко от этой поездки отказался, они поссорились, и она сама хотела днем, одна (было подчеркнуто), ехать в санаторий, где отдыхает ее подруга. В какой санаторий, как зовут подругу, следователь не уточнил. «Необходимо выяснить, – думал Гуров. – Но как? Если произошел лишь угон и несчастный случай, такой вопрос покажется странным».
Угонщик находился в средней степени опьянения. В машине обнаружена бутылка коньяка и букет цветов. Коньяк еще как-то понятен, хотя угонять машину пьяным, с запасом спиртного?.. Ну, а цветы? Гуров позвонил следователю.
– Где техпаспорт?
– У хозяйки, естественно. – Следователя раздражало, что к работе привлекли чужака.
Гуров недовольство следователя почувствовал, сказал:
– Если свободны, зайдите. – Положил трубку.
Логика следователя Гурову была известна. Произошел угон и несчастный случай. Завинчены гайки, не завинчены – гори они голубым огнем. Работы хватает. А что брошенный с горы камень, если его не остановить, может вызвать лавину, ему плевать. И вообще, пусть думает начальство. Мы люди маленькие, прикажут – выполним.
В кабинет зашел Отари, посмотрел на Гурова виновато.
– Лев Иванович, прошу, не звони этому. – Он кивнул круглой полированной головой на дверь. – Совсем плохой, уже жалуется. Не могу понять, слушай! Начальник меня голосом давит. Я тебя что? Сарай в моем саду попросил сделать? Виноград подвязать попросил? А?
– Честь мундира, – улыбнулся Гуров.
– Может, они правы? – Отари вновь кивнул на дверь. – Бумаги в папку, папку в архив, и все! Парень, что разбился, неплохой был, но время от времени попадал к нам – то да се, по-вашему двести шестая. Как и кто с кем договаривался, кто гайки крутил? Мне надо? Тебе надо?
– Отари, дед и отец у тебя торгуют, а ты милиционер. Почему?
– Не скажу. – Отари нахмурился.
– Молодец, что в артисты не подался, таланта у тебя нет. Ты мне МХАТ не устраивай.
– Не буду, извини. – Отари смущенно улыбнулся.
– Значит, так. – Гуров закрыл папку с документами, отодвинул. – Я сговор между владельцем и угонщиком отметаю. – Он провел ладонью по столу. Коньяк, цветы, отсутствие техпаспорта. В случае сговора Майя бы заявила, что техпаспорт оставила в машине, такое случается. Вы работайте – установите, куда опаздывал погибший. Предполагаю, что он торопился к женщине, сел в машину, а угодил в ловушку.
– Я так думал, потому и прошу помощи. – Отари шумно вздохнул, опустил голову. – Если ставят капкан на одного зверя, а убивают другого, то ставят другой капкан. И надо этого охотника взять!
Дождь не шел – мельчайшими капельками висел в воздухе.
Гуров шел по набережной, кроссовки хлюпали, фирменный костюм прилипал к плечам и бедрам. Время от времени Лева ладонью проводил по лицу, словно умывался.
Если машина была, как выразился Отари, капканом, то убийство заранее готовилось. Чтобы найти убийцу, следует сначала определить жертву. Ведь за что-то с ней хотят расплатиться. И это что-то существует в биографии жертвы. Выбор невелик. Охотятся либо за Майей, либо за Артеменко. Только они могли сесть за руль «Волги». Каждый из них утверждает, что ехать утром собирался именно он. Возможно, каждый хочет выглядеть в глазах следствия жертвой? Значит, один из них убийца, другой – жертва. Надо определить, кто лжет – тот и убийца. Сообщник? Существуют ли в подготовке преступления сообщники? Если да, то только в единственном числе. Сообщник. Кандидатуры тоже две. Толик и бухгалтер. Если Кружнев действительно бухгалтер. Что ответит Москва? Стоп! А Татьяна? Прелестная пляжная знакомая? Гуров вспомнил: позавчера Татьяна с Майей шли вдвоем и, увидев Гурова, свернули на другую аллею. Возможно, они дружат давно? «Девушка знает мое имя и отчество. Есть у нее подруги среди обслуживающего персонала или нет? Отари. Срочно выяснить».
Гуров стал искать две копейки и, конечно, не нашел. Хлюпая по лужам, двинулся в гостиницу.
Гуров при случае любил прикинуться дурачком, недумающим служакой. При равенстве сил тот, кого недооценят, всегда в выигрыше. Обсуждая с Отари очередность необходимых мероприятий, Гуров сказал, что перво-наперво подозреваемых, причем каждого в отдельности, надо поставить в известность, что машина разбилась не случайно. Но сделать это не напрямую, а в ситуации, когда глупый милиционер беседует с умным интеллигентом.
Гуров вернулся в гостиницу, стянул с себя сырой, липнувший к телу костюм, принял душ и переоделся. Потом спустился в кафетерий. А Отари работал.
С физкультурником Толиком Зиничем он обошелся по-простецки, без затей. Знакомый оперативник встретил Толика «совершенно случайно» и, как с местным старожилом, взяв предварительно с приятеля обет молчания, поделился кошмарными новостями.
За Майей, Артеменко и Кружневым Отари прислал машину, попросил подъехать в милицию, мол, надо побеседовать.
Майя
Она родилась в интеллигентной семье среднего достатка, отец – кандидат технических наук, мать – художник-декоратор. Родители были людьми спокойными, уравновешенными, дочь особо не баловали, не требовали непременных пятерок, не заставляли играть на пианино и декламировать стихи, когда собирались гости. Вообще воспитанием ее не третировали, полагая, что в здоровой семье вырастет здоровый ребенок и станет хорошим, нравственным человеком. Все к этому и шло. Майя росла девочкой самостоятельной, искренней, в классе ее любили, училась она легко, не надрываясь, и числилась (в школе придумали нерусское слово) хорошисткой. Круглой отличницей она была в спортзале и на стадионе, где превосходила не только подруг, но и мальчишек. Она бегала быстрее всех, прыгала дальше всех, ходила на лыжах, прекрасно плавала.
Однажды физрук оставил Майю после урока и спросил:
– Ты знаешь, что природа порой бывает несправедлива? – И, не ожидая ответа, задумчиво разглядывая девочку, продолжал: – Крайне несправедлива. Тебе она выделила лишнее, кому-то недодала.
– Я виновата? – Майя растерялась.
– В школе создается спортивный класс. Как ты к этому относишься?
– У меня химия и физика хромают, трешки стала получать.
– Тебе бегать надо, а с физикой и химией мы договоримся.
– А после школы? – рассудительно спросила она. – Все бегать будут?
– У меня впечатление, что ты, девочка, способна убежать очень далеко. Загадывать трудно, жизнь рассудит, все зависит от того, как ты покажешь себя в работе. Сегодня ножками можно на такую высоту подняться, на которую иной физик-химик взглянет – у него шея переломится.
Когда Майя рассказала о предложении физрука дома, отец рассмеялся и сказал:
– Бегай, дочка, на то и юность человеку дана, только не забывай: аттестат зрелости должен выглядеть достойно.
В пятнадцать лет Майя получила первый разряд. В спортобществе, куда ее определил физрук, она не выделялась, часто смотрела соперникам в затылок, не знала, что тренер, который, как говорится, в спорте собаку съел, сразу углядел в ней незаурядные способности и, уберегая от зазнайства и лени, ставил ее на дорожку с мастерами. Единственно, чем Майя тренера не устраивала, так это своей мордашкой. Девушка хорошела на глазах, мужики начали оглядываться. Сегодня она на их взгляды не обращает внимания, но сегодняшним днем жизнь не кончается. Серьезные результаты показывают девушки невидные, для кого спорт становится делом главным и единственным, где они отыгрываются и могут отомстить своим смазливым соперницам. С внешностью Майи тренеру явно не повезло, и он был с ней строже, требовательней, чем с другими.
– Бегаешь? – спросил он, останавливая после тренировки. – Работать надо, здесь стадион, а не парк культуры. Я тебя оформил на ставку, будешь получать сто рублей.
Майя знала: некоторые подруги получают спортивные стипендии, талоны на питание.
– Спасибо, – просто ответила она. – У нас семья не нуждается, но не помешает.
– Девочка, знаешь, такое дело. – Тренер неожиданно смутился, начал застегивать и расстегивать молнию на ее курточке. – Ты об этих деньгах не распространяйся. Родителям скажи. Кстати, пусть отец на тренировку зайдет. Просто рок какой-то, – соскочив со скользкой темы, он заулыбался, – как посредственность, так ее предки чуть ли не ночуют на стадионе, а вот твоих я в глазки не видел.
– Они не придут, если только на соревнования.
– Это почему же?
– Считают, что я самостоятельной должна расти.
В семье Майи к слабостям и недостаткам друг друга и окружающих относились терпимо, не прощалась только ложь. Если отец хотел человека заклеймить, что случалось крайне редко, он говорил сухо и коротко:
– Этот человек лгун…
Что лгать не то чтобы нехорошо, а просто нельзя, абсолютно недопустимо, Майя усвоила с детства, с молоком матери.
– Ты, дочка, коли не можешь или не хочешь сказать правду, молчи, – говорил отец. – Все зло на земле от лжи, мягкой, удобной и многоликой.
В семнадцать Майя стала кандидатом, в восемнадцать – мастером спорта. После школы она поступила в инфизкульт, но ей не понравилось, и Майя, не закончив даже первого курса, ушла, решила готовиться в университет на филфак. Основные соперницы выступали за рубежом. Майя выиграла первенство Москвы, завоевала серебро на Союзе. О ней заговорили серьезно, включили в списки предолимпийской подготовки. Теперь она получала сто восемьдесят, когда не находилась на сборах, талоны на питание по пять шестьдесят в день плюс дорогостоящее спортивное обмундирование. С ростом результатов взаимоотношения с подругами-сопеpницами усложнялись и портились. Она давно уже не бегала по дорожке, а работала, или, как выражаются в спорте, пахала. Составленный тренером и утвержденный в Госкомитете индивидуальный план подготовки требовал от нее порой невозможного.
– Девочка, тебе придется подколоться, – сказал однажды тренер. – При таких нагрузках организм требует.
– Допинг? – спросила Майя.
– Ты что, рехнулась? – Глаза тренера округлились, изображали лживое возмущение. – Подколем тебе витаминчики, таблеточек тонизирующих покушаешь.
– Не надо песен на болоте. – Майя рассмеялась. – Вы подколете мне мужской гормон, и голос у меня будет, как у Веры, оттягивать в хрип. Никогда!
– Дело твое. – Он пожал плечами и отвернулся. – Впереди Европа, без фармакологии тебе не подготовиться, ты будешь без шансов.
– А как же знамя советского спорта? Мы клеймим, изобличаем, а сами?
– Движения науки не остановить. – Тренер усмехнулся. – Ты что же думаешь, далеко за семь метров девочки прыгают на энтузиазме? Талант талантом, а медицина медициной.
– Так ведь нечестно. И антидопинговый контроль существует.
– Это не твоя забота. Одни придумывают контроль, другие ломают голову, как этот контроль обойти.
– Моя забота! Моя! И если вы мне платите деньги и кормите на девять рублей в день, то еще не купили, в собственность не приобрели!
– Ты что, психованная? – Тренер явно испугался. – Я забочусь о тебе, предложил – решай.
– Считайте, что ничего не говорили. – Майя поправила на костюме тренера молнию и пошла в раздевалку.
На первенство Европы основная соперница Майи не поехала, хотя время она показывала рекордное. Девчонки поговаривали, что результаты анализов у нее оказались никудышными, видимо, врач промахнулся. Руководство побоялось скандала, и поехала на первенство Майя.
В финале, на финише, она была третьей. Руководитель, бывший комсомольский работник, молодой человек лет сорока с лишним, в легкой атлетике разбирался, знал, что бегать надо быстрее, прыгать дальше и выше, что золотая медаль хорошо, а бронзовая значительно хуже. Когда Майя закончила дистанцию, он, страдая одышкой, подбежал, обнял за мокрые плечи, полез целоваться.
– Молодец! Но! – Он поднял пухлый палец. – Надеюсь, понимаешь? На Олимпиаде «бронза» нам не нужна. А так молодец.
У Майи кружилась голова, ноги мелко дрожали, она бездумно кивала, вяло отпихивала навалившуюся на нее пухлую грудь руководителя.
– Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть! – прошептала она пересохшими губами. Майю так тошнило, что мечтала она лишь об одном – где бы укрыться и спокойно поблевать.
Майе исполнилось двадцать два, она утвердилась в первом резерве сборной. Мужчины в ее жизни, не как начальники, а как существа другого пола, значили крайне мало. Они улыбались, заискивали, ухаживали, с одним она время от времени устало спала. До Олимпиады оставалось два года, Майя хотела быть «золотой», какие уж тут мужики, успеется. Это ее первая и последняя Олимпиада.
Майе дали однокомнатную квартиру, отношения с родителями разладились, старики не понимали, почему она не учится. Сборы, поездки на соревнования, каждодневные тренировки, после которых не то что учиться, жить не хочется. Подруги по команде нельзя сказать, чтобы недолюбливали ее, просто сторонились. Во-первых, конечно, мужики, которые вертелись вокруг «бронзовой» красотки, вызывали у соперниц здоровое чувство зависти. Потом, находясь за рубежом, Майя не очень экономила скудную валюту, не бегала в свободный день по магазинам, вещи покупала только себе и родителям, никогда для продажи, в общем, не как люди, странная.
Жизнь шла своим чередом. Майя «пахала» не за страх, время показывала не рекордное, но на уровне, взаимоотношения с тренером нормализовались. Он даже с гордостью поговаривал за ее спиной, что, мол, иные-некоторые со своими ученицами химичат, а его девочка чисто «бронзовая», не подкопаешься, в любой стране, при любом контроле свои секунды обеспечит. Уже составлялся план непосредственной подготовки, когда разразился скандал.
Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Майя сказала, что сейчас не работает и не учится, лишь тренируется, за что ее поят, кормят и одевают. Сенсационного сообщения, появившегося в зарубежной газете, Майя не видела. Запыхавшийся тренер не дал ей переодеться, прямо в тренировочном костюме усадил в машину и привез в кабинет. Начальник, которого Майя никогда не видела, – возможно, его перебросили на спорт за ошибки, допущенные на другой руководящей работе, – тыча пальцем в иностранную газету, спросил:
– Что ты говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Ты что, профессиональная спортсменка? Миллионы занимаются спортом, а ты одна профессионалка?
– А кто же я? – Майя понимала, что подходит к краю и сейчас шагнет в пустоту, только остановиться не могла. – Во-первых, разговаривайте со мной на «вы»! Я сказала, как есть, меня с детства учили говорить правду!
– Спокойно, Майечка, спокойно, – быстро заговорил тренер, – не надо волноваться, пригласим журналистов, ты расскажешь, как училась в инфизкульте, сейчас готовишься поступать в университет. Ты же про деньги, ну, о стипендии, ничего не говорила?
– Вот вы собирайте журналистов, а я скажу! – Майя вышла из кабинета.
Когда она перешагнула порог здания и вышла на улицу, то оказалась не на улице, а в космосе, в безвоздушном пространстве.
Она еще бегала, даже выступала, тренер порой подходил, говорил равнодушные слова, но на очередной сбор ее не взяли, как не берут в дорогу ненужный чемодан.
– А чего ты ждала? – спросил тренер. – Ты олимпийская чемпионка и без тебя не обойтись? Характер хорош на дорожке, а в кабинете… – Он присвистнул. – Потом, и объективно тебе уже двадцать три. Какие у тебя перспективы? Со сборной тебе придется расстаться, а в спортобществе поговорим, как-то поддержим, молодая, здоровая, у тебя вся жизнь впереди.
Но самый страшный удар, который и выбил ее из людского сообщества, караулил Майю впереди.
Она пришла домой, к папе с мамой, все рассказала и, не обратив внимания, что отец лицом осунулся и взглядом посуровел, начала философствовать:
– Цапля голову под крыло прячет, думает, ее вообще не видно. Любители, профессионалы, все чушь непроходимая. Солист Большого театра в свободное от репетиций и спектаклей время где-то еще немножко работает? Представляю себе, выходит на эстраду конферансье и объявляет: «Дорогие друзья! Сейчас перед вами выступит лауреат Государственной премии, победитель международных конкурсов в Париже и Риме, народный артист СССР Голопупко. Любимец публики вернулся с гастролей по Сибири и Дальнему Востоку, посетил города Средней Азии. Две недели он проведет в Москве, после чего отправится в четырехмесячное турне Канада – США – Южная Америка. Работает Гоша Голопупко токарем на заводе». Каково? Звучит?
Мать рассмеялась, отец тоже не сдержал улыбку.
– Кого обманывают и ради чего? – Майя повысила голос. – Почему они противопоставляют чемпиону мира значкиста ГТО? Почему нельзя все сделать по-человечески, честно? К примеру, работает девчонка на фабрике и поет в самодеятельности. Хорошо поет. Заметили, предлагают перейти в профессиональный ансамбль. Она приходит домой, советуется с родителями. «Ну, а не получится, не станешь ты Людмилой Cенчиной?» – «Так вернусь на фабрику», – отвечает она. То же должно быть и в спорте. Выступаешь за заводской коллектив и работаешь, перешла в команду мастеров, отдала трудовую книжку в спортобщество, стаж идет, закончила выступать – ты человек, трудовой человек. Нет, надо врать, изворачиваться.
– И что же ты решила? – спросил отец.
– Решили за меня, я лишь правду сказала.
– Ты почему не училась? Большинство же учится.
– Ну, я вот не нашла себя! – вспылила Майя. – Упорства, силенок не хватило. Свое-то дело я делала честно! А теперь меня на помойку?
– Дочка, тебе только двадцать три, – вмешалась в разговор мать.
– Мне опять к вам на шею? А если бы у меня вас не было? Ты думаешь, прежде чем отчислить, меня спросили, какая семья, кто содержать будет? И за что отчислили? За правду!
– Да. – Отец снял очки, потер переносицу. – Значит, ты так все и сказала?
– В принципе, конечно, долго мне говорить не дали.
– И что же, ты и в будущем будешь такую правду начальству говорить?
– Отец, ты же сам всегда внушал. И потом, правда такая или другая, она разная бывает?
– Ты дура! Мать, мы вырастили идиотку! Иисус Христос за правду на крест пошел, так ему уже два тысячелетия свечки ставят. Да, правда правде рознь, это ты здесь, – он постучал пальцем по столу, – должна говорить правду. А там следует говорить то, что от тебя хотят услышать. Играть по установленным правилам. Перед идущим танком не становятся, переедет и внимания не обратит! Ты что же думаешь, я директору института могу правду на совете сказать?
Неожиданно ноги у Майи ослабли и задрожали, ее начало тошнить, словно она только закончила дистанцию. Девушка смотрела на отца и не узнавала.
– Ты всегда меня учил… – Она с трудом, совершенно больная, поднялась со стула, пошла к двери.
– Дочка! – Мать вскочила.
– Сиди! – хлопнул отец по столу. – Жрать захочет – придет! Правдолюбица!
Тренироваться Майя перестала, гимнастику по утрам делала автоматически, по привычке. Подруги звонили несколько раз, затем разъехались по сборам и соревнованиям. Через два месяца деньги кончились, она продала японскую радиоаппаратуру. Два раза приходила мама, один раз – отец. Она терпеливо слушала, ждала, пока уйдут. Главной ее заботой стало, как убить время, дожить до вечера, когда можно включить телевизор. Она спала, ела, листала какие-то книги, думала, думала. Готовиться в институт? Какой? Точные науки отпадают, с математичкой, химичкой, физичкой ее пастыри в свое время «договорились». Иностранного языка не знает, литературу – кое-как. Допустим, поступит в гуманитарный, закончит, и за сто двадцать рублей служить от звонка до звонка? К тому времени ей будет под тридцать. Последние годы ей только на кормежку в день выделяли почти червонец. А тряпки?
«Мой любимый папа сказал, что играть следует по установленным правилам. Начнем играть». Во-первых, никаких столкновений с властями, и она легко устроилась инструктором физкультуры на крупный завод: восемьдесят рублей, два раза в неделю по три часа.
Она вышла из ванной, оглядела стройное тренированное тело, оглядела себя в трюмо. «Правила установили мужчины, они и будут платить. Двадцать лет у меня еще есть. А там, как говорил мудрый Ходжа Насреддин, либо эмир умрет, либо ишак, либо я умру». Ее никто не совращал, не опаивал, не втягивал. Майя начала заниматься древнейшей профессией добровольно и осознанно, все просчитав и взвесив. «Ты, папочка, хочешь, чтобы я жила по правилам, согласна, только я буду жить по своим правилам. – Она достала палехскую шкатулочку, куда бросала визитные карточки тяжело вздыхающих мужиков, отобрала, с ее точки зрения, денежных. – Я не стану сидеть в баре и ловить иностранцев, установим простой порядок: один основной и двое на скамейке запасных. Для поддержания спортивной формы им будет разрешено делать подарки, вывозить меня в свет, и никаких глупостей».
И мужчины соглашались, строптивых из команды исключали. С родителями Майя встречалась редко, рассказывала, что работает в институте гидом.
Через год она стала своих попечителей недолюбливать, через два – не любить.
Встретив Артеменко, она возненавидела его с первого взгляда. «Гладкий, ухоженный, самодовольный победитель, ты мне заплатишь за все», – решила Майя, почувствовав, что платить этому человеку есть чем. Она долго не понимала причину своей ненависти. Спустя полгода догадалась. Артеменко ассоциировался с тем спортивным боссом, который вышвырнул ее из жизни.
Однажды Майя услышала по телефону девичий возмущенный голос:
– Майя Борисовна? Говорит секретарь комсомольской организации. Вам надлежит немедленно погасить задолженности по взносам и сняться с учета. – Девочка торопилась, боялась, что перебьют и она запутается, не договорит. – В противном случае мы вынуждены будем исключить вас из наших рядов.
– Вы кто такая? – бархатным голосом спросила Майя. – Чем занимаетесь? Бегаете, прыгаете?
– Я кандидат в мастера…
– Понятно, – перебила Майя. – Сто двадцать и жратва. Ты, милочка, бегай и прыгай, занятых людей не беспокой. Раньше надо было звонить, значительно раньше. Мастер спорта международного класса Майя Борисовна померла.
Умные и милиционеры
Отари знал, что по-русски говорит с акцентом, иногда путая падежи, что его литая невысокая фигура, бритая голова, привычка поглаживать ее широкой короткопалой ладонью придают ему, особенно в глазах приезжих, вид комический. Отари не смущался, любил посмеяться, и над собой в том числе. Сейчас он все свои комические черты утрировал. Говорил почти не спрягая и не склоняя, часто выкатывался из-за стола, демонстрируя неуклюжесть, поддерживая якобы спадающие брюки. Он знал: многие русские не отличают армян от грузин и абхазцев; даже от азербайджанцев, в разговоре между собой употребляя непонятное слово – «чучмек».
Отари принял совет Гурова держаться попроще, прямолинейнее. Чучмек? Прекрасно! Вы получите такого чучмека, какого даже на своих рынках не видели.
Первой в его кабинете появилась Майя. Она села, непринужденно закинула ногу на ногу, взглянула с любопытством.
– Я вас слушаю, товарищ майор. Я не ошиблась, вы майор?
– Майя Борисовна, меня зовут Отари Георгиевич. – Он наклонился над столом и быстро продолжал: – Виноваты мы, сплошные безобразия творятся. Вам отдыхать надо, а тут безобразия. Стыдно мне вам в глаза смотреть.
В женщинах подобного толка Отари разбирался лучше Гурова. Умеренность в косметике, элегантность и неброскость костюма Отари не обманывали, он чувствовал – перед ним профессионалка, только высокого класса. Возможно, сейчас не на охоте, отдыхает.
– Два вопроса имею. – Отари поднялся из-за стола, прокатился по кабинету. – Беспокою вас, стыдно. Хотел приехать, но телефон здесь держит.
– Короче, пожалуйста. – Майя вынула из сумочки сигареты, но не закуривала.
– Короче. Быстрее. Москва. – Отари умышленно тянул, говорил лишнее, наблюдал. Женщина не изображала спокойствие, была действительно абсолютно спокойна. – Кто сегодня утром должен был сесть за руль вашей «Волги»?
– Уже спрашивали. И какое это имеет значение?
«Раздразнить, вывести из равновесия», – решил Отари и, причмокивая полными губами, слащавым голосом уличного приставалы, растягивая гласные, сказал:
– Красавица. Дорогая моя, договоримся. Я спрашиваю – ты отвечаешь. Потом ты спрашиваешь, я – отвечаю. Договорились?
Майя не отреагировала ни на «ты», ни на «дорогую», глядя перед собой, почти без паузы ответила:
– В десять утра я собиралась ехать в санаторий к подруге.
«А сейчас ты ошиблась, ошиблась, дорогая моя, – подумал Отари. – Тебе надо сердиться, а ты спокойная, совсем неправильно спокойная». Он сел за стол, взял ручку:
– Имя, фамилия, адрес.
– Вас это не касается, к делу отношения не имеет.
– Я знаю, ты не знаешь. Прошу ответить. – Отари чуть хлопнул ладонью по столу.
– Сейчас встану и уйду.
– Почему твой мужчина говорит, что ехать должен был он?
– Тяжелый случай. – Майя поднялась со стула, сунула сигареты в сумочку.
– Майя Борисовна, дорогая, зачем так? – Отари растопырил руки, преграждая дорогу. – Мне это надо? Не могу все говорить. Должность. Поверьте, о вас беспокоюсь! Мне что! Машину нашли, угонщик погиб. Бумажки сложили, убрали, забыли! О вас беспокоюсь. Имею маленький секрет.
Равнодушие с лица Майи исчезло, взглянула заинтересованно:
– Ехать собиралась я, почему Владимир Никитович утверждает обратное, не знаю.
– Не допрос, беседа. – Отари погладил лысину, выглянул из кабинета, сказал: – Товарищ Артеменко.
Тот вошел – как всегда элегантный, благородная седина в тон с серыми, чуть насмешливыми глазами.
– Слышал, слышал, – рассмеялся Артеменко, – как вы работаете, товарищ майор. У вас в коридоре слышно каждое произнесенное здесь слово.
Данный факт Отари был, конечно, известен и учитывался. Уплотнить стену и дверь намечалось каждый год. Не хватало фондов, либо материалов, либо рабочих. А пока недостатки строителей и хозяйственников Отари использовал в своих оперативных целях.
– О чем идет спор? – Поддернув брючину, Артеменко сел на стоящий у стены диван. – Майя, ты вчера сказала, что хочешь настоящих шашлыков. Давала мне ключи, мол, съезди за бараниной?
– Ты отказался.
– Верно. А вечером, в ресторане, я согласился. Желания женщины… – Артеменко улыбнулся, подмигнул Отари.
– Не было этого. – Майя на мужчин не смотрела.
– Согласен. – Артеменко рассмеялся. – Вечер выпал довольно хмельной, может, хотел сказать, да забыл. Что вас смущает, товарищ майор?
– Вы мужчина, должны понимать, дорогой. – Отари похлопал себя по широкой груди. – Мы, оперативники, свои секреты имеем. Все не могу сказать. – Он шумно вздохнул и пустился в пространные рассуждения: – Почему машина с шоссе вниз упала? Зачем упала? Непонятно.
– Дороги у вас, сами знаете, – сказал Артеменко. – Угонщик, я слышал, пьяный был.
– Я знаю, вы знаете, он знал наши дороги, дорогой, все знают. Ночью ехал, никто не мешал, зачем упал?
Отари нагнулся, вынул из-под стола загодя приготовленный баллонный ключ, вертел в руке, разглядывал. Майя никак не реагировала, со скукой смотрела прямо перед собой, ждала, когда бессмысленный разговор окончится. Артеменко взглянул с любопытством, хотел задать вопрос, Отари жестом остановил его.
– Майя Борисовна, скажите, что это такое? – и протянул ключ.
Майя ключ не взяла, пожала плечами:
– Железка.
– И вы ее раньше никогда не видели? Возьмите, посмотрите.
Майя на ключ не смотрела, разглядывала свои холеные руки.
– Я устала от вас. Скажите, у меня угнали машину или я угнала?
– Понимаете, такая железка есть в багажнике каждой машины. Каждой! А в багажнике вашей машины ее не оказалось.
– Не может быть, – быстро сказал Артеменко, – две недели назад я менял у машины колесо.
«Чучмек-то я чучмек, – подумал Отари, – но не круглый дурак. Надо ему дать понять, что я засек, не пропустил его оговорочку».
– Две недели? – Отари причмокнул. – Вы приехали шесть дней назад.
Майя встала, вынула сигареты, прикурила от протянутой Артеменко зажигалки.
– Мы знакомы давно, любовники. Идите оба к черту! А вы, товарищ майор, справку мне приготовьте, привезите в гостиницу! – Она вышла из кабинета.
– Не завидую вашей работе, майор, – сказал Артеменко, подошел к окну и увидел, что во дворе бухгалтер Кружнев и милицейский сержант меняют у «газика» колесо.
– Завидная работа бывает только у соседа, – сказал Отари.
– Странно, что баллонного ключа не оказалось. – Артеменко помолчал. – Очень странно. С колесами у «Волги» был непорядок?
– Красивая у вас женщина. Очень. Много хлопот, нервов, денег много. Ничего не давать, ничего не иметь. Жизнь одна!
– Не крутите со мной, майор. – Артеменко разозлился. – Я не мальчик. Какое значение имеет, кто сегодня утром должен был ехать? Что вы размахиваете баллонным ключом?
– Я не размахиваю. – Отари убрал ключ, сунув его под стол.
– Надо заниматься профилактикой, охранять покой людей и не вызывать их, задавая глупые вопросы. Вашему начальству жаловаться не стану, у вас тут… – Он очертил в воздухе круг. – Позвоню в Москву, вам быстро объяснят…
Артеменко начинал скандалить умышленно, хотел разозлить милиционера, чтобы тот в запальчивости проговорился. Конечно, просто так подобные разговоры не ведут, что-то майор скрывает. Кое-какие предположения у Артеменко уже были.
Отари округлил глаза, надул губы, – засопел. – «У меня южный темперамент, я должен вспылить. Однако и испугаться должен».
– Эй, Москва! – взмахнул он рукой. – Зачем звонить! Машину дам, поезжай отдыхай. Хочу как лучше! Извиниться могу, мы люди маленькие, негордые. – Он снял трубку, начал набирать номер.
«Старый дурак, – подумал Артеменко, – куда лезу?»
– Простите, Отари Георгиевич. – Он обаятельно улыбнулся. – Нервы. Годы сказываются. Женщина у меня молодая, красивая, с характером.
Отари положил трубку, сел за стол, тяжело и понимающе вздохнул.
