Пятый выстрел бесплатное чтение
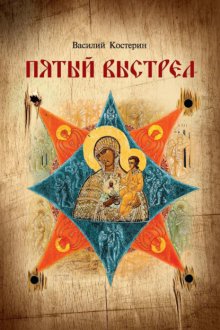
© Лепахин В. В., текст, 2023
© Сибирская Благозвонница, оформление, 2023
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р22-211-0247
Поведайте о всех чудесах Его…
Поминайте чудеса, которые Он сотворил…
Возвещайте всем народам чудеса Его.
1 Пар. 16: 9, 12, 24
В помощь слову Божию даны Божии чудеса.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
Явленность икон в собственном смысле слова указывает на происшедшие от иконы явления: знамения благодати, чрез неё явившиеся. А исцеление души прикосновением чрез икону к духовному миру есть, прежде всего и нужнее всего, явление чудотворной помощи.
Священник Павел Флоренский
В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры.
Ф.М. Достоевский
От автора
Дорогой читатель! В сборнике «Пятый выстрел», который ты сейчас держишь в руках, представлены рассказы из четырёх циклов. Первый из них – «Голоса. Монологи друзей и знакомых» – не собирался осознанно. Он возник практически случайно, благодаря охватившему меня чувству надвигающейся потери того бесценного дара откровенности и доверия, который воплотился в незамысловатых историях жизни моих собеседников. Но лучше поздно, чем никогда. Я стал вспоминать и записывать самое интересное и трогательное, рассказанное мне в задушевных беседах. Они могли случиться и на вечерней кухне, и в храмовой трапезной после долгого богослужения, и в поезде дальнего следования, и на берегу реки, излучина которой обнимает основание златоглавой церкви, и в бесконечной очереди к мощам святого. Своей неподдельной искренностью, правдивостью, желанием поделиться сокровенным эти «подслушанные» голоса, кажется, способны растопить даже самые очерствелые сердца, ведь исповедальное настроение пришло к ним во имя одного-единственного желания – воскресить, оживить на время то чувство предстояния пред Богом, которое они испытали в тот памятный день, то подлинное переживание Истины, которое посетило их однажды.
Ныне сожалею, что истории эти не были записаны по горячим следам. Скорее всего, они оказались бы более живыми и с точки зрения языка, и по богатству конкретных деталей. Всё же решаюсь предложить эти краткие повествования читателю. Они мне дороги как память о тех, кто раскрыл передо мной своё сердце, поделился самым заветным, иногда даже тайным, и своей искренностью исцелил меня самого от недоверчивости, укрепил в вере, надежде, любви.
Естественно, у каждого из моих собеседников была собственная манера речи. В моём изложении характеристические особенности их языка частично стёрлись или подравнялись, но успокаиваю себя тем, что большинство героев рассказов – мои земляки: жители или собственно Владимира, или земли Владимирской. А поскольку я вырос на этой земле и впитал её язык с молоком матери, надеюсь, что не слишком сильно исказил речевые особенности моих земляков. Всем им низкий поклон и благодарная молитвенная память.
Третий цикл – «Сонечкины рассказы» – родился похожим образом. Когда, казалось, я его уже закончил и разослал друзьям и коллегам на предмет замечаний и критики, мне стали присылать новые сюжеты, которые идеально ложились в новый цикл. Так, за образом Сонечки встали Ксюша, Анечка, Маринка. Образ рассказчицы получился собирательным, но не размытым, ведь за ним стоит изначальный прототип.
Цикл второй – «Боголюбская» – посвящен памяти протоиерея Владимира Петрова и написан непосредственно после его кончины. Нередко мы лишь после преставления человека способны оценить масштаб и богатство личности покойного. Вдруг в душе образуется ноющая пустота, которую ничем не заполнить, и мы осознаём истинное значение человека для нашей духовной жизни. Неожиданная кончина отца Владимира в 2021 году потрясла нас, его духовных чад, внезапно осиротевших. Они собирались на поминки, на девятый день, на сороковины, делились воспоминаниями, и их благодарная память запечатлелась в моих рассказах. В сборник вошло всего пять рассказов, однако автор обязан отцу Владимиру и другими повествованиями, написанными ещё при жизни батюшки, например рассказом «Копыта» из цикла «Голоса». Кроме того, ждут своего часа и другие истории об отце Владимире или услышанные от него.
Наконец, последний цикл – «Дух и буква» – составляют произведения, написанные в разное время. В него входит рассказ-повесть «Пятый выстрел», который и дал название всей книге.
Все четыре цикла посвящены чудесам, прежде всего чудотворениям от святых икон, и в этом заключается их единство. При том, что действие происходит и в Новейшее время, и в прошлом веке, и в XIX столетии, и даже в Евангельские времена.
Святое Евангелие свидетельствует, что Господь совершает чудеса и без икон – по молитве и вере человека просящего. Вместе с тем Спаситель оставил апостолам не только учение, но и Свой Нерукотворный Образ. С тех пор икона стала живым благодатным посредником между Богом и человеком, ведь она есть земной образ небесного Первообраза, к которому восходят храмовые и домашние прошения, моления и славословия верных.
Церковь установила празднования таким чудотворным иконам Божией Матери, как Владимирская и Смоленская, Казанская и Иверская, Тихвинская и Знамение Пресвятой Богородицы, но наряду с этими великими святынями почитаются и образы, известные лишь в своей епархии. Однако всякая икона втайне, в своей сокровенности, чудотворна! «Иди, вера твоя спасла тебя!» – не раз читаем напутствие Спасителя исцелённому. Почитая чудотворные иконы, не станем забывать, что не земной образ Иисуса Христа, даже исключительно духовно и талантливо написанный, а Сам Господь по вере и молитве человека подаёт ему всё благопотребное для жизни сей и для жизни вечной.
Голоса. Монологи друзей и знакомых
Бабушка
Переселился к нам в общежитие слесарь Санёк, и мне никакого житья не стало. Просто мамочки мои! Понравилась я, видишь ли, ему. Потом уж узнала от соседей, что жена выгнала его из дома за беспробудное пьянство и осталась одна с ребёнком. Передавали, что он славился в своём цеху как непревзойдённый слесарь по ремонту мостовых кранов. Да вот спился почти совсем.
Ухаживал он за мной своеобразно. Трезвым я его не видела ни разу, а по вечерам, уже изрядно поднабравшись, он ломился в дверь и орал на весь коридор:
– Открывай! Всё равно будешь моей! – на большее его не хватало.
Я кричу ему через дверь:
– Подумай о ребёнке!
Слышу в ответ:
– Не твоё дело!
А тут Люся, моя подружка и соседка по комнате, к родителям в отпуск уехала. И началось! Каждый вечер прёт на мою дверь, как бык на ворота. Просто мамочки мои. Кто-нибудь вызовет милицию, а он в свою комнату шмыг и спать заваливается. Пьян в дугу, а соображает. День прошёл, и всё сначала: дверь трещит под ударами кулаков. Пришлось ещё один замок врезать, повыше первого.
Но тут надо рассказать сначала вот о чём. Комендант наш, Григорьич, строго-настрого запрещал вешать что-нибудь или приклеивать на стены, чтобы, значит, не портить их. Сам ходил по комнатам и проверял. Так мы с Люсей, две медсестрички, и жили в голых стенах. А потом комендант накупил вдруг портретов Ленина и сам вместе с завхозом ходил по комнатам, вбивал гвозди и вешал нам портреты вождя. Как-то умудрялся он находить сквозь штукатурку швы между кирпичами, туда и вколачивал. Однако времена были уже не те – начало девяностых на дворе. Пошла совсем другая молва – о «всегда Живом». Думаю, комендант в знак протеста против антиленинской пропаганды портреты и развесил везде. В общем, обвинили Григорьича в нецелевом расходовании средств и то ли просто уволили, то ли без почёта отправили на пенсию.
И все как с цепи сорвались. Портреты вождя, конечно, повыбрасывали, и пошло: кто-то стены любимыми актёрами обклеил, кто певцами, кто своими «произведениями» – рисунками, картинами, некоторые семейные фотографии развесили. Уже потом один священник так объяснил этот порыв: «Таким способом, – сказал он мне, – люди свою тоску по иконе заглушают. Красный угол порушили, а потребность в иконе осталась. Вот и подменяют её всякими суррогатами – любимыми певцами, актёрами, спортсменами».
У меня никаких особых привязанностей не было. Любила фильмы Тарковского, но его портрета нигде не смогла купить. Тогда много говорили об убийстве царской семьи. И вот однажды, вышагивая по улице, я увидела на лотке книжечку писем царицы Александры Фёдоровны. Ну и купила, потому что дёшево было. А потом всю ночь не спала. Прочла книжку не отрываясь – и сразу перечитывать. И реву как корова. Подушка вся мокрая. Ведь царица прямо воплощение любви. Как она любила мужа, дочерей, сыночка больного! А как любила и страдала за Россию! И какие слова находила для всех! Просто мамочки мои! Она ведь иностранка. Каково ей было в чужой стране?! Это я на своей шкуре испытала. По контракту год в Литве отработала. Кругом чужой язык, никакой дружбы народов и в помине нет, по-русски говорить брезгуют, отворачиваются. Вот и царице, наверное, нелегко пришлось в первое время в России.
Портрет святой царственной мученицы Александры Фёдоровны в юности
А их в подвале рассадили, словно для фотокарточки, и в упор из винтовок и наганов… А деток-то за что? Такие хорошенькие! Когда прочитала, что их штыками добивали… В общем, над своей кроватью я повесила портрет царицы Александры. Не пожалела я книжечку и вырезала оттуда. Рисунок такой. Она без короны. Когда спрашивали, кто это, отвечала: бабушка моя, в молодости. Их в то время ещё не причислили к лику святых.
А у меня тогда в душе неразбериха и сумятица поселились. Вроде бы сердце тянется к нашим святым, особенно почему-то к Серафиму Саровскому и Иоанну Кронштадтскому, к Богородице тоже, но в храм меня калачом не заманишь. Бывало, зайду, свечку поставлю и чуть не бегом на улицу. Выскочу из двери и выдохну, и на душе полегчает. Всё наоборот получалось.
А опыт духовный – до встречи с письмами царицы Александры – у меня всего один случился.
Опять сделаю шажок в сторону. Это когда я в Вильнюсе жила. По утрам, полусонная, плелась в диспансер на дежурство и по дороге проходила под застеклённой аркой, а там внутри была видна икона Богородицы. Вроде бы перед такой или похожей молился Серафим Саровский. Называлась виленская икона Остробрамской. «Брама», кажется, «врата» по-литовски. Получается, что речь идёт о той иконе, что находится над узкими или острыми вратами.
И вот как-то вижу: останавливается автобус, и из него высыпают поляки, я их по говору сразу признала. Что за сила меня потянула за ними? Длинная-предлинная лестница, поднимаешься, и направо тесная часовня с иконой, отгорожен образ от паломников низкой чугунной решёткой. Не приложишься. Долго стояла я перед Богородицей. Все на коленях, а я стоймя стою. Чувствую, что на работу уже опоздала. Вдруг кто-то, пробираясь поближе, задел меня плечом в плечо – я рухнула на колени и зарыдала. В тот день я в этой часовне до закрытия осталась. На работу не пошла. Как только направлюсь к выходу, меня слёзы душат. Возвращаюсь. То постою, то посижу, то опять на колени опущусь. Наверное, потому и вспомнила сейчас про Остробрамскую, что вот так же ревела, читая письма царицы.
А она, между прочим, в Вильнюсе бывала с дочерями. Кажется, в 1915-м, во время войны. Вот это письмо: «Прибыли в Вильно… Я увидела два санитарных поезда и сразу прошла к ним. Всё устроено вполне прилично, есть несколько тяжёлых случаев, но все держатся молодцом – они прямо из боя. Посмотрела госпитальные кухни и пункты питания. Оттуда поехали в собор, где находятся мощи трёх святых, а потом подошли к образу Божией Матери – чуть не умерла, когда поднималась. Образ в чудесном месте, жаль, что нельзя к нему приложиться». И прям толкнуло меня тогда: ведь про этот образ она писала! Ей тоже тяжело по лестнице подниматься, и жалеет она, что нельзя приложиться. Как прочитаю это место, так опять слёзы в три ручья.
Что-то я то и дело отвлекаюсь.
Вечером, как всегда – уж который день, – Санёк под дверью. На этот раз с молотком. Думаю, всё, капут. Погибель моя пришла. Колотит и колотит. Один замок совсем разбил. За второй принялся. Я стою спиной к двери, как бы подпираю её. И хоть бы кто-нибудь заступился.
Смотрю, и второй замок трещит, через щель перегаром несёт – не продохнуть. Ну, я и хлопнулась в обморок, хотя я медсестра, ко многому привычная. Теряя сознание, чувствую, как кто-то подхватывает меня на руки и осторожно кладёт на кровать.
Когда я очнулась, вокруг стояла тишина тишайшая. Значит, ушёл Санёк, думаю. А в комнате неземное благоухание. Смотрю, на столе обычный гранёный стакан с водой, а в нём веточка черёмухи. И от неё веет свежим, весенним ароматом. Это уж как всегда: зацвела черёмуха – тут как тут майские холода. К запаху черёмухи примешивается благовонный прохладный ландыш. Откуда это? Не Санёк же принёс.
А на душе радость и чистота. Как тогда в часовне с Остробрамской иконой. Наплакалась я там. А о чём плакала, сама не ведаю. Но вышла из часовни другой: душа чистая, сердце благодарно радуется, тело послушное и лёгкое, как после бани, духовной бани, надо думать. И вот второй раз такое состояние посетило меня вместе с черёмуховой веточкой.
На другой день пошла в нашу церковь, хотела свечку поставить Остробрамской. А там говорят, что и не слышали о такой иконе. Стали спрашивать, как выглядит. Я рассказала. Ну, и подали мне образ Умиления из Дивеева. Дескать, похоже?
Я взяла иконочку домой. Похожа. Только лик другой и полумесяца внизу нет. А старец Серафим называл её «Всех радостей Радость».
Вечером осторожный стук в дверь. Открываю. Мамочки мои! С ноги на ногу переминается Санёк. Трезвый. Ну разве что рюмочку пропустил для храбрости. Глаза поблёскивают. В руках черёмуха. Кисти её своим трепетом приветствуют. Говорит, мол, наломал тебе. Виноватый вид. Надо, дескать, кое-что рассказать тебе.
Сел он за стол. Вытащила я из-под кровати трёхлитровую банку, налила воды, поставила «букет», а рядом с ним стакан с одной-единственной благоуханной веточкой. И начал Санёк рассказывать.
– Ломлюсь к тебе вчера. Дверь поддаётся понемногу. А тут вдруг она открывается, дверь-то, и передо мной величественная такая женщина, красоты неописуемой. И одета не по-нашему. Я и молоток выронил, и дар речи потерял. А за её спиной две или три медсестры снуют. Как бы на стол накрывают, что ли. В таких каких-то старинных длинных платьях с большими красными крестами на груди, и снежно-белыми платками повязаны. Стою, и страх меня забирает, какой-то «священный ужас», как говаривал дед. Смотрит она на меня строго, но спокойно. Вмиг я протрезвел. Язык еле ворочается, но всё же спросил: вы, мол, кто? А она мне: я, дескать, бабушка её. И кивает на тебя. А ты на кровати белей полотна с закрытыми глазами лежишь. Она говорит: «Ты, Александр, сюда больше не ходи. Теперь я здесь буду жить. Ты же себе не враг, возвращайся в семью».
И закрыла дверь у меня перед носом. Даже молоток забыл у порога. Хотел было пойти к Григорьичу: дескать, у Ольги незаконно бабка проживает, непорядок! Настучать хотел. Потом вспомнил, что коменданта-то турнули с работы. За портреты. Еле дождался сегодняшнего вечера. Александром назвала, а меня сто лет никто так не называл, всё Санёк да Санёк. А мне ведь под сорок. Вот пришёл к тебе, – неожиданно закончил он свою повесть.
Я в слёзы. Мамочки мои! Благодарно смотрю на царицу. И меня спасла, и его вразумила, не дала такой грех совершить. Он проследил за моим взглядом, увидел портрет над моей кроватью:
– Так вот же она! Это она мне вчера дверь открыла. Только тут она совсем молодая. Значит, правда это твоя бабушка?
Пришлось рассказать ему кое-что. Слушал с озадаченным видом. В конце задал только один вопрос:
– А медсёстры, что за её спиной хлопотали?
– Думаю, – говорю ему, – расстрелянные доченьки царицы, больше некому. Они ведь во время войны в госпитале санитарками или медсёстрами работали.
Починил мне Санёк дверь, новые замки врезал и исчез из поля зрения. По слухам, сошёлся с женой, слава Богу.
Букет черёмухи осыпался на третий день, несмотря на обилие воды, а веточка с «привкусом» ландыша у меня три месяца стояла. Я водичку в стакане через день меняла. Потом в нашем храме исповедалась, причастилась, домой пришла, а веточка-то благоуханная, фимиамная завяла. Долго она поддерживала меня, вроде как костыль духовный, и теперь, получается, без надобности мне стала.
24–27 мая 2020 года
Икона в инкубаторе
Памяти Оптинского изографа игумена Илариона (Ермолаева)
Вот так и бывает: новорождённого из родильной палаты сразу в кувез, а по-нашему – в инкубатор. Прозрачный ящик.
С обеих сторон по две больших овальных прорези для рук врача или сестры на случай необходимой терапии. Сверху крышка, которую можно поднять. Внутри разные аппараты, датчики, провода, трубки. Система жизнеобеспечения, так сказать. Поддерживается определённая влажность и температура. Микроклимат и полная стерильность.
Сначала у нашего крохи лёгкие не раскрылись, подключили к искусственной вентиляции. Потом пришли другие беды. Не хочется и вспоминать. Считаем дни, потом недели, теперь месяцы до выписки из реанимации. Врачи даже не пытаются обнадёжить, поддержать. «Состояние тяжёлое, но стабильное!» И всё. Хорошо, что некритическое. И так каждый Божий день, а дней этих накопилось шестьдесят четыре. На наших глазах смерть против жизни борется, а поле битвы – только что пришедшее в мир трёхкилограммовое тельце нового человека, нашего долгожданного чада. Мы же пытаемся не поддаваться чувству бессилия.
Жена каждый день по утрам заходит в церковь, подаёт записочку о здравии. Могла бы сразу заказать сорокоуст, но она вот взяла на себя такой маленький подвиг: каждый день едет в храм и новую записочку подаёт о здравии болящего младенца Андрея.
И вот однажды, на шестьдесят четвёртый день, приходим утром в детскую реанимацию и узнаём, что в соседнем кувезе ребёночек ночью умер. Рядом с нашим малышом. У жены истерика, потом несколько раз в обморок падала. Сама-то еле отошла после родов. Поздняя беременность.
Тут я не выдержал. Говорю жене:
– Всё, хватит! И так слишком долго терпели. Плевать нам на санитарию и на стерильность. Пойду домой и принесу икону. Какую лучше? Может, преподобного Амвросия?
Преподобный Амвросий Оптинский. Современная икона
Стоит у нас в красном углу образ Амвросия Оптинского. Писал её мой друг – иеромонах, Оптинский иконописец. Он же подарил мне и частицу рясы или мантии, которую мы приклеили в уголке средника. Батюшка наш участвовал в открытии мощей преподобного и оставил для друзей и знакомых полуистлевший кусочек.
Между прочим, жена понесла после того памятного паломничества в Оптину. И всегда-то мы ехали в Пустынь к Амвросию, хотя там ведь старцев – больше десяти. По приезде в обитель обходили Введенский, Владимирский, Казанский храмы и возвращались к Амвросию-батюшке.
Это я с женой такой решительный, а когда подходил к врачу спросить про икону, весь запал исчез. Поджилки трясутся.
– Илья Борисович, я бы хотел из дома икону принести и поставить в инкубатор… Если уж вы ничего не можете сделать… Простите…
Зря, конечно, сказал, что они ничего не могут. Вы бы видели, что тут началось!
Суеверия! Антисанитария! У вас же высшее образование! Я прикажу, чтоб вас больше не пускали в клинику, и т. д. и т. п. Особенно в помощи врачу усердствовал фельдшер Коля. Чего только он не наговорил нам вгорячах! Бог ему судья.
Не знаю уж, как получилось, но Николай Степаныч (за глаза его все звали ласково дядей Стёпой – за рост выдающийся), главврач, на другой день разрешил. Принёс я икону. Тут же её стали чем-то обрабатывать, а я всё боялся, что красочный слой попортят.
Разумеется, я, как положено, в халате, в маске, в этих тонких перчатках. Поставил образ там, где крохотные ножки. Сердобольная медсестра шепчет мне:
– В головах, к головке поставьте иконочку-то.
Я настаиваю на своём:
– Надо в ногах, чтобы он видел.
– Да как он может видеть? – и всё острым шёпотом.
– Это по-вашему не может, а он младенец, он ещё всё-всё видит с закрытыми глазками лучше нашего, насквозь, а если не видит, то чувствует. Откроет их, глазки-то, а в ножках святой образ благословенный.
Сидим в коридоре, молимся. Ждём известий, словно сводку с поля боя. Пускают нас в реанимацию только по расписанию. Полутемно. Клиника экономит электроэнергию. Но только в коридорах и переходах, конечно. Вдруг мимо нас быстрыми, я бы сказал, летучими шагами проходит иеромонах в развевающейся чёрной мантии, с крестом на груди и в клобуке. Легко открывает запретную дверь, подходит к инкубатору. Вот тебе и стерильность абсолютная! Монах, весь чёрный, как грач на весеннем снегу, начинает молебен о здравии. Заветная дверь открыта. Мы за ним. Сёстры одна за другой короткими перебежками несутся к детской реанимации, фельдшер наш, Коля, и оба врача подходят. И все стоят у монаха того за спиной молча. Даже не шепчутся. Просто онемели. И фельдшер в том числе.
Мы с женой начинаем подпевать: «Господи помилуй!» А я мимоходом думаю: «Вот как надо! Смело, без сомнений вошёл и исполнил свой долг. Мы же мнёмся-жмёмся, малодушничаем, дрожим как овечий хвост, чужеродным правилам пусть нехотя, но поддаёмся. А память о нашем призвании – о молитве у постели больного – отодвигаем на задворки». Кто это «мы», я, по сути, не знал, но такая покаянная мысль мелькала, не давала покоя.
Кстати, у меня слуха нет, а у жены в тот день с утра горло разболелось, но потом все хвалили наше пение. «Прямо небесное!» – говорили. Да уж!
Отслужил иеромонах молебен. Покадил как положено. Голубые клубы дыма стелились по детской реанимации (расскажи кому – не поверят!), всех младенцев помазал елеем, окропил святой водой. Видно, с собой принёс, молебен-то был не водосвятный, а простой. Все стоят как вкопанные, словно к полу приросли. И никаких протестов.
Вот иеромонах повернулся к нам лицом и направился к выходу. Я взглянул на икону в инкубаторе. На лик. Так ведь это же сам Амвросий наш, Оптинский и всея России чудотворец! Тут дверь за ним захлопнулась. Я чуть не бегом из палаты. Но там никого. Пустой коридор, сужаясь, уходит к далёкой противоположной стене с небольшим круглым окном, перечёркнутым крестом рамы. Вернулся в реанимацию, а там – истинная душистая стерильность небесной святости. Тут уж точно никакая зараза не пристанет.
Позже я узнал, как случилось, что главврач разрешил поставить в инкубатор икону. А ведь могли бы и с работы его выгнать за такие религиозные вольности!
Фельдшер Коля позже подружился с нами, а с Николаем Степанычем они теперь не разлей вода. И вот фельдшер со слов врача рассказал нам, что, когда закрутилось это дело с нашей иконой, Николай Степаныч увидел сон. А он неверующий, но и не атеист. Теплохладный по-нашему. Будто, значит, стоит он в храме перед иконостасом. Рядом аналой, на нём икона Богородицы. И голос говорит ему: «Возьми икону в руки». А он не решается, боится чего-то, как будто руки свело. Голос опять более строго: «Возьми!» Ну, врач наш взялся за края образа, а оторвать от аналоя не может. Даже под аналой заглянул: мол, нет ли там какого приспособления. И образ небольшой, меньше локтя в высоту. Опять начал тянуть изо всех сил… И от натуги проснулся. Никак не мог объяснить себе этот странный сон. Однако кое-что вспомнил, полез на чердак и открыл сундук с бабушкиной иконой. Богородица с Младенцем. Долго сидел над распахнутым сундуком, точнее, над иконой. Всё думал: а вдруг, как во сне, не сможет икону с места стронуть? Всё же принял он её на руки, ничего страшного не случилось. В комнате не знал, куда деть, и поставил посредине комнаты на стол, покрытый вышитой скатертью (бабушкина работа), прислонив её к стопке медицинских книг. Ну, и нам в тот же день разрешил икону поставить в кувез.
А растолкование сна вскоре продолжилось.
Вроде бы надо остыть, смириться: икона в инкубаторе, главврач разрешил, чего суетиться-то? А фельдшер Коля ну никак не мог угомониться. Словно икона мешала ему. Не давала спокойно жить и работать. И вот во время своего дежурства, как нам рассказал уже дядя Стёпа, то бишь Николай Степаныч, фельдшер наш открыл кувез и хотел убрать оттуда икону. Что он собирался сделать с ней в дальнейшем, окутано завесой тайны. Взял он образ одной рукой, а поднять не может. Вцепился обеими руками, а икона ни с места. Волосы, поведал он главврачу, зашевелились не только на голове, но по всему телу (он такой чёрный, весь волосатый: руки, ноги, грудь и даже плечи). Оставил икону в покое и пулей полетел к Степанычу в кабинет. Вернулись в реанимацию. Фельдшер подначивает главврача: «Вы попробуйте сами, попробуйте!» Николай Степаныч нерешительно протянул руку к иконе, но тут вспомнил и сразу уразумел смысл своего неразгаданного сна, отдёрнул руку и невольно перекрестился. Первый раз в жизни. Так они и подружились: Степаныч рассказал Коле свой сон, а тот ему быль о недвижимой иконе. Ну, и с нами наладились неформальные, так сказать, отношения.
Так преподобный Амвросий своим явлением трёх человек (ещё ту медсестру сердобольную) привёл ко Господу. Никогда не забыть мне, как после ухода преподобного медсестра бегала по палатам, вздыхала и причитала: «Чудо, чудо-то какое! А мы уж думали, не жилец он на этом свете». И опять в другой палате: «Чудо-то какое! А у нас уж руки опустились…» Мы с женой только тогда и осознали, насколько всё безнадёжно было с нашим чадом.
Слава Богу за всё! Господь молитвами святых пометил нашего малыша. А он и не подозревает ещё. Старательно и даже жадно сосёт материнскую грудь, будто тяжёлую работу совершает. Раскраснеется весь, испарина выступит, волосики на лбу слипнутся. А потом откинет головку и беззубо и счастливо улыбнётся. А взгляд бывает иногда таким мудрым, что невольно страшно становится. И думаешь: может быть, он уже больше нашего знает, что-то такое, что закрыто от нас, взрослых. Каждое дитя – загадка, каждый малыш – тайна. Тем более такой: две недели на грани между жизнью и смертью провёл.
После выписки первым делом пошли в загс. Он у нас теперь не Андрей, а Амвросий. В честь Оптинского старца. Потом-то мы пожалели. Если уж Господь в младенчестве явил к нему такую милость, то, может, и в монастырь его призовёт. Мы-то всей душой. Вот там, в обители, при постриге и получил бы имя преподобного Амвросия. Но теперь поздно. Чего зря фантазировать! Не будем же ещё раз имя менять.
Да, ещё забыл сказать: горло-то у жены во время пения прошло вмиг. Ни красноты внутри, ни хрипоты снаружи.
Ах да! Вот ещё пришло на память. Николай Степаныч повелел сделать в реанимации полочку и поставить туда иконы Богородицы и преподобного Амвросия.
При этом якобы сказал: «Придёт ещё один такой же горячий (это он про меня, наверное!) и полезет икону в кувез ставить, а мы ему: пожалуйста, молитесь, образá здесь, на полице».
Боюсь, снимут его с должности. Как пить дать уволят! Впрочем, Бог не выдаст, свинья не съест.
И вот ещё что: икона после того случая словно наполнилась светом, будто её снова освятили. Мы так и думаем, ведь преподобный сам осенил образ своим реальным присутствием и всесильной молитвой. Чудны дела Твои, Господи!
2020 год
Празднование в честь чудотворной иконы
«Живоносный источник»
Пугало
Вот был у нас на селе такой случай.
Я очевидец и участник в некотором роде.
Приехала комиссия: дескать, в церковь давно никто не ходит, требуется закрыть. Сельсовет одобрил. То ли клуб в ней хотели организовать, то ли МТС в неё перевести. Уже не помню. МТС, конечно, не компания сотовой связи, а машинно-тракторная станция.
Приехала другая комиссия на грузовике. Сказали, иконы представляют музейную ценность, их, мол, вынут из иконостаса и увезут в область. Ну и разорили нашу церковку Богоявленскую, в честь Крещения, значит. Всё село в ней крестилось, всё село, так сказать, одним миром мазано. Это хорошо ещё, что в музей тогда уже стали отдавать образа-то. Дед рассказывал, что в его времена иконы прямо перед храмом рубили топорами и сжигали. Народу мало что удавалось спасти. А тут как-никак в областной музей отправили.
Я тогда в нашей МТС механиком работал. Ну, а шоферюги – известное дело – после смены в сельмаг, бутылку водки на троих с устатку. Был вариант подешевле: у Клавки-цыганки в любое время можно было самогоном разжиться. Когда третьего не хватало, меня тянули за собой.
Сначала я было сопротивлялся, но скоро тоже пристрастился. Летом на природе уж больно хорошо. Закуска своя, с огорода. Но вот в остальное время в некотором роде закавыка. Где пристроиться? У всех жёны – пушки заряжёны: как завалимся втроём, да с бутылкой, могут выстрелить. Обычно мы собирались с Парфёнычем и Михалычем. Как-то раз Парфёныч – помнится, день был дождливый, октябрьский – и говорит: давайте, дескать, в церкви посидим. Всё равно пустая стоит. Мы сначала воспротивились, но уж больно холод и сырость доставали. Парфёныч достал из кармана какую-то железяку и двумя-тремя умелыми движениями открыл замок южной двери. Так и повадились мы в церкви водочку-то распивать. Тайком, когда кругом никого не наблюдалось, пробирались туда, потом, уходя, за собой запирали.
К тому времени полы в храме повыломали. Но кое-какие доски остались. Иконостас в три ряда зиял пустыми глазницами. Зрелище страшноватое, особенно в полумраке. Парфёныч и костёр хотел было разжечь, с топором приходил пару раз, да мы не дали. Всё же церковь! И так мы там распивали по самую весну.
Как-то после Пасхи уже сидим как всегда, мирно беседуем то о работе, о новом председателе, то о бабах наших, но всё держится в рамках, без хамства и даже без мата. Мы с Михалычем уж больно не любили скверное слово. Но в тот день Парфёныч, видно, до нас ещё поддал, ну и съехал с катушек, в некотором роде. Не успели мы глазом моргнуть, как он полез на иконостас. Ловко, как кошка. Топор за поясом.
И куда пьяное расслабление членов делось! Мы кричим: слезай, мол, куда ты? А он уже в верхнем ряду из окна выглядывает, как безобразная икона. И только тут мы скумекали: крест хочет сбросить. Иконы-то музейщики забрали, а крест как был наверху, так и возвышается. Недолго он там возился, и слетело Распятие прямо на амвон. А было оно расписное, красивое, Христос был изображён на нём. И руки так раскинуты, словно Он всех хочет обнять или всех к Себе зовёт.
Мы сначала подумали, что Парфёныч теперь успокоится: чего, мол, не вытворишь по пьяни, – но он разошёлся ещё больше. Давай, дескать, по последней, и я пошёл крест в огороде ставить. Пугало для птиц из него сделаю. И ведь поставил! В тот же день. На верхушку Распятия надел старую рваную ушанку, а на пробитые гвоздями ладони натянул свои рабочие рукавицы. Всё село сбежалось смотреть.
Бабы, конечно, облаяли его, орали так, что в соседнем селе слышалось эхом, одна пыталась ему глаза выцарапать. Жена Парфёныча больше всех кричала на него, вилами грозилась. Мужики смотрели на дело по-разному. Одни иронично, в некотором роде, усмехались непонятно чему, другие удивлялись лихости Парфёныча, третьи – между собой поговаривали: мол, дурак дураком, чего с него взять-то. Только баранку крутить и умеет.
И неизвестно, чем бы дело кончилось, скорей всего, отдубасили бы его бабы, но тут откуда ни возьмись закружила в небе стая белых голубей, слетела вниз и облепила Распятие, прямо всё сверху донизу. А у нас в селе только Ванька-встанька (вообще-то он Иван Иваныч Неваляшкин) держит голубей, но у него сизари и ни одного белого. Представляете, какая тишина настала. Казалось, на всём белом свете она одна такая царит и никогда не кончится. Только что бабы орали, а тут некоторые прямо в голос зарыдали. У мужиков глаза тоже на мокром месте. Баба Маня, которая после войны у нас церковным старостой состояла, прошептала совсем тихохонько: «Святый Дух снизошёл на Распятие». И все услышали.
Парфёныч сгорбился, ушёл молча в дом. Народ ещё долго любовался картиной голубиной любви. То перелетают с одного места на другое, то неподвижно сидят, на нас внимательно смотрят, то клювиками соприкасаются, в некотором роде. Не заметили мы, как сумерки упали. Расходиться стали уже в темноте. Жена Парфёныча ушла к сестре ночевать. А я после того случая о Боге задумался.
Ночью Распятие исчезло. В селе сразу появились разные версии. Первая: Парфёныч ночью изрубил его и сжёг. Вторая: кто-то взял его тайно и спрятал от греха подальше. Третья, самая популярная:
Распятие голуби унесли. Но на простой вопрос: куда унесли-то? – никто ответить не мог. Да и как они умудрились бы поднять его в воздух? Тяжёлое всё же. Хотя если говорить о чуде, то тут ничего не возможного нет, и тяжесть тут ни при чём.
Парфёныч утром не вышел на работу. А в одиннадцатом часу он прошествовал через всё село в МТС, там у нас телефон есть. Руки же держал в стороны, как на Распятии нарисовано. Они у него не опускались. Так и шёл через всё село от реки до взгорка, где за храмом МТС стоит. И знаете, ни одной насмешки, никакого злорадства. Выстроился народ в два ряда – слух-то по селу молнией пролетел – и провожал его сочувственными взглядами. А он идёт-планирует, руками покачивает, бедолага, как самолёт крыльями, в некотором роде. Часа через три за ним приехала «скорая помощь» из района. Оказалось, руки у него ночью поднялись в стороны, и никак их не заставишь прижаться вдоль тела, как раньше. Так и не спал до утра.
Дальше знаю только по слухам, которые достигли села. Врачи в больнице ему тоже не помогли. Тогда Парфёныч якобы сам попросил пригласить батюшку. О чём они там говорили втайне, никто, конечно, не знает, но руки у него, однако, опустились. В село же он не вернулся. Жену бросил. Куда сгинул, никто не ведает. Давно это случилось. Ещё в кукурузные времена[1].
Храм уже лет двадцать как вернули. Тогда мы с батюшкой сразу же отправились в музей. Образá иконостасные нам не отдали, хотя у нас документ имелся от владыки нашего. Иконы, сказали солидно, нуждаются в особом режиме хранения, а в церкви, дескать, такового не имеется.
Ну, накупили бумажных изображений, наклеили на пятислойную фанеру и вставили, а то ведь дыра на дыре. Страх! Конечно, вид совсем не тот. Бумага, она и есть, в некотором роде, бумага.
Всем миром собрали денег на иконы, поехали в область. Только на две иконы – Спасителя да Богородицы в нижнем ряду – и хватило. Дорогущие они нынче. Даже представить себе не мог, как цены на святыню кусаются.
Теперь вот опять с миру по нитке собираем: крест на верх иконостаса заказали.
Между прочим, Ваня Неваляшкин недавно белых голубей прикупил – орловских турманов: замрут в высоте, потом свернутся клубочком и падают камнем, а затем вдруг расправят крылья и вертикально садятся на крышу. Теперь они нам постоянно напоминают о спасённом Распятии.
Май 2020 года
Незримые руки хирурга
Как-то раз, когда я уже кое-как ходил, решил прогуляться в пригоспитальном парке и там на зелёной крашеной скамейке заметил врача, который делал мне операцию. Попросив дозволения, подсел к нему.
Спрашиваю:
– Очень сложный случай был у меня, Виталий Аркадьевич?
Хирург долго молчал, глядя на меня так, словно видел впервые. Ну, конечно, мой живот он знал лучше, чем лицо. Потом перевёл взгляд на небо, на клубы кучевых облаков, которые, зависнув над парком, казалось, решали – пролиться дождём или нестись, как перекати-поле, всё дальше и дальше по воле капризного, переменчивого ветра. Глаза его рассеянно заскользили по выбеленным корпусам госпиталя, по больным, осторожно передвигавшимся по дорожкам парка – кто прихрамывая, кто на костылях. Полосатые пижамы и застиранные махровые халаты не могли скрыть военной выправки их обладателей. Вдруг доктор пытливо и остро взглянул на меня, словно хотел убедиться, что мне можно доверять.
– Да, случай непростой, – наконец заговорил он, – но дело не только в тяжести ранения. Накануне друзья уговорили меня отметить день рождения. У моего коллеги и друга после трёх дочек-погодков родился наконец пятикилограммовый сынище. На радостях все здóрово поддали. Не знаю, что на меня нашло, может, тоже о сыне размечтался. Так, как в тот раз, я не напивался никогда в жизни. Засиделись допоздна. А тут в четыре утра – поспал-то всего часа два – звонок из хирургии: привезли гражданского, но пострадал на поле боя, поэтому доставили к нам в госпиталь, полон живот осколков, критическая потеря крови, нужна срочная операция. Привёл себя в порядок, насколько мог. Некоторые вот примут пару рюмочек, и за скальпель. А мне нельзя похмеляться, организм не такой – не позволяет. Прислали за мной машину. Голова трещит, руки-предатели трясутся. Массировал их всю дорогу. Приехал, а вас уже подготовили к операции, анализы готовы. Все в сборе в операционной, а у меня руки «нерабочие». Кляну себя на чём свет стоит.
Готовимся к операции. Пот со лба градом катится, сестра едва успевает промокнуть. И вот вдруг словно тень какая-то встала рядом со мной, точнее, за спиной справа. Я потом всех спрашивал – и анестезиолога, и операционную сестру, и ординатора моего – никто ничего не видел. Встаёт эта тень, мягко берёт мои руки в свои и будто переливает в меня живительную силу. Потом я крещусь под влиянием этой силы, крещу вас и прошу скальпель. Пальцы энергично и точно двигаются, только волосы на голове почему-то шевелятся. Но зато она перестала болеть. В общем, как и сами знаете, всё закончилось благополучно. Шесть осколков я из вас выудил. Такой кучности никогда не видел. Это ведь не пулевые, а осколочные. Хорошо, что не слишком глубоко сидели, видно, на излёте в вас угодили. Я уж и не помню: часа три вас оперировал?
– Больше трёх с половиной. Все говорили, что не выживу, тем более крови много потерял, и загноение началось, а я вот выдюжил. С вашей помощью.
– И вот что интересно, – продолжил хирург, – никакой тени мои ассистенты не видели, но все заметили, что я перекрестился и вас перекрестил. А ведь это случилось первый раз в жизни! Я даже толком знаю, как пальцы складывать и на какое плечо надо их положить сначала – на правое или на левое. Вот сейчас предложи мне перекреститься, я, может быть, и запутаюсь. А моё состояние в ту минуту было «я-не-я». То есть я оставался собой, сознание и воля при мне, но кто-то управлял… нет, не управлял, а просто помогал мне, и я полностью доверился ему. Да, хороший урок я получил. Хирург должен быть в боевой готовности каждую минуту, тем более военврач. Убедился, что это не просто слова. С тех пор всё думаю: кто же это помог мне так виртуозно прооперировать вас? Опять скажу: ясно и всем существом чувствовал я, что не один, что кто-то словно ассистирует мне – невидимо, но реально. Но кто?
– Что ж, Виталий Аркадьевич, – отвечаю я, – теперь мой черёд рассказать вам свою историю. Перед поездкой в ту командировку, кончившуюся тяжёлым ранением, один близкий человек дал мне почитать книгу «Дух, душа и тело». Тоненькая такая книжечка, почти на папиросной бумаге, в Брюсселе издали в 1978 году, у них есть такое издательство – «Жизнь с Богом». Думаю, тонкую бумагу использовали, чтобы легче к нам в страну пересылать. Но и с собой носить, конечно, удобно. А книжку эту написал архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий).
В дороге и в командировке я с этой книгой не расставался. Столько нового она для меня открыла! Целый мир. Такая глава, например: «Сердце как орган высшего познания». Представляете? Не ум есть орган познания, а сердце! Или другая: «Душа животных и человека». Оказывается, зачатки души даже у кошки и собаки есть. Или вот: «О внутреннем человеке», именно после неё я стал задумываться о вере и Боге. В каждом из нас есть внешний человек и внутренний – для меня настоящее открытие. Конечно, слышал выражения «моё второе Я», «внутренний голос», прочитал одну книгу Фрейда, но тут всё по-другому. Очень понравилось о духовной энергии, которая лежит в основе мироздания, – об энергии Святого Духа и любви Божией, изливающихся в мир и его животворящих. Книжка-то и сейчас у меня под подушкой.
А к вам в госпиталь я попал по собственной дурости. Сказали мне, дескать, завтра будет конвой, с ним вас и отправим домой. А я решил на день раньше ехать, надоело на блокпосту. Ну и укатил на попутке с тремя бойцами, которые возвращались в свою часть.
Засада. Обстрел. Граната. Очнулся от боли, когда меня тряхануло в машине, – обратно на блокпост везли. На следующий день отправили с конвоем на аэродром, а потом уж к вам в госпиталь самолётом.
И вот лежу я у вас на столе и неожиданно для себя самого обращаюсь к Богу: «Господи, верую, что у меня есть бессмертная душа, верую, что в моём теле присутствует Дух Святой. Помоги врачам, Господи!» Первая в жизни молитва. Как у вас первое крестное знамение. И вот я уже под наркозом, но, представляете, ещё всё вижу сквозь светлую пелену. Не знаю, можно ли доверять видениям человека, лежащего под общим наркозом, но я верю. Рядом с вами появляется неясная фигура, она как тень, такая серебристая, полупрозрачная, но, например, белую бороду и очки различаю.
Встал он за за вашей спиной и руки свои как бы продел в ваши перчатки. Таким лёгким привычным профессиональным движением. Вы перекрестились, перекрестили меня. Успеваю узнать архиепископа Луку, который книжку про Дух и душу написал.
Там, в книжке той, есть его чёрно-белая фотография, так что я его ни с кем не спутаю. Я даже будто почувствовал, как ваши пальцы стали увереннее. Правда! Но тут я отключился, дальше не помню ничего.
Только даю голову на отсечение, что помог вам архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, знаменитый хирург. Говорят, его скоро причислят к лику святых[2]. Я – «за». Правильно! По одной его книге я убедился, что он святой жизни человек. И других к вере приводил. А как он объяснил об энергии, душе, Духе и бессмертии! И не захочешь, да поверишь! И с этой операцией он мне помог. Точнее, вам. А по правде сказать, нам обоим.
Напоследок расскажу, если не слышали, как владыка Лука одного известного чекиста, дай Бог памяти, – Петерса, кажется, – поставил на место. Этот поборник «красного террора», за которым тянутся кровавые следы по всей России, как-то задумал поддеть архиепископа: «Как вы можете верить в Бога? Вы же много раз делали вскрытие человеческого тела и видели, что нет там никакой души».
Святитель Лука Симферопольский и Крымский. Современная икона
На что владыка Лука ответил: «Я также много раз делал трепанацию черепа, и никакого ума там не нашёл». Как среагировал Петерс, позабылось. Думаю, он тоже не раз видел разбрызганные человеческие мозги на расстрельной стенке, а ума не обнаружил. Сейчас подобные возражения я воспринимаю с улыбкой. Помните, когда Гагарин совершил первый полёт, атеисты, как дети, торжествовали: «Вот Гагарин полетал по космосу и никакого Бога там не обнаружил». Надо же, какой примитив. Одни и те же доводы повторяются у атеистов. Как будто наш космонавт только за этим туда и летал! Дед мой, слыша такие слова, посмеивался и крестился на красный угол: «Чего захотели! Бога увидеть! Его даже не все святые угодники удостоились лицезреть. Вот умрут – и увидят. Только поздно будет».
Кстати, если хотите, я эту книгу с удовольствием дам вам почитать. Всё же архиепископ – ваш коллега. Говорят, его книги по хирургии до сих пор изучают в мединститутах. Как раз о гнойной хирургии. А вы не читали?
И ещё. Спасибо, что сохранили осколки. Сберегу на память детям и внукам. Они особенные: вы их с помощью архиепископа Луки из меня выковыривали.
Два человека сидели на зелёной лавочке – хирург и его пациент. И незримо пребывал среди них святой, покрывая задушевную беседу тихой тайной Божия присутствия.
2020 год
Память Всех Святых,
в земле Российской просиявших
Копыта
Начиналось как обычно. Сначала рюмочками, по пословице «Зачал Мирошка пить понемножку». Скоро перешёл на дедовы лафитники, а там и стаканы в дело пошли. Пил как сапожник, до потери сознания. Жена не выдержала, бросила меня. А у нас двое мальчишек, малые еще. Разменяла квартиру – себе двухкомнатную, а меня в коммуналку. Как говорится, вино полюбил – семью разорил. Ну, запил я с горя ещё пуще. Собрался было пойти к ней, да боюсь детям на глаза попасться в таком неприглядном виде. Образина образиной. Потом соседи сказали, что она сошлась с каким-то армянином. Из-за этого опять ушёл в запой, уж больно обидно мне показалось, что не к русскому, а к армянину ушла. Хотя, может, и хороший человек, ведь как-никак с двумя детишками взял её.
А тут дружок у меня объявился. Как познакомились, плохо помню. Тыры-пы-ры, то да сё, где-то за гаражами и закорешились. На следующий день завалился он ко мне рано поутру, как давнишний друг. Принёс похмелиться. Да хоть бы действительно похмелиться только, а то приволок четыре пива да пару водки по ноль семь. Ну, и продолжили…
А потом кто кого угощал – не считались. Деньжонки у него водились. Мои пропивали – он доставал свои. Безотказный был. Чаще всего пили во дворе, на свежем воздухе, потом как-то я перебрал, и он на своём горбу доставил меня домой, да так и стал заходить в любое время. Даже ключи мои уже у него были. А в моей коммуналке – кровать, на спинке вафельное полотенце, у стены стол квадратный, застеленный газетами, стул вроде венского. И всё. Ну, ещё люстра, если считать её мебелью. А на стене, там, где стол, – икона Ильи-пророка. От деда осталась.
У нас в семье такая традиция: старшего сына называть Ильёй или Андреем. Дед у меня Илья Андреич, отец Андрей Ильич, а я опять Илья Андреич, как дед. Старшенький же мой вновь Андрей. Так и чередуемся. Кстати, в селе, где дед родился, и церковь в честь Ильи-пророка называлась. Помнится, стояла у нас и икона Андрея Первозванного, да куда-то запропастилась.
В общем, тыры-пыры, то да сё, спустил всё до нитки, вот и остались у меня кровать, стул и стол – никто не купил, а то бы и их пропил. Даже шторы и тюль с окна загнал кому-то из соседей. А на кухне трёхногий столик и одна кастрюля. Но икона – это святое, продать её – последнее дело. Тем более Илью-пророка.
Спрóсите, на какие шиши я пил? Подрабатывал грузчиком, бутылки собирал, занимал. Особенно хорошо пошло дело, когда у меня друг этот появился. Тогда мне уже никто взаймы не давал. А с ним – другой коленкор! Идём, к примеру, по улице, он шепчет: «Вон у того попроси». Подхожу, и мне с готовностью дают. Прямо чудеса какие-то! А если без него иду, отворачиваются или даже на другую сторону перебегают. И столько я назанимал, что до смерти не расплатиться. Хотя мне и жить-то осталось всего ничего.
Почему я вспомнил про мебель-то. Первый раз, когда он поднялся ко мне с четырьмя пивами и водкой, я устроился за столом, а он жестом фокусника извлёк из карманов бутылки, поставил передо мной, но тут вдруг задрожал, позеленел, скрючило его как-то. Схватил он моё полотенце со спинки кровати и набросил на икону. Я, мол, ты чего, тыр-пыр, восемь дыр? А он, дескать, нельзя пьянствовать и курить в комнате, где икона. Тебе дед «там» спасибо за это скажет. И он ткнул большим пальцем куда-то себе за левое плечо. Объяснил, в общем. А что? Тут он, пожалуй, прав.
Ну и стали мы закадычными собутыльниками. Ну, а закадычный, как известно, тот, кто любит за кадык закладывать, горло водочкой регулярно прополаскивать. Заходил он ко мне каждый день. Цоканье его ботинок я слышал ещё от общей двери. Давно уже вышли из моды подковки, а он так, цокая ими, и ходил. Когда-то их прибивали не только к каблукам, но и к носкам. По асфальту ли, по бетону ли, по половицам ли моей коммуналки – цок-цок, ток-ток, цок-ток, ток-цок.
А звали его, точнее, я кликал его, Лешим. Когда по пьяни стали знакомиться, я спросил, как зовут. Он что-то пробормотал: то ли Лёша, то ли Леший. А на Лешего он похож: какой-то весь серый и мохнатый внутренним мохом, что ли. Я спрашиваю, тыры-пыры, то да сё: «Как тебя звать-то?» – а он: «Хоть горшком назови, только в печь не сажай». Ну и прозвал я его Лешим. Ему вроде нравилось.
А на тыры-пыры не обращайте внимания. К шурину я как-то с горя зашёл, а у него присказка такая: «тыры-пыры, то да сё». И к месту, и не к месту это присловье у него. Ну, я подтрунивал над ним, даже посмеивался над его «тыры-пыры», а оно возьми да и прилипни ко мне самому. Как банный лист. Уже несколько месяцев не могу от него отделаться. Выскакивает изо рта, словно чёрт из табакерки, и всё тут. Так что пропускайте мимо ушей.
Друг мой новый во время застолий сыпал поговорками: «Между первой и второй промежуток небольшой», «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт», «Лучше водки – хуже нет» или наоборот: «Хуже водки – лучше нет», «Не пить, не гулять – куда деньги девать?», «Где пьют, там и льют». Я его поддерживал, один раз вспомнил дедову присказку: «Церковь близко, да ходить склизко, а кабак далеконько, да бреду потихоньку». Завёл он разговор про Есенина, а я его люблю. «Чёрного человека» мне читал наизусть. И про самоубийство поэта рассказывал. А у меня, кстати, есть книга какого-то следователя, который как дважды два четыре доказывает, что поэта убили, а не сам он в петлю полез. В картине самоубийства столько нестыковок, что никак не поверишь тогдашнему официальному следствию. Но спорить с новым другом не хотелось.
Кажется, пить я стал ещё больше. И куда только влезало? Ведь воды столько не выпьешь! А он и к месту, и не к месту: «Вода не водка, много не выпьешь», «В кабаке родился, в вине крестился», «Первая колóм, вторая соколóм, третья – мелкой пташечкой». Причём заметил, что эта присказка ещё у Толстого в «Анне Карениной» встречается. Образованный как бы.
Пил он наравне со мной. И не пьянел. Я было подумал, что он хитрит: может, за плечо выплёскивает или куда-нибудь. Удалось поймать его только раз, когда он под стол содержимое слил. Но меня не проведёшь! Пьяный-пьяный, а всё секу. Заставил его налить и выпить штрафную. Но глаза у него всегда оставались трезвыми и холодными. Артисты вот в фильмах здорово умеют пьяные глаза изображать, а он или не хотел, или не умел. И уж очень любил потолковать про пьянство и про самоубийство. Вообще-то мысля о самоубийстве мне и без него приходила, особенно когда жена с сыночками моими кровными послала меня, так сказать, на произвол судьбы.
Думаю, целый месяц он ко мне захаживал. По утрам меня уже трясло всего.
Допился до чёртиков. Сейчас их ласково называют белочками. Уверяю вас, никаких белочек не существует, а есть чёртики, попросту черти. Красивые пушистые белочки же нужны, чтобы чёрных чёртиков прикрыть, замаскировать. Дед рассказывал – я тогда ещё маленький был, а вот запомнил, – что один мужик зашёл в трактир, заказал сто пятьдесят. В один стакан, естественно. Но, прежде чем выпить, перекрестился и стакан перекрестил. Говорят, народ на смех его поднял: дескать, коль пришёл, так пей, все мы сюда за водкой приползли, и не след тут своё лицемерие выказывать.
А на тот случай в трактире какой-то святой оказался. Вроде бы Василий Блаженный, который на Красной площади потом себе храм возвёл. И вот святой и говорит на всю залу: дескать, я своеличными очами зрил чёртиков (заметь, не белочек с пушистыми хвостами), которые сидели по ободу стакана с водкой. А человек перекрестил стакан, и чёртики, как вспугнутые воробьи, опрометью упорхнули в разные стороны. Я ещё тогда подумал: а если б не перекрестил, этот мужик мог бы их, тыры-пыры, то да сё, вместе с водкой внутрь заглотить. И я после дедовой истории сначала крестился, прежде чем выпить. А тут вдруг как отшибло. Особенно когда с Лешим снюхались.
Ну вот, продолжаю. Руки у меня тряслись так, что стакан приходилось сжимать двумя ладонями, зубы выстукивали барабанную дробь о край посудины. Да и перекреститься коль попробовал бы – так щепотью в лоб не попал бы. А отказаться от угощенья нет ни сил, ни желанья, ни воли. Да мне много-то уже и не требовалось: пару стаканóв – и я в стельку, в сосиску, в хлам.
Помню первый случай. Он сидит на кровати напротив меня и разглагольствует: «Самоубийство – это освобождение. Принажал на спусковой крючок – и ты свободен, как птица в полёте». Я: мол, у меня и ружья-то нет. Он выскакивает за дверь, а через пару секунд: крибля-крабля-бумс – и в руках у него, как у фокусника, ружьё бельгийское с такой изящной гравировкой на ложе. У соседа, мол, позаимствовал. Мне протягивает. А сам всё подливает и подливает водяру-то. Я уже плохо соображаю: какая свобода, что за крибля, почему бумс, откуда самоубийство? А он суетится вокруг. Снимает с меня правый ботинок, носок, помогает вставить большой палец в скобу. Так заботливо и успокоительно, дескать, щас тебе станет очень хорошо, даже прекрасно, боль угаснет. Потом вставляет ствол в рот. У меня текут слёзы, сопли, попадают на язык…
Ну, и вырвало меня. Еле успел отскочить друг-то мой ситный. Прополоскал я горло водкой и тут же заснул. На другой день никакого ружья в комнате не было и в помине.
Пришёл он ко мне с парой бутылок. Похмелился я, а он опять о самоубийстве. Одно дело – я сам хочу, другое – когда мне навязывают. Какое-то сопротивление во мне проснулось. Но выпил стакан-другой и стал прислушиваться к нему. А он опять про освобождение и самоубийство проповедует. Я ему: мол, нас никому не поставить на колени, мы лежали – и будем лежать. Но сделал не по поговорке. Совсем плохо помню, провал в уме и памяти. Очнулся на столе, но как туда забрался, стёрлось в пьяной памяти. Глядь, а там уже верёвка с петлёй свешивается с потолка. Когда это я успел и как умудрился? Привязана не к люстре, а к крюку, на котором и держится люстра-то. Тыры-пыры, то да сё, дрожащими руками хватаюсь за петлю, продеваю в неё бестолковку свою хмельную, пропитую.
Собутыльник мой, всё время так внимательно и сочувственно следивший за мной, вдруг направляется к двери: не хочу, дескать, оставаться свидетелем, а то меня могут обвинить, что помог тебе копыта отбросить. И выскакивает за дверь. Стою я, о чём-то думаю. Верёвка какая-то шершавая, шею режет остро. «Прощайте!» – говорю неизвестно кому, оглядывая унылые надоевшие стены. Вдруг слышу голос: «Открой меня!» Взгляд мой падает на завешенную икону. И снова долетает глухое: «Открой меня!»
«Вот с кем надо попрощаться, – решаю я, – с дедовым Ильёй-пророком!» Дед, помнится, и сам был на эту икону похож. Длины руки еле-еле хватает на то, чтоб дотянуться до кончика полотенца. Я сдёргиваю его, теряю равновесие, и петля на шее затягивается. «Прощай, угодник Божий и Громовержец!» – успеваю прохрипеть я, и конвульсия сотрясает тело. Вдруг с грохотом лечу на стол, а оттуда скатываюсь на пол. В руках полотенце. Ничего не соображая, просовываю его под жёсткую острую верёвку на шее. Крюк вырван из деревянного перекрытия. Люстра вдребезги. На столе и на полу щепки, битое стекло, куски штукатурки, сухая извёстка. И затхлая пыль столбом.
Дверь открывается, вбегает мой «друг», в руках у него ещё одна верёвка. Откуда узнал? Он пытается оценить ситуацию. Но тут его взгляд падает на икону. И опять лицо его зеленеет, судороги сводят тело, и он одним прыжком бросается под стоящую в углу кровать. Нет, то не сказочный леший, который у Пушкина бродит возле зелёного дуба у лукоморья, – понимаю я разом.
А теперь, хотите верьте, хотите нет, ради вот этого и рассказ затеял: когда он, метнувшись под кровать, встал на четвереньки, чтобы просунуться под панцирную сетку кровати в углу, я увидел, что не подковки на ботинках у него цокали, а копыта. Настоящие мосластые зеленовато-сизые копыта на миг показались из манжет штанов. Хвоста не видел. Чего не было, того не было, ни прибавлять, ни врать не стану. Кстати, и рогов за ним не замечал.
Одно его высказывание часто вспоминаю. Дескать, не хочу, чтобы на меня свалили вину за то, что ты, то есть я, копыта отбросил. Всё кумекал я, откуда такой странный оборот речи? Но ничего не пришло в голову. Хотя вроде бы получается, что если б я повесился, то у меня в тот миг отросли бы копыта и я бы их отбросил?
Вот киот для образа Ильи-пророка заказал. Красный угол с одинокой иконой устрою. И полотенце вышитое приобрёл. Пьянство как рукой сняло. Не подумайте, что хвастаюсь. Вам бы увидеть те копыта – навек забыли бы вместе со мной, как водка пахнет. И водка, и вино, и даже пиво…
2020 год
Память преподобного Нектария Оптинского
Спасительный круг
Мы вот все знаем о киевской иконе «Николы Мокрого», о Леньковском образе Божией Матери «Спасительница утопающих»[3], а о нашей святыне мало кто слыхивал. А она ведь явное чудо сотворила. При многих свидетелях.
Даже не приходит на ум, с чего начать. Пожалуй, с реки. Неширокая она у нас, так что и купаться по-хорошему-то можно только в одном месте. Как из села выезжаешь к реке, на ней сразу видны перекаты – там брод. Через него дорога ведёт в Софьино, школа у них там есть захирелая. А левее, выше по течению, круглый глубокий омут. Только там и можно поплавать и понырять. Село у нас немалое, да только одни старики со старухами остались, но летом молодёжь, разбежавшаяся по городам, привозит нам внуков. Вот они в этом омуте и резвятся, плещутся с утра до вечера. Многие именно в нём и плавать выучились. Без взрослых. Сами друг друга наставляют. И Ванюшка тоже там первый раз поплыл на другой берег.
А дело было так. Как всегда, ребятня плавала в омуте наперегонки. Погода стояла лучше некуда. И вот откуда ни возьмись по реке волна пошла – высокая, мутная, грязная. Потом уже узнали, что запруду прорвало. Плотина небольшая у нас есть вверх по течению. Хорошо ещё, что река петляет в низине, как заяц, улепётывающий от собак. Излучины-то и погасили немного первую волну, но сила в ней осталась.
Мальчишки, что на травке загорали, орут, зовут всех наверх. Почти все успели, выскочили на правый берег, а Ванюшка замешкался. С испугу, что ли? Ну, волна приподняла его и понесла. Он барахтается, криком кричит, захлёбывается, но борется, не сдаётся. Детня рванула в село за взрослыми, но мы и так уже им навстречу несёмся: волну-то видать издалека. Первый дом к берегу – бабы Фени. Так её все зовут. Но Федосья она или Аграфена – не скажу. Бабушка она Ванюшке-то, к ней он и приехал. Крикнули ей, что, мол, Ванюшка твой тонет. Смотрим, выбегает она, лицо белее простыни, икона в руках. Потом рассказала: Троица на носу, вот она и протирала иконы чистой фланелевой тряпочкой. Как услышала, так и бросилась, забыв образ на место поставить.
В общем, скачем мы по берегу за Ванькой, как бы бег изображаем, а в воду броситься никто не решается: тут или такие же, как Ванюшка, дети, или старики, как мы с бабой Феней. Ей, к примеру, семьдесят три. Я на девять лет помоложе, но уже с палочкой ковыляю. У нас в селе Софрон трости вырезает из дуба или из ореха. С затейливым узором, добротные, не чета фабричным. Под ладонь подгоняет рукоять так, чтоб не тёрло, а то за день-то мозоли набьёшь. Ну, ковыляю кое-как позади всех со своим посохом, как я его называю. Кто-то кричит, что надо шест или багор подать ему, другой – длинную ветку, третий разводит руками: «Эх, щас бы спасательный круг!» А где их взять-то?! Моя клюка не помощь, слишком коротка. Тут волна ударилась грудью в перекаты и ещё выше подняла Ванюшку. А тот всё борется, хочет к заветному берегу выплыть, машет руками, а его затягивает назад в стремнину.
Кричать перестал. Видать, воды грязной наглотался.
И вдруг видим, как баба Феня проворно – и откуда столько силы взялось! – забежала вперёд да и бросила икону в воду перед внучком-то. Та плашмя легла на воду перед ним. Так листок осенний, если видели когда-нибудь, на волну опускается корабликом. Кричит бабка, задыхаясь: «Хватайся!» А за что там хвататься?! Маленькая иконка, такие раньше пядницами называли. Какая от неё помощь? И вдруг видим, как Ванюшка в один гребок подплыл к ней – она же словно сама ему в руки далась, – вцепился в неё обеими руками и легко поплыл наискосок к берегу, работая ногами. Все рты так и разинули.
Уж как его обнимали-целовали взрослые, уж как восторженно кричала ребятня, похлопывая его по плечам, по спине, уж как причитала баба Феня! А герой только растягивал губы в бессмысленной улыбке и часто кивал головой, словно с чем-то соглашался. Наконец догадались его укутать, поснимали с себя кто что мог, завернули и потащили мальца домой.
Но вот о чём хотел рассказать-то. Вышел, значит, Ванюшка на берег, баба Феня хочет у него икону взять, тянет на себя, а он не выпускает из рук. Она и по голове гладит его, и целует, прижимает к высохшей груди, а он как клещ вцепился в икону и не отдаёт. И бубнит, стуча зубами: «Она меня к берегу притянула». Так с иконой и несли его до самого дома. Ну, а там уж народные средства и всякие втирания-растирания его в чувство привели. Отпустил он святыньку, баба Феня вытерла образ чистым рушником, приложилась к нему лбом и губами, внука перекрестила иконой и поставила спасительницу на место в красный угол. Прошептала при этом: «Убил бы меня зять-то… Господи, прости мя грешную за такие слова и мысли!»
Святая Троица (Гостеприимство Авраама). XVII в. Мастер Никита Павловец (ГРМ, СПб.)
На следующий день Ванюшка как ни в чём не бывало на омут пошёл с друзьями, только не купаться, а загорать: уж больно грязная вода-то текла. Дня три, чай.
Конечно, в тот же день мы – к священнику. Так, мол, и так, батюшка: ребёнок тонул, а баба Феня икону в воду метнула, он ухватился и выплыл. Получается без сомнения, что икона спасла Ванюшку, хоть сама она меньше маленькой. А всё же выходит, будто баба Феня кощунство совершила: это ж надо додуматься – икону в воду швырнула!
Батюшка у нас рассудительный. «Она же не нарочно взяла с собой икону, – растолковал он, – что было в руках, с тем и побежала. Так уж Бог устроил. Раз все видели, не сомневайтесь. Господь наш спас раба Божия Иоанна. Только это вовсе не значит, что каждый раз, когда видите утопающего, надо ему икону бросать в воду. Радуйтесь, что стали свидетелями чуда, однако чудо неповторимо. Баба Феня показала свою веру. Да укрепит Господь и вас в вере, надежде и любви к святым образáм православным».
А тут и Троица подоспела. Поздняя она в том году была. Икону баба Феня принесла в церковь и завещала после своей кончины передать её нашему храму. А пока – после того спасительного случая – на каждый великий праздник батюшка торжественно переносит образ от бабы Фени в церковь на поклонение всему селу. Как говорится, слухом земля полнится, потому к нам и из соседних деревень теперь чаще приходят. К тому же храм-то один на всю округу.
А икона необычная, редкая – круглая она. «Пресвятая Троица с Авраамом и Саррой», или, как называл её покойный папаня, «Гостеприимство Авраамово».
Меж собой же мы нарекли её «Троицей-на-водах». Всем понравилось.
2020 год
Празднование в честь Пименовской,
Табынской и Курской-Коренной
икон Божией Матери
Иконный ответ
Началось, наверное, с того, что напротив нашего дома иеговисты открыли свой молитвенный дом. Да, пожалуй, что так. На дворе – середина девяностых. Разруха, бедность, неопределённость, беспросветность. А какой-то журналист (без чувства юмора, видать) назвал их светлыми или святыми даже. И стали эти самозваные проповедники по соседним домам шастать, пропаганду свою толкать, Библии дарить. У меня лично Библия есть, ещё бабушкина, дореволюционная, а они мне подарили новый перевод, их собственный, потому что наш вроде бы неправильный. Два-три раза помогали мне по мелочам и деньгами, и продуктами. Пенсия-то у меня с гулькин нос. Потом уж пожалел, что принимал от них то одно, то другое.
Православие сначала не критиковали, нет. Особенно они настаивали на том, что у вас, то есть у нас, у православных, нет любви в общине, в приходе, и всё звали на свои собрания, чтобы я увидел, какая у них любовь друг к другу. И второе: утверждали, что православные не любят Библию, почти не читают её и плохо знают. И начинали мне наизусть цитировать разные отрывки из неё и объяснять. Не зря они называли себя сначала «Исследователями Библии», а потом уже стали «Свидетелями Иеговы».
Я человек неверующий, но не безбожник, не воинствующий атеист. Бабушка и дед, и мать с отцом, и жена покойная верующими были. Что им и сказал.
А они: если ты неверующий, то зачем иконы? Я им: что ж теперь, выбросить дедовы иконы? Не мной поставлены, не мне и снимать.
И вот что меня тогда удивляло. Про них говорят, что они проповедуют, насильно хотят в секту затащить, а эти были другие: вежливые, образованные, улыбчивые. Так по памяти легко цитировали Библию. Они уйдут (это уж когда я стал их в квартиру пускать, а то мы перед нашим домом на лавочке встречались), а я сижу, проверяю их рассуждения по Библии, чтоб они меня на мякине не провели. А наших православных спроси чего-нибудь из Библии, вряд ли кто что-нибудь вразумительное ответит. Хотя точно не знаю, я никого ещё ни разу не проверял. Только так кажется почему-то.
Ну и стал я к ним понемногу привыкать. На собрания их стал ходить иногда. У них это называется «Вечеря воспоминания смерти Иисуса Христа». Но там я только сидел и слушал. Вопросов не задавал. Сначала шла проповедь на полчаса примерно, а потом разбирали Библию, учились толковать. У них есть такой журнал – «Сторожевая башня», и вот оттуда брали готовую статью с разбором каких-нибудь библейских стихов или целой главы, читали и обсуждали. Проповедовали они убедительно, надо сказать. Как ни пытался я к чему-нибудь мысленно придраться – не получалось. Цитатами так и сыплют, так и бросаются. Видел только, что обхаживают они меня. Но, повторюсь, очень мягко и вежливо. Не знаю уж, чем им помешали иконы, только в разговорах со мной они на образáх сосредоточились. О чём бы ни шла речь, а в конце опять беседу к иконам сводят.
Особенно одна старалась, Натальей звали. Симпатичная такая. Одинокая тоже. Со временем стала приходить ко мне домой запросто. Чаще-то они по двое или втроём ходят. А она одна. К примеру, открывает Библию и читает: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода…» И под нос суёт книгу: вот смотри, Исход, глава двадцатая, четвёртый стих. А у тебя, дескать, весь угол заставлен иконами, которые Библия называет кумирами и идолами и запрещает их изготовлять, молиться на них и поклоняться им.
Я ей в ответ: мол, не поклоняюсь я, только жалко выбрасывать. И мои предки что же – в вере ничего не понимали, что ли? Вопрос, конечно, для неё неудобный. Переведёт разговор на другое. А потом опять. Смотри, говорит, Господь наказывает за грехи отцов до третьего и даже четвёртого колена. И тебя может наказать. А уберёшь иконы – и как бы вину своих предков снимешь с них и себя заодно оправдаешь. Подумай своей головой! Это тогда она первый раз прямо сказала, чтобы убрать иконы. Я: мол, куда убрать-то, а она: дескать, подумаем. И опять за своё.
Это я тебе показала в Ветхом Завете, а теперь, говорит, давай заглянем в Новый. Вот что пишет апостол Иоанн Богослов: «Бога не видел никто никогда…» И тычет пальцем в восемнадцатый стих. Как же можно Его изобразить, ведь если мы Его изобразим, то разрушим саму идею Бога. Какой же это Бог, если Его можно видеть и на простой доске красками нарисовать?! Подумай своей бестолковкой. Поэтому Ветхий Завет и запретил Его писать красками или делать изваяния. Причём Бог ненавидит такие изображения. И опять пальцем тычет в Библию. А я тогда уже их не перепроверял. Доверился, что они всё наизусть знают. Эта Наталья нарезала мне бумажных закладок и вложила в мою Библию, в те места, на которые мне надо обратить внимание. И всё про идолов и идолопоклонство. Однако «бестолковка» меня задела. Обиделся я немножко. Но это к делу не относится.
В общем, скоро стал я ходить на все их собрания-вечери. Но до вкушения мацы и красного вина меня не допускали. С Натальей скоро стали мы друг на друга поглядывать с интересом. А она опять: дескать, кумиров твоих и идолов надо убрать. Я: мол, как их убрать-то? Может, в музей сдать? А она – ни в коем случае. Идол и в музее останется идолом. Если хочешь сделать решительный шаг, раз и навсегда покончить со своей кумирней, выбрось, мол, в мусорный бак. Утром их машина на свалку увезёт. И приходи завтра на собрание чистеньким. Сам увидишь: у тебя гора с плеч свалится.
И что вы думаете?! Поддался я, дурак доверчивый. Как так получилось, теперь и сам не соображу. Хоть бы пьяный, а то ведь трезвый был. Какое-то затмение нашло на меня. Может, и впрямь у меня не голова, а бестолковка. Да и Наталья очень уж обаяла меня. В общем, вечером собрал я иконы в мешок и выбросил в мусорный бак. Только одну оставил в серванте, прикрыв хрусталём. Тут же чуть не бегом рванул через площадь в молитвенный дом, они называют его «Залом Царства». Наталья, узнав, расцеловала меня и объявила во всеуслышание, что я избавился от идолов. Все подходили, обнимали, целовали двукратно.
На собрании я ничего не слышал, ни проповеди, ни толкований. Одни иконы в голове были. Представлял этот зелёный вонючий бак, пыльный мешок из-под картошки, иконы, которые с детства стояли у меня перед глазами. В дом иеговистский чуть не вприпрыжку бежал, а обратно еле ноги волочил. Такая непомерная тяжесть на меня навалилась. Наталья сказала: мол, гора с плеч свалится, а тут всё наоборот: гора-то возьми да и взгромоздись мне на плечи. Перед домом заглянул в бак, а мешка-то моего и нету. Посмотрел мимоходом на свои окна, а там такой слабый свет колышется, словно кто-то с фонариком осторожно ходит по квартире. Воры? Я бегом по лестнице на свой третий этаж, отпираю дверь ключом, бросаюсь в комнату, зажигаю свет… А у меня – вы не поверите! – в красном углу все иконы стоят целёхоньки. И в том порядке, как и раньше.
Как?! Ключ запасной хранится у соседей, но они куда-то уехали. Так что никто не мог открыть квартиру и поставить иконы на место. Да никто бы и не решился на такое. Скорее, себе бы взяли. Теперь все знают, какая в них ценность-то.
Да вот и я узнал! Ценность-то не денежная. Вразумил меня Господь.
Постоял я, постоял перед образами-то, да и рухнул на колени. Бабка моя так падала перед молитвой. С детства помню. Не плакал я, не молился (я и молиться-то не умею), просто стоял с повинной головой, пока коленки не заломило. И такое чувство меня потихоньку заполняло, словно я с чужбины далёкой возвращаюсь на родину, на свою малую родину. Или на большую?
Наталья приходила. Я ей всё честь по чести рассказал. Не поверила. Хлопнула дверью и по лестнице каблучками пулемётную очередь на прощанье отстучала. Может, и к лучшему.
К этим новым моим друзьям я больше ни ногой. А улыбки у них какие-то заученные, фальшивые. Как у голливудских актёров.
В богословских тонкостях мне, конечно, не разобраться. На все умные выкладки и цитаты иеговистов про кумиров и идолов сами дедовы иконы дали ответ.
Реально, практически, по существу. И им, и мне.
Вы второй человек, которому я поведал свою историю. Остался у меня дальний родственничек, так себе – седьмая вода на киселе. Рассказал я ему этот случай, а он и говорит: дескать, расследовать надо это дело, найти естественное объяснение. Чудак! Кстати, «чудак» и «чудо» – однокоренные слова-то, интересно! В общем, не нужны мне никакие следователи и следственные органы с их действиями, сказал я ему. Встану перед иконами, прошепчу благодарно: «Вернулись, родные мои…», смахну слезу, и довольно с меня.
Конец мая 2020 года
Третья рука
Монастырь притулился под горой. Братский корпус так совсем прилепился к её склону. Мы полюбили паломничать туда. Дорога огибала обитель и уводила путников в Румынию, тоже православную, а древний монастырский византийского типа храм призывал остановится здесь, в Сербии, войти в ограду, помолиться. И после службы церковь не отпускала: хотелось сидеть в стасидии[4], вдыхать запах ладана, которым за несколько сот лет пропитались стены, хоругви, иконы, фрески, и молиться здесь до самого Второго пришествия. Вот счастье! Встретить Спасителя в монастыре, в этом святом прообразе Небесного Иерусалима. И сразу из храма на Страшный Суд.
И ещё мы сердечно полюбили матушку – настоятельницу обители Параскеву. Маленького роста, вся закутанная в мантию. Весёлые глаза выплёскивали на нас внутреннюю радость, а лёгкая застенчивая улыбка лишь иногда трогала губы, не обнажая зубов. Она словно стеснялась этой своей небесной улыбчивости и потому то и дело отворачивалась в сторону. Чтоб мы не ослепли от её сияющих глаз, решили мы с женой.
Принимала нас матушка с таким радушием, будто мы были самыми почётными гостями. Сёстры варили кофе, иногда она вставала к плите сама. И далее как обычно в Сербии: горяченный кофе по-турецки, ледяная вода из источника и лукум. Всё это в обязательном порядке паломник получает в каждом сербском монастыре. Кстати, греки называют сваренный в турке кофе греческим. Как-то раз сестра Павла поинтересовалась: а какой, мол, кофе вкуснее – венгерский или сербский? Я без раздумий ответил: так ведь и тот и другой – бразильские. Тогда я первый и единственный раз увидел, какие весёлые белые зубы у сестёр.
В общем, матушку мы любили, да и сёстры были ей под стать: так же открыты для принятия радости, которую никто не отнимет, и в меру разговорчивые. Но только за кофе. Обед же, как и во всех монастырях, проходил под чтение житий и тихий разнобойный стук ложек и вилок. Сказал – и вспомнил, что вилок на столе не было, и первое, и второе мы ели ложками.
Покорила нас обитель и своей историей. Оказалось, что существует три сказания о монастыре. Первое гласит, что основан он учениками равноапостольных Кирилла и Мефодия в XI веке. Древнейший монастырь! Другое связывает его строительство с великим святителем Саввой Сербским[5]: по его благословению начало монастырю положил хиландарский монах Арсений в начале XIII столетия, то есть на двести лет позже[6]. А третье сказание относит учреждение обители ко времени деспота Йована Бранковича, то есть к концу XV века. Но, как бы то ни было, монастырь древний, а то, что сказания о его основании столь разнятся меж собой, лишь укрепляло нашу любовь к нему. Какой ещё монастырь может поведать паломникам такие предания!
Женским монастырь стал лишь в середине XX века. И это так хорошо! Ведь если б он остался мужским, мы бы не познакомились с матушкой Параскевой. И имя у неё чудесное. «Параскева» – значит «приготовление», «подготовка к субботе», то есть «пятница». Болгары, русские, сербы святую великомученицу называют двойным именем – Параскева Пятница. Эта святая была настолько любима в России, что придорожные часовни в народе называли «пятницами», ибо в каждой из них стояла её икона. И образ Николая Угодника, конечно.
В тот раз мы собрались в монастырь на неделю. За несколько лет до этой памятной поездки я по случаю купил в антикварной лавке на окраине города медную икону великомученицы Параскевы Пятницы. Тогда я ещё не знал о существовании ни обители, ни её настоятельницы. И вот перед самым отъездом в монастырь жена предложила:
– Давай подарим матушке твою медную иконочку святой Параскевы.
Я испытал лёгкий шок. Не скажу, что у меня большое собрание медных икон, я их покупал по случаю, чтобы просто спасти от нечистых рук «коллекционеров» и спекулянтов. Так накопилось полтора десятка образóв. Все они стоят в красном молитвенном углу. Я даже познакомился с собирателями медных икон, чтобы хоть немного освоить датировку. Моя Параскева, согласно мнению ценителей, оказалась древней. И вдруг: здравствуйте, пожалуйста. Отдай одну из моих лучших икон! И только потому, что игумению зовут Параскева. А у меня есть и святитель Николай, и страстотерпцы Борис и Глеб, и преподобный Нил Столобенский, и Феодор Тирон с Феодором Стратилатом, и… Да мало ли кто из святых у меня есть! Так можно ради совпадения имён все иконы раздарить… В общем, пожалел я, пожадничал.
Святая великомученица Параскева Пятница. Икона. Ок. 1800 г.
На границе с Сербией очередь оказалась непривычно длинная, к тому же в пять-шесть рядов. Было понятно, что придётся простоять несколько часов. Как правило, мотор на границе не выключаешь, очередь движется быстро. А тут застопорилась. Турки на шикарных немецких машинах ехали с многочисленными семействами из Германии к себе домой в отпуск, а их на предмет контрабанды проверяли заметно строже. Все заглушили моторы и, когда надо было подвинуть машину, просто толкали её руками. Иначе задохнёшься в выхлопных газах.
Меня начала мучить совесть. Что же я пожалел иконку-то? Приходила и другая мысль: иконочка очень дорога мне, хорошо помню, как купил её в лавке возле выставки, молюсь перед ней иногда. Пытался себя успокоить. Совесть на такие уловки не поддалась. Жена глядит в глаза, дети смотрят прямо в душу. О чём думают? Понимают ли они, что творится со мной? Но какой толк мучиться?! Сделанного не исправишь. Как слово: вылетит – не поймаешь. Воображение рисует картину: мы приезжаем в монастырь, я дарю икону семнадцатого, возможно, даже конца шестнадцатого века, матушка ахает, прижимает иконочку к сердцу, и слёзы выступают у неё на глазах…
И тут слышу, как меня окликают. Смотрю, через клумбу – Предраг Миодраг, мой бывший преподаватель сербского языка. Я стою в густом медленном потоке, а он в быстром встречном. Я в Сербию, он из Сербии. Давно не виделись. Проехав вперёд, он припарковался и подошёл к нам поделиться новостями. И тут меня осенило.
– Предраг, одолжи мне свою машину. Если у тебя есть время, конечно. Я кое-что забыл дома, а мою, как видишь, турки в плен взяли, из очереди уже не выбраться. До дома мне минут пятнадцать езды. Столько же обратно. А ты пока поможешь жене толкать моё застрявшее «средство продвижения».
В доме у нас есть лифт, но я взлетел на свой седьмой этаж пешком, точнее, бегом, скачками, завернул иконку в одну из бесчисленных косынок жены (пригодится в монастыре ещё один платочек) и во весь дух полетел обратно. В общей сложности мы простояли тогда на границе больше четырёх часов, но мне было легко и весело. Даже турки стали вызывать симпатию. К тому же кофе они умеют варить не хуже греков и сербов.
Перед Нови-Садом я расслабился. Всё в порядке. Впереди справа синеет Фрушка гора с её шестнадцатью монастырями. Сербским Афоном именуют её наши братья. Погода радует. Природа чувствует медленно подкрадывающееся увядание, но ещё бодрится, не поддаётся. Осень на носу, но каждый год этот нос разный, бывает длинный-предлинный. Август обещает ещё и бабье лето в сентябре, вливает в глаза Божию милость к нам, грешным. Ночью прошёл дождь, на дороге небольшие лужицы. Свежий воздух шумно врывается в открытое окно. Движение оживлённое (будни, вторая половина дня), турки после границы густо и лихо спешат домой, но мы скоро свернём влево, и на дороге станет свободней. К вечеру будем в обители. Храм нас заждался. Спаси Бог Предрага! Матушка просияет от такого дорогого подарка. Жена с довольным видом и загадочно посматривает на меня. У меня же левая рука на руле, правая на колене – пусть отдыхает.
И вдруг впереди грохот, пыль столбом, слева что-то похожее на взрыв, и там же полыхнул огонь: раз за разом машины со всего маху врезаются друг в друга, точнее, подъезжающие машины бьют в задний бампер, в багажник уже остановившихся, а те словно вздрагивают от неожиданности и пытаются взобраться передними колёсами на уже разбитые кузова. Принцип домино. Не держал расстояние, или зазевался, или превысил скорость – не успел затормозить. Фары разбиты вдребезги, бампер отвалился, радиатор осел и потёк. Это я по своему прежнему опыту говорю.
Но сейчас перед нами какое-то вавилонское столпотворение. Взвизгивают тормоза, глухие удары следуют один за другим. Вдруг задний бампер «тойоты», уткнувшейся носом в самосвал, начинает стремительно надвигаться на нас. Я цепенею. Но тут боковым зрением замечаю, как справа появляется тонкая рука, берётся за руль и умело ведёт мою красную «Ладу-Самару», легко лавируя между помятыми и горящими джипами, фурами, цементовозами. Затаив дыхание, стараюсь не мешать этой третьей руке, выводящей нас из огня, дыма, грохота и криков раненых.
Дед учил, и я всегда думал, готовил себя: в случае опасности надо успеть прочитать Иисусову молитву или хотя бы «Господи помилуй!» возопить. И вот смерть заглянула в глаза, и страх изгнал из головы, из души все мысли и чувства, даже простое «Иисусе!» не вспомнил. Вот тебе и верующий!
Никогда не забыть мне, как третья рука вдруг появилась справа, взялась за руль и, как в замедленной съёмке, среди пыли, дыма, огня, среди осколков стекла, пластмассы и металла уверенно вывела машину из этого ада. А за спиной и впереди слева мы слышали всё новые тяжёлые удары железа в железо.
Да, что ни говори, а время в нашей власти. Точнее, может быть, во власти святых. Перед смертью наш Ангел Хранитель или святой покровитель обнажают и являют в ретроспективе всю жизнь нашу за краткую минуту, даже, говорят, за секунду. И наоборот: в случае опасности, когда мы от страха зажмуриваемся, они замедляют время, растягивают его, как во сне, и дают нам возможность прийти в себя, избежать напрасной смерти.
И ещё раз скажу: никогда не позабыть эту руку – лёгкую, светлую, словно ангельскую и вместе с тем крепкую, надёжную. С чуть заметными голубыми пульсирующими прожилками и миндалевидными, коротко подстриженными ногтями. «Вот как надо водить машину-то!» – укорил я себя. Мои же руки были парализованы, даже пошевелить ими не мог. Чтоб не мешали?
Когда мы вырвались из этого пекла, жена, обняв троих наших малышей и заплакав, выдохнула:
– Господи, почему именно нас? – Перекрестилась, перекрестила чад наших.
«Потому что в монастырь едем, а не абы куда», – мысленно ответил я. И всё раздумывал, чью руку я ясно видел на баранке: Ангела Хранителя или… Вспомнил житие великомученицы. После всех страшных мучений наутро Параскеву Пятницу привели в капище, решив, что она наконец согласилась принести жертву языческим богам. Но святая помолилась Спасителю, прикоснулась к одному из идолов, и все они попадали на пол, рассыпавшись в пыль и прах. Не та ли самая рука спасла нас? Кстати, рука-то была левая. Не левой ли святая прикоснулась к нечистому идолу?
Затормозил я уже сам. Оставили детей в машине – не для их неокрепших душ такое зрелище – и, захватив аптечку, помчались помогать раненым. Скоро, нагнетая страх сиренами, подлетели машины «скорой помощи», пожарные, полиция, и мы отправились дальше.
Перед глазами почему-то стоял образ Божией Матери Троеручицы.
А напрасная в переводе с церковнославянского значит «неожиданная» – смерть без исповеди, без причастия.
В монастыре нас ждали. Ждали-пожидали и кофе по-гречески, и холодная вода из святого источника, и сладчайший рахат-лукум. Матушка со стеснительной улыбкой рассматривала медную иконочку. Шептала ласково, словно не веря себе: «Параскева!» На глазах у неё выступили слёзы точно так, как виделось мне в воображении. А когда она прижала святыню к сердцу и широкий рукав рясы сполз чуть не до локтя, у меня мурашки побежали по телу. Это была та самая рука, которая управляла сегодня моей машиной…
2020 год, Вербное воскресенье
Боголюбская
Осколок, попова дочка и день полноты духовной
С батюшкой мы познакомились в библиотеке. Зашёл я туда ради интернета, собирал на его просторах какой-то материал. Меня предупредили, что в три часа читальный зал закроют: по четвергам отец Нил проводит там занятия с желающими. Оказалось, что среди «желающих» были и старики, и молодёжь, и школьники. Привели группу из детского интерната для слаборазвитых детей. Тут же решил остаться и посмотреть. Лично я перед такой аудиторией спасовал бы – слишком уж она разношёрстная.
Тогда меня удивило умение батюшки найти общий язык со всеми. Казалось, всем одинаково интересно. В том числе и мне. Я так не умею. Он говорил о том, как надо читать Евангелие. После занятия, или «встречи», как её называли в библиотеке, мы познакомились, разговорились, и батюшка пригласил меня в ближайшее воскресенье в свой сельский храм на службу.
Литургия закончилась поздно, потом молебен, разговор с прихожанами, какие-то неотложные мелочи-дела. Наконец подозвал меня и увёл в дом.
Мы сидим в большой трапезной. Пообедали и теперь чаи гоняем. А я не могу оторвать глаз от иконы в углу. Старинная. Без оклада. Святитель Николай Угодник. Высокий лоб с двумя высветленными выпуклостями, округлая борода, добрые, всё видящие глаза, Евангелие в левой руке. И в свете зелёной лампадки, когда меняется угол зрения, что-то поблёскивает иногда на образе святого, возле благословляющей руки на раскрытом Евангелии. Икона большая, сантиметров, пожалуй, шестьдесят – шестьдесят пять по высоте. Там, в красном углу, ничего больше и не поместилось. Матушка заметила мой интерес к образу.
– Это икона моей бабушки, – ответила она на мой немой вопрос, – а ей подарила на венчание её бабушка, значит, моя прапрабабушка.
– А там что-то блестит или мне только кажется?
– Блестит, блестит. Не кажется. Это осколок снаряда или бомбы засел в иконе. Бабушка завещала не вынимать, оставить.
Прихожане в храме любят супругу батюшки, называют её то матушка Мила, то матушка Люда. Их исправляют: правильно – матушка Людмила.
– Матушка Людмила, расскажите про осколок. Если можно, конечно. У меня не пустой интерес…
– Она расскажет. – Батюшка скрыл улыбку в ладони. – Эту историю она десятки раз пересказывала, наизусть выучила.
Матушка поправила головной платок и начала рассказ.
– Это в начале войны случилось. Бабушка говорила, что их город эвакуировали. Эшелон стоит на вокзале. Крики, стоны. К поезду несколько вагонов с ранеными прицепили. Кому в какой вагон – никто не знает. Комиссар бегает, размахивает пистолетом. Орёт: «Только самое необходимое!» Вагоны товарные, набиты битком. А тут бабушка пытается залезть с мешком, её подсаживают, она падает. Из мешка высовывается икона. Комиссар к ней: «Что у тебя там?» Она: «Икона Чудотворца». Он: «Какая может быть икона?! Сказано – самое необходимое!» Она: «У меня только самое необходимое – бельишко, хлеб, пара луковиц и вот икона». Он: «Выбрось немедленно». Она: «Как я выброшу, немцу на поругание, что я, нехристь, что ли?!» Он: «А ну выбрасывай!» И наводит на бабушку пистолет. Как бы целится. Кругом плач, крики, дети рёвом ревут, раненые стонут, эшелон пора отправлять, снаряды вражеские рвутся, паровозный свисток уши рвёт, а он в икону упёрся рогом. Навёл, значит, пистолет на бабушку и орёт, перекрикивая всех.
А тут ка-а-ак жахнет! То ли снаряд, то ли бомба с самолёта, не знаю. Бабушка присела и инстинктивно закрылась мешком. Встала, в ушах звон, в глазах всё плывёт, тошнит, а народ молчит вокруг комиссара – мёртвый лежит. С открытым ртом. Чуть не на куски разорвало. Побежали за начальником вокзала. В общем, назначили другого командира эшелона, и бабушка уехала в Вятку. В вагоне она заглянула в мешок, ведь удар-то в икону она слышала, когда присела. Смотрит, а в Евангелии, что у Николы в руках, осколочек торчит.
Так она поняла, кто её спас. И какая икона досталась ей от бабушки.
Отец Нил одобрительно кивает, крестится на икону. Обращается к жене:
– Теперь уж и вторую историю расскажи, а то неполнота какая-то осталась.
Матушка с довольным видом выливает остатки чая из моей чашки, доливает кипятку в заварничек и, примостившись на краю скамейки, продолжает рассказ.
– Не такого мужа хотели мы для дочери, – начала она, – чего греха таить! Неверующий он был. А она: люблю, мол, и такого, и только его. И точка. И под нос нам суёт апостола Павла. Дескать, муж неверующий освящается женою верующей. Будто мы этого не знаем и никогда не читали.
Но крещёный он. Нам сказал, что, мол, в бессознательном детстве бабка крестила, а потому крещение такое недействительно.
И как отрезал: всё, говорить на эту тему нечего.
Ну да ладно. Смирились мы: живут они вроде дружно, троих детей родили. Любит он её. Да и как такую не любить-то! Он автослесарем работает в городе в частной мастерской. Свою хочет открыть. Каждый день туда на машине гоняет. Грех жаловаться. Но вот в церковь – ни ногой. А моего батюшку за глаза называл «поп – толоконный лоб», но без злобы, а собственную жену «поповой дочкой». Правда, ласково, с любовью и не при чужих.
Видно, на всю глубину вбили в него, как кол, безбожие-то. А ведь эти воспитатели и учителя ответят за содеянное. Неужели им не страшно? Какое безбожие расплодили! А вот помрут, предстанут пред Спасителем, и что тогда? Ох, страшно и подумать.
Мы живём здесь при храме, а дочь с мужем новый дом поставили напротив. Нам хорошо. Внуки то и дело прибегают.
Село большое, но почти все в город ездят на работу.
– Ты ближе к делу, матушка. А то до темноты закончить не успеешь. – Отец Нил мягко улыбнулся и опять перекрестился на икону.
Матушка не забыла всем подлить чаю и продолжила:
– Однажды мы с отцом, когда выдалась неделька перед Филипповым постом, на которой служб больших не было, поехали к моей покойной бабушке, от которой я образ-то получила, на могилку. В тот город, из которого её эвакуировали. Вернулась она туда после войны, там и преставилась. А икону, как видите, сберегла. Говорила, в Вятке ей большие по тем временам деньги предлагали за образ-то. Сказывала, даже из тамошнего музея к ней приходили.
Ноябрь стоял холодный и дождливый. И попросили мы дочку с зятем печку хотя бы через день топить, чтобы не выстыла изба-то. И вот, дочь рассказывает. Пришла она из магазина, бросила авоську и к нам. А у нас уже зять толчётся. Она к печке, а та уже полна дров. И керосином почему-то попахивает. Ну, сказала она спасибо муженьку за заботу. Обычно она сама и за дровами ходила, и топила. Взяла, значит, газету и поджечь хотела поленья-то. А огонь не разгорается.
Попросила принести берёсту, лучину. Но и от берёсты дрова не занимаются. Гаснут, и всё тут. А муж вокруг печки суетится беспокойно, дёргается как-то, нервничает. Это она уж потом, задним числом, сообразила. Ну, стала она поленья вынимать. Думала, эти сырые, надо на сухие заменить. Одно полено, другое, третье… А там наша родовая икона Николы Угодника. Муж – на колени перед печкой, перед иконой, перед женой. Всё рассказал.
Хотел он воспользоваться нашим отъездом, да и жены нет дома. Вот и задумал он сжечь святой образ с осколком. Как бы он нам потом объяснил пропажу иконы, не знаю. Может, он и сам об этом не думал. Бесы скрутили его. Как по-другому объяснишь?! В общем, заложил икону дровами и попытался растопить: и газеты под дрова подкладывал, и берёсту, и лучин наколол, и керосину плеснул в конце, а дрова не занимаются, и всё тут. От керосина ещё хуже стало: он словно в воду превратился.
Ведь, казалось бы, ясно: вынь икону, поставь на место, тогда и топи. Но нет! Так его нечистый опутал со всех сторон, что он решил жену подождать и её руками сжечь образ. Вот ведь какое помрачение ума нашло на мозг. Дальше вы слышали. Только когда увидел, что у жены тоже не загорается, только тогда и пришёл в себя. И у жены прощения просил, и у нас, когда вернулись. Вот такая это икона. Два таких чуда: и бабушку Никола Угодник защитил Евангелием, и зятя нашего наставил на путь истинный. Мы меж собой называем образ Никола Железный. Понятно почему. А сколько ещё чудес было от этой иконы, мы просто не знаем, потому что не заметили их или за чудо не посчитали.
