История Украины бесплатное чтение
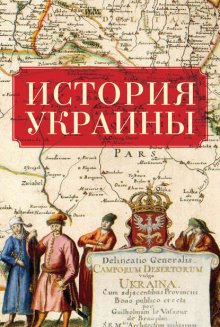
© Коллектив авторов, 2015
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015
Введение
В настоящей книге представлена история украинских земель с древности до современности. Авторы книги входят в состав российской части Совместной российско-украинской комиссии историков. Каждый из них является специалистом в своей области украинистики, в отдельном её хронологическом периоде, история которого им и написана. В совокупности представленная на суд читателя «История Украины» является выражением одной из различных имеющихся в историографии концепций. От появляющихся в последнее время попыток «новаторского» толкования истории украинского народа и украинских земель авторов данного произведения отличает, прежде всего, приверженность к академическому подходу в исследованиях. Академический стиль подразумевает внимательное отношение к фактам, мнениям коллег, знание современной историографии вопроса, а также отказ от политизации и политиканства. История украинских земель всегда была тесно связана с историей соседей – России, Польши, Турции и тех стран, которые в разные исторические периоды существовали на их территории. В различные периоды украинские земли входили в Киевскую Русь, в Великое княжество Литовское, в Речь Посполитую, в Российскую империю, в Австро-Венгерскую империю, в Советский Союз и т. д. Борьба за украинскую идентичность была драматичной и непростой.
Эта книга не является выражением какой-то официальной позиции, а приглашением группы авторов к диалогу по весьма актуальной и непростой исторической проблеме.
Мы полагаем, что знание прошлого, достижений и ошибок наших предков крайне важно для нашего будущего.
Сопредседатель совместной российско-украинской комиссии историковАкадемик РАНА. О. Чубарьян
Часть 1. И. Н. Данилевский. Предыстория Украины
Наш разговор придется начать с нескольких общих положений, без которых дальнейшее изложение будет не вполне понятно.
Во-первых, ни одно из ныне существующих государств не является прямым наследником тех государственных (иди догосударственных) объединений, которые существовали в далеком прошлом.
Во-вторых, большинство из ныне существующих этносов не имеет единого племени-прародителя, народа-предка. Все современные народы возникли в результате сложного взаимодействия носителей различных антропологических черт, языков и культур.
В-третьих, ни одна из ныне существующих культур не имеет единого истока. Все они – результат взаимодействия и видоизменения нескольких культурных традиций.
Наконец, в-четвертых, формирование народов, которые ныне населяют территорию Восточной Европы, началось сравнительно поздно: не ранее конца XV в. До этого представлений о собственно этническом единстве у их предков не существовало.
Все это касается как современных Республики Украины, украинцев и украинской культуры, так и Российской Федерации, русских и русской культуры – или любого другого государства, народа, культуры.
Тем не менее, наши народы считают себя, так сказать, правопреемниками определенных этнических, государственных и культурных сообществ, существовавших в прошлом (хотя в большинстве случаев это мифические представления, которые лишь отчасти соответствуют действительности). При этом начало нашей истории было общим: до определенного момента наши предки не подозревали, что от того, на какой территории они обосновались, будет зависеть национальность их потомков. Попробуем разобраться в том, какие именно этносы, культурные традиции и государственные образования дали жизнь современным украинскому народу, украинской культуре и государству Украине.
Чтобы не пересказывать в очередной раз хорошо известные факты, изложенные, кажется, во всех более или менее популярных очерках истории Украины, постараемся выяснить, что лежит в основе этих представлений, откуда известно о том, «как это было на самом деле», – и было ли «это» именно так. При этом остановимся только на ключевых событиях и явлениях, предваряющих собственную историю Украины, которая начнется гораздо позже: в XV–XVI вв.
Русь легендарная
Традиционно – к чему имеются все основания – считается, что общим предком украинского, русского и белорусского народов являются восточные славяне, создавшими первое государство, которое условно принято называть Древнерусским (Киевской или Древней Русью). Именно это объединение стало общим «предком» последующих государственных образований, продолживших те или иные традиции Древнерусского государства.
Не останавливаясь на весьма спорной проблеме происхождения и первоначального расселения славянских племен[1], обратимся к тому времени, память о котором сохранилась в письменных источниках.
Первым и самым важным из них является «Повесть временных лет», которая охватывает период с древнейших времен до второго десятилетия XII в. Она сохранилась в составе позднейших летописей XIV–XVI вв. Еще в 30-х годах XIX в. стало ясно, что сама «Повесть» является продолжением более ранних летописных произведений. Анализ текста Повести показал, что в ее основе лежат более ранние летописи: так называемые «Начальный свод» (1096–1099), «Свод Никона» (1073) и, наконец, предшествовавший им «Древнейший свод» (1037–1039), или появившееся тогда же некое сюжетное повествование о начальной истории («Повесть о начале Русской земли», или «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси», или какое-то другое сказание). Важно отметить, что до «Свода Никона» текст летописи не был разбит на годовые статьи. Даты ранних событий были проставлены «задним числом» только в 70-х гг. XI в. Основания, на которых была проделана эта работа, нам не известны (как, впрочем, точно не известны и системы счета времени, которыми пользовались первые летописцы). Другими словами, большинство дат древнерусской истории носит условный характер и без специальной проверки (если это вообще возможно) приниматься не могут.
Очевидно также, что самые ранние летописные записи могли опираться только на какие-то устные предания, которые впоследствии были переработаны древнерусскими летописцами в своих целях. Правда, неоднократно высказывались догадки и о том, что до 30-х гг. XI в. могли вестись какие-то спорадические записи (например, на полях пасхальных таблиц). Однако никаких источников, которые бы подкрепили эти предположения, пока найти не удалось. Так что, самый ранний период древнерусской истории носит явно легендарный характер. К числу таких легенд относятся, очевидно, и предания о происхождении и расселении восточных славян.
Итак, что же знает автор «Повести» о восточнославянских «племенах» и их ранней истории?
Представления летописца о восточнославянских племенах
После рассказа о разделении после Потопа земли между сыновьями Ноя и расселении славян летописец сообщает: «… словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася дреговичи; инии седоша на Двине и нарекошася полочане, речьки ради, яже втечеть в Двину, имянемъ Полота, от сея прозвашася полочане. Словене же седоша около езера Илмеря, и прозвашася своимъ имянемъ, и сделаша градъ и нарекоша и Новъгородъ. А друзии седоша по Десне, и по Семи, по Суле, и нарекошася северъ».
Традиционно это сообщение рассматривается как точное указание на то, где обосновались те или иные «племена» восточных славян. Так, в фундаментальном труде украинских историков «История Украины», в полном соответствии с летописным текстом, указывается: «Племя полян заселяло Киевщину и Каневщину на Днепровском Правобережье, древлян – Восточную Волынь, северян – Днепровское Левобережье. Кроме них на территории современной Украины проживали уличи (южное Поднепровье и Побужье), хорваты (Прикарпатье и Закарпатье), а также волыняне или, как их еще называли, бужане (Западная Волынь)». Другими словами, автор приведенного текста полагает, что непосредственными предками будущих украинцев были представители летописных полян, древлян, северян, уличей, хорватов и волынян (бужан).
Гораздо осторожнее подходит к использованию летописного сообщения П. П. Толочко. Он совершенно справедливо отмечает: «Если бы мы попытались представить этническую картину восточного славянства накануне образования в них государства как сформированную основу трех нынешних народов – украинского, русского и белорусского (как это имеет место в некоторых новейших работах, преимущественно украинских авторов), ничего реалистического мы бы не получили. На территории, где сформировался украинский народ, в VII–IX вв. было фактически три группы племен, разных по своим субстратным этническим компонентам, и какую из них следует считать праукраинской, сказать сложно. К тому же, ни одно летописное «племя» не вписывается в более позднюю этнотерриториальную структуру». При этом специально подчеркивается, что перечисленные «племена» занимали территорию не только современной Украины, но также России (северяне, кривичи) и Беларуси (дреговичи, древляне, волыняне и кривичи), Польши, Словакии и Венгрии (хорваты). Причем, судя по антропологическим и археологическим материалам, «кроме восточных славян, участниками этногенетических процессов здесь были ирано – и тюркоязычные племена в южном и юго-западном регионах, западные славяне, балты и финны – в западном и северо-западном».
Представляется весьма опасным доверяться уникальному известию. К тому же, по мнению А. А. Шахматова, оно появилось только собственно в «Повести временных лет», но отсутствовало как в Древнейшем, так и в Начальном сводах. Очевидно, что записано это предание было после нескольких столетий устного бытования. Сведения об этих «племенах» вообще прерываются на событиях, происшедших задолго до того, как они попали в летопись. Так, последнее упоминание полян датировано 6452 (944) годом, древлян – 6485 (979), северян – 6532 (1024), уличей – 6393 (885), хорватов – 6500 (992) годом, а волыняне (бужане) вообще отсутствуют в датированной части «Повести временных лет»; т. е. все сообщения об этих «племенах» носят легендарный характер. Насколько точна информация об их локализации на карте Восточной Европы, сказать трудно (если вообще возможно).
Столь же сомнителен и рассказ об обычаях этих «племен». Здесь внимание летописца сконцентрировано на противопоставлении не столько полян и их соседей (как обычно отмечается комментаторами), сколько языческих («поганых») традиций восточных славян (имеющих «обычаи свои, и закон отец своих»), с одной стороны, и веры в Христа, христианских норм, – с другой. Отсюда, видимо, здесь такое обилие рассказов о тех, кто «имяху бо обычаи свои, и закон отец своих и преданья, кождо свои нравъ», «своих отець обычаи имуть кротокъ и тихъ», «закон имуть отець своих обычаи», «закон же… от прадед показаньемъ и благочестьемъ», «безаконьная яко законъ отець творять независтьно ни въздержаньно», «якоже се и при нас ныне… закон держать отець своих». Им противопоставляются «хрестияне, елико земль, иже верують въ святую Троицю, и въ едино крещенье, в едину веру» «мы», которые «законъ имамъ единъ, елико во Христа крестихомся и во Христа облекохомся».
Трудно сказать, насколько точен летописец в описании языческих обычаев восточных славян и их соседей. Тем более что в предшествующем «Повести» «Начальном своде», как считал А. А. Шахматов, дело вообще ограничивалось лаконичным упоминанием, будто поляне «бяху… по гани, «жьруще озеромъ и кладяземъ и рощениемъ», якоже прочии погани», то есть вообще никакие обычаи не описывались.
Так что, летописные свидетельства о расселении и обычаях племен, живших на территории современной Украины, крайне приблизительны. Единственным надежным источником по этим вопросам являются археологические материалы. К собственно восточнославянским относят находки, связанные в V–VII вв. с так называемыми корчакской (Житомирская область) и пеньковской (лесостепная зона от Северского Донца до Правобережья Днестра, включая Среднее Поднепровье, бассейн Южного Буга и Среднее Поднестровье) археологическими культурами, а в более поздний период (VIII–IX вв.) – с лука-райковецкой (Среднее Поднепровье, Правобережье Днепра; традиционно идентифицируется с культурой предков волынян, дреговичей, древлян и полян) и волынцевско-роменской (Днепровское Левобережье; обычно связывается с северянами) археологическими культурами.
Первые исторические предания
Не менее легендарный характер носят и первые рассказы о событиях, связанных с ранней историей народов Восточной Европы. Судя по всему, все эти рассказы попали в летопись не просто потому, что помнили только эти предания. Они, видимо, так или иначе соответствовали основной цели, которую преследовали древнерусские летописцы, – отвечали на вопрос: «како избьра Богъ страну нашю на последьнее время», к которому примыкала тема «о статии Кыева, како въименовася Кыевъ». При этом, естественно, не приходится надеяться на то, что летописец стремился описывать события, которые интересуют нас (как, скажем, зарождается государство у восточных славян, или когда и как на самом деле был основан Киев, и т. п.), стараясь как можно более точно зафиксировать важные для нас звенья исторического процесса. Исходя из задачи, которую он ставил перед собой, создатель летописи отбирал те события, которые, по его мнению, были существенными в процессе выбора Богом Русской земли как избранной «на последнее время». При этом автор стремился объяснить своим читателям, почему именно эти события важны, каков их «истинный» смысл. В ходе такого объяснения, естественно, некоторые детали народного предания должны были претерпевать некоторые изменения. Их надо было привести в соответствие с безусловно авторитетными для древнерусского человека текстами, отсылка к которым и придавала событию особый смысл: прежде всего, к текстам Священного Писания. Именно поэтому столь часты прямые и косвенные библейские цитаты в древнерусских текстах. Это не просто «церковная риторика», от которой следует «очистить» текст летописи. Летописец не «только внешне присоединял свои религиозные толкования тех или иных событий к деловому и в общем довольно реалистическому рассказу», в чем просто «сказывался… средневековый «этикет» писательского ремесла», как считал Д. С. Лихачев. Для книжника Древней Руси это – естественный способ дать оценку, характеристику событию, явлению, историческому деятелю. Разобравшись с такими оценками, мы лучше поймем смысл летописных рассказов о начальных этапах становления древнерусского общества и государства.
Легенда об апостоле Андрее
Великое будущее древнерусской столицы предсказывается в «Легенде об апостоле Андрее», помещенной в недатированной части Повести: «Оньдрею учащю в Синопии и пришедшю ему в Корсунь, уведе, яко ис Корсуня близь устье Днепрьское, [и] въсхоте поити в Римъ, и проиде въ вустье Днепрьское, [и] оттоле поиде по Днепру горе. И по приключаю приде и ста под горами на березе. [И] заутра въставъ и рече к сущим с нимъ ученикомъ: «Видите ли горы сия? – яко на сихъ горах восияеть благодать Божья: имать градъ великъ [быти] и церкви многи Богъ въздвигнути имать». [И] въшедъ на горы сия, благослови я, [и] постави крестъ, и помоливъся Богу и сълезъ съ горы сея, идеже послеже бысть Киевъ, и поиде по Днепру горе».
В приведенной цитате обращает на себя внимание текст вставки (выделен курсивом). Из 100 слов, составляющих его, 7 – слово «гора» (в разных значениях). И это при том, что на всю «Повесть временных лет» (свыше 47 тысяч слов) оно употреблено всего 56 раз (в среднем 0,12 упоминаний на каждую сотню слов текста, т. е. в 58 раз реже; наш случай дает ⅛ всех случаев использования слова «гора»; причем почти половина их непосредственно связана с Киевом).
Для летописцев гора – понятие, имеющее хорошо различимую ценностную (собственно, сакральную) окраску. Поэтому вряд ли чрезвычайно частое упоминание «гор» в рассказе об Апостоле Андрее можно объяснить простой случайностью или лексической небрежностью летописца. Скорее, в столь частом употреблении лексемы «гора» прослеживается определенная тенденция. Летописец явно считает этот пространственный ориентир в данном случае принципиально важным. Недаром образ горы занимает существенное место и в описании погребения библейских патриархов. Гора как обозначение места захоронения в библейских текстах тесно связана с пещерой. Не случайно и Киево-Печерский монастырь начинается с символической могилы – пещеры, выкопанной будущим митрополитом Иларионом в правом (крутом) берегу Днепра: в старославянском языке брегъ означало не только «крутой берег», но также «холм, склон, гора». С вершины горы Фасги (что, собственно и значит «вершина»; в Повести она называется «гора Вамьская») Моисей перед кончиной увидел всю Обетованную землю (Втор 327).
Смысл, который автор вставки мог вкладывать в заинтересовавшее нас слово, может быть понят при обращении к тексту Библии. В пророчестве Иезекииля предсказывается, что Господь соберет избранный Им народ «из среды народов, между которыми они находятся», и приведет их «в землю их». Здесь, «на горах Израиля» они станут «одним народом, и один Царь будет царем у всех их». Здесь они «очистятся» «и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими» и станут народом Божиим» (Иез 37 19–28).
У Иезекииля речь идет об основании Иерусалима. Можно предположить, что описание миссии Апостола Андрея, остановившегося «под горами Днепрьскими» и пророчествующего о «граде великом», который появится «на сих горах» по истечении некоторого времени, понадобилось летописцу – помимо всех прочих целей – для обоснования пока еще не до конца оформившегося представления, что именно Киеву суждено стать новым центром христианского мира – Новым Иерусалимом.
Легенда об основании Киева и его первых правителях
Такое впечатление усиливается при чтении рассказа о знаменитых братьях-основателях новой столицы: «[И] быша 3 братья: единому имя Кии, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, [и] сестра ихъ Лыбедь. Седяще Кии на горе, гдеже ныне увозъ Боричевъ, а Щекъ седяше на горе, гдеже ныне зовется Щековица, а Хоривъ на третьеи горе, от негоже прозвася Хоревица. И створиша градъ во имя брата своего стареишаго, и нарекоша имя ему Киевъ».
Дело здесь даже не столько в том, что текст вновь насыщается упоминанием «гор», сколько в имени одного из братьев, Хорива. Еще Г. М. Барац в 1924 г. отметил совпадение его имени с названием библейской горы Хорив («сухой, пустой, разоренный»), расположенной в Аравийской пустыне. Именно на ней Моисею было явление Божие в купине горящей и несгораемой; здесь Моисей ударом жезла источил воду из скалы; здесь из среды огня Господь изрекал Закон Израилю. Восточный хребет Хорива называется Синаем, в связи с чем в Св. Писании эти два топонима смешиваются. Так, дарование Богом Закона Моисею связывается то с Синаем, то с Хоривом. Во всяком случае, под Хоривом в Библии разумеется вся центральная группа гор Синайского полуострова, а под Синаем – только одна из гор этой группы. Так что, уже само упоминание имени третьего из легендарных братьев, построивших Киев, вполне может рассматриваться как намек на библейский Синай.
Впрочем, по мнению В. Я. Петрухина, «русские книжники не обратили внимания на это совпадение (в „Речи философа“ в ПВЛ приводится мотив „непалимой купины“ без упоминания горы Хорив), по-видимому, потому, что в древнерусской книжности мотив купины приурочивается к горе Синай». Из этого следует предположение, «что имя „Хоревица“ закрепилось за киевской горой в дохристианский период и было заимствовано славянскими жителями Киева у еврейско-хазарской общины, которая приурочивала легендарные топонимы к киевским реалиям». Между тем, в Толковой Палее (Толковом Ветхом Завете), текстом которой, судя по всему, пользовался создатель Повести временных лет, Хорив упоминается неоднократно. Впрочем, исходный смысл такой библейской параллели мог быть легко утрачен последующими поколениями летописцев. Все зависело от того, насколько образован был компилятор, редактор или переписчик текста.
В любом случае приходится признать, что имя одного из легендарных основателей Киева, скорее всего, не было собственно славянским.
Между тем, принято считать, что основатели Киева – поляне, т. е. представители восточных славян, населявших Киевское Поднепровье. Согласно мнению Б. А. Рыбакова, «легендарный Кий приобретает реальные черты крупной исторической фигуры. Это – славянский князь Среднего Поднепровья, родоначальник династии киевских князей; он известен самому императору Византии, который пригласил Кия в Константинополь и оказал ему „великую честь“. Речь шла, очевидно, о размещении войск Кия на дунайской границе империи, где поляне построили укрепление, но затем оставили его и во главе со своим князем возвратились на Днепр».
В основе таких рассуждений лежит еще один летописный текст, который, правда, не столько свидетельствует об историчности основателей Киева, сколько о том, что уже во времена первых летописцев рассказ о Кие и его братьях воспринимался как легенда. Об этом вполне четко говорит разъяснение, которое было включено кем-то из киевлян – создателей летописей, полемизировавших со своими новгородскими «коллегами»: «Ини же, не сведуще, рекоша яко Кий есть перевозник был, у Киева бо бяше перевоз тогда с оноя стороны Днепра, темь глаголаху: на перевоз на Киев. Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил Царюгороду; но се Кий княжаше в роде своемь, приходившю ему ко царю, якоже сказають, яко велику честь приял от царя, при которомь приходив цари. Идущю же ему вспять, приде къ Дунаеви, и возлюби место, и сруби городок мал, и хотяше сести с родом своим, и не даша ему ту близь живущии; еже и доныне наречють дунайци городище Киевець. Киеви же пришедшю в свой град Киев, ту живот свой сконча; и брат его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь ту скончашася».
Заметим, что рассуждения Б. А. Рыбакова об «историчности» Кия существенно «дополняют» летописное сообщение. В «Повести временных лет» упоминается лишь о том, что Кий приходил в Константинополь. Б. А. Рыбаков «уточняет» сведения летописца: Кий был приглашен императором, договорился с ним о размещении войск на границе Византийской империи. Появляется здесь и некая династия «Киевичей».
Как бы то ни было, принадлежность Кия, Щека и Хорива к местной полянской знати считается почти безусловно доказанной. Некоторые сомнения в бесспорности такой точки зрения вселяют несколько странные для славян имена первых киевских князей.
Приемлемая славянская этимология предлагается только для имени старшего из братьев, Кия: «Возможно, имя Кия происходит от *kuj-, обозначения божественного кузнеца, соратника громовержца в его поединке со змеем. Украинское предание связывает происхождение Днепра с божьим ковалем: кузнец победил змея, обложившего страну поборами, впряг его в плуг и вспахал землю; из борозд возникли Днепр, днепровские пороги и валы вдоль Днепра (Змиевы валы)». С такой точкой зрения согласен и Б. А. Рыбаков: «Имя Кия хорошо осмысливается по-русски: «кий» обозначает палку, палицу, молот, и в этом смысле имя основателя Киева напоминает имя императора Карла Мартелла – Карл „Молот“».
Если имя Кия хоть как-то поддается «с лавянизации», то более или менее приемлемой основы для признания славянского происхождения его братьев – Щека и Хорива – найдено не было (лучшей этимологической параллелью для второго из них, пожалуй, было упоминание литовского названия церковного жреца – krive). В связи с этим иногда отрицается их присутствие в первоначальной версии сказания об основании Киева. Так, Б. А. Рыбаков полагает: «мы должны быть осторожны по отношению к братьям Кия. Правда, летописец стремится связать их имена с местной топонимикой XI в., указывая на Щековицу и Хоривицу, но нам очень трудно сказать, действительно ли имена реальных братьев перенесены на эти горы, или же, подчиняясь требованиям эпической тройственности, автор сказания от названий этих гор произвел имена двух мифических братьев?».
Не будем останавливаться на весьма спорном тезисе о «реальности» Кия и его братьев. Безусловно, прав В. Я. Петрухин: «Очевидно, что киевская легенда о трех братьях – основателях города имеет книжный характер: имена братьев «выводятся» русскими книжниками из наименований киевских урочищ. Это делает малоперспективными попытки искать исторические прототипы для основателя Киева».
Речь здесь, конечно, должна идти о другом: присутствовали ли имена братьев в исходном предании, которое летописец использовал в рассказе о начале Киева? Ответ на это вопрос, видимо, содержится в легенде, попавшей в армянскую «Историю Тарона», которую приписывают сирийцу, епископу Зенобу Глаку (VI–VII вв.). Среди прочих преданий он записал историю о братьях Куаре, Мелтее и Хоресане.
По крайней мере, имена двух из трех братьев напоминают имена братьев – основателей Киева (Кий – Куар и Хорив – Хореан). По мнению Н. Я. Марра, имена Щека и Мелтея совпадают семантически, поскольку якобы и то, и другое означают – соответственно, на русском и армянском языке – «змей» (правда, историческими словарями русского языка это не подтверждается). Кроме того, в обеих легендах совпадают некоторые детали повествования (каждый из братьев сначала живет на своем месте, позднее братья строят городок на горе и т. п.). Все это позволило рассматривать обе легенды – летописной и Зеноба Глака – как имеющие общую основу.
Славянская этимология имен основателей полянской столицы, как видим, вызывает серьезные затруднения. Зато отказ от их признания славянами значительно упрощает ситуацию. Расширение круга поисков дает довольно любопытные (хотя и вовсе не бесспорные) результаты. Например, О. Прицак прямо связывает летописного Кия с отцом хазарского вазира (главы вооруженных сил Хазарского каганата) Ахмеда беи Куйа, упомянутого ал-Масуди в рассказе о постоянной наемной армии хазарских правителей.
Что касается «неизбежности» заключения об идентификации летописного Кия и хазарского (точнее, хорезмийского) Куйа, то здесь, видимо, правильнее будет прислушаться к упоминавшемуся мнению В. Я. Петрухина. Однако само признание возможности иранского происхождения имени основателя Киева довольно любопытно. Не менее интересно и мнение о возможной тюркской этимологии имени Щек, высказанное В. К. Былининым: «Имя Щек, Щека, возможно, – славянизированное произношение тюркской лексемы «cheka», «chekan» (боевой топор, секира), при котором твердое – Ч перешло в смягченное – Ш’Т» (-Щ болгарского типа)».
В этот ряд попадает и, предположительно, мадьярское происхождение имени Лыбедь: «Тут вспоминаются будущие венгры, которые под предводительством Леведии контролировали хазарскую «Белую крепость» в бассейне Северского Донца. В честь Леведии территория названа Леведия».
В таком окружении оказывается «родным» и иранское или еврейско-хазарское происхождение имени Хорив.
Так что, легендарные основатели Киева имеют, скорее всего, неславянские имена и вряд ли их читатели «Повести временных лет» представляли себе полянами.
Такой вывод хорошо согласуется с тем видом, в котором рассказ о приезде Аскольда и Дира в Киев, сохранился в Лаврентьевской летописи: «И бяста у него 2 мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родом своим. И придоста по Днепру, и идуче мимо и узреста на горе градок. И упрошаста и реста; „Чий се градок?“. Они же реша: „Была суть 3 братья: Кий, Щек, Хорив, иже сделаша градоко-сь, и изгибоша, и мы седим, платяче дань родом их, козаром“». Правда, многие исследователи считают, что в данном случае имеет место искажение первоначального чтения. В качестве такового они принимают текст Ипатьевской летописи, в котором выделенная часть фразы выглядит так: «и мы седим, род их, платяче дань козаром».
Заметим, однако, что и при таком чтении понимание текста во многом будет зависеть от того, как понять выражение: «род их». Речь здесь может идти и о том, что летописец считал полян потомками («родом») Кия и его братьев, и о том, что поляне платили дань потомкам Кия – хазарам. Во всяком случае, уже одно то, что в наиболее ранних списках «Повести временных лет» в данном тексте встречаются разночтения, служит свидетельством того, что летописцы второй половины XIV в. по-разному понимали этническую принадлежность основателей Киева.
То, что первые упомянутые в летописи полянские князья могли быть иноплеменниками, судя по всему, вполне спокойно воспринималось как авторами, так и читателями «Повести временных лет». Дело в том, что во главе большого числа ранних государственных объединений стояли представители других народов, чаще всего завоеватели: булгары, франки, норманны, лангобарды, бритты, англы, тюрки-сельджуки. По их имени эти государства и назывались: Болгарское царство, Франция, герцогство Нормандия, Ломбардия, Бретань, королевство Англия, Сельджукский султанат. Так что, иноземные правители в ранних государственных объединениях – скорее закономерность, нежели исключение. Необходимость призвания иноплеменника в качестве правителя – насущная необходимость, возникающая прежде всего в условиях межплеменного общения, доросшего до осознания общих интересов. Приглашенные правители играли роль своеобразного третейского судьи, снимая межэтническую напряженность в новом союзе. Тем самым они как бы защищали членов этого союза от самих себя, не давая им принимать решения, которые могли бы привести к непоправимым – для существования самого сообщества – последствиям.
Легенда о хазарской дани
Недатированную часть «Повести временных лет» завершает несколько странная легенда, породившая множество различных, порой взаимоисключающих, интерпретаций. Это предание Н. М. Карамзин назвал «басней, изобретенной уже в счастливые времена оружия Российского, в X или XI веке». Недаром она часто привлекалась историками оружия как одно из первых отечественных свидетельств о различиях в вооружении руси и хазар. При этом подчеркивалось, что меч был своего рода военной эмблемой Руси.
Сообщение же о хазарской дани воспринималось как довольно точное описание более или менее реального события, а «противоположение однолезвийной сабли и двухлезвийного меча» подтверждалось множеством археологических примеров. В то же время авторы подобных рассуждений вынуждены были признавать, что «настоящая» сабля, появившаяся в IX–X вв., все-таки составляла серьезную конкуренцию мечу. Тот обладал рядом преимуществ в пешем бою, однако заметно уступал сабле в конных столкновениях. В южных регионах Киевской Руси княжеским дружинам чаще всего приходилось сражаться с отрядами кочевников. Поэтому здесь наряду с мечами, все больше приспосабливавшимися к кавалерийскому бою, стали широко использоваться сабли, заимствованные из арсенала противника.
Кроме того, оказалось, что не только сабля, но и меч «не имеют местных корней в культуре предшествующей поры». До конца X в. большинство мечей в землях восточных славян были привозными, изготовленными в мастерских Рейнской области. Это подтверждается не только археологическим материалом, но и письменными источниками. Так, арабоязычные авторы отмечают, что русы (в отличие от вооруженных преимущественно копьями, дротиками и стрелами славян) не расстаются с франкскими мечами (ср. у Ибн-Русте: «Мечи у них [славян] сулеймановы»).
Вместе с тем, меч вовсе не был чужд хазарским воинам. Достаточно вспомнить упоминания меча в отрывке из письма неизвестного хазарского еврея X века (так называемый Кембриджский документ), в частности рассказ о том, как некий Бул-ш-ци (он же «досточтимый Песах») «… спас казар от руки RWSW [Руси]. Он поразил всех, кого он нашел из них, … мечом», а также свидетельство, что «один еврей одержал победу своим мечом и обратил в бегство врагов, выступивших против хазар» и упоминание «об уцелевших от меча» (имеются в виду враги хазар) в письме еврейского сановника Хасдая ибн-Шафрута к хазарскому царю Иосифу.
Вряд ли летописец не знал об этом. Легендарные опасения, вложенные им в уста хазарских старцев, видимо, относились вовсе не к «тактико-техническим данным» различных видов холодного оружия. Наверное, поэтому в последние годы исследователи древнерусского оружия все реже вспоминают о «хазарской дани».
Буквальное понимание рассказа о выплате полянами хазарской дани именно мечами затруднялось и тем, что в другом месте Повести временных лет (под 6367/859 годом) утверждалось, что в качестве таковой каганат получал «по беле и веверице от дыма». То, что дань хазарам выплачивалась славянами в денежной, а не в натуральной форме подтверждает и летописная статья 6393/885 года. Здесь рассказывается о том, как радимичи начали платить дань Олегу «по щьлягу, якоже [и] Козаромъ да[я]ху». Возможно, поэтому многие историки и литературоведы рассматривают эту легенду лишь как образ, метафорически или аллегорически передающий субъективную оценку каких-то реальных событий или отношений. Так, В. О. Ключевский полагал, что предание о мечах, данных в качестве дани, передавало субъективное впечатление, которое произвели на днепровских славян захватившие их хазары («впечатление народа невоинственного и нежестокого, мягкого»). В. Г. Мирзоев же видел в этой истории просто иллюстрацию к представлению летописца об изменчивости «судьбы истории». В чем-то близок такой точке зрения взгляд Г. М. Бараца, полагавшего, что «этот вымысел» сложился «под влиянием еврейских понятий» об обоюдоостром мече «как эмблеме и орудии правосудной кары и отмщения за содеянное зло» (неясно, правда, какое).
Несколько иное толкование легенда о хазарской дани получила в комментариях Д. С. Лихачева. По его мнению, это – народное историческое предание, которое подобно другим преданиям, записанным летописцем, «политически осмысляет события прошлого». В данном случае, считал Д. С. Лихачев, летопись «не столько стремится передать исторический факт, сколько его осмыслить, соотнести с современностью». С такой трактовкой сюжета о дани вполне можно согласиться. Остается неясным лишь, как мудрые «старцы хазарские» сумели разгадать в необычной дани «великую историческую судьбу» полян?
Близкую точку зрения высказал Б. А. Рыбаков. Он назвал рассматриваемое сообщение «записью эпического сказания». Дань в виде меча «от дыма» трактуется им как символическое выражение полной независимости полян от хазар и «возможность силой оружия отстоять ее». С такой трактовкой легенды о хазарской дани соглашается и С. А. Плетнева. В данном случае, полагает она, мы имеем рассказ о последнем «полюдье» хазар в полянскую землю. Получив вместо дани символический вызов («не мир, но меч!»), хазары якобы «отступились от сильного и далекого народа». Однако сами поляне, видимо, такого взгляда не придерживались, поскольку на протяжении многих лет все-таки платили хазарам дань – и не символическую. Об этом, в частности, они говорят (под 6370 годом) Аскольду и Диру, когда те пришли в Киев («и мы седимъ, платяче дань… Козаром»).
В несколько ином освещении упоминает легенду о хазарской дани А. С. Демин. Он толкует это предание как один из примеров использования летописцем загадок для отделения «не своего», «околного» этноса (хазар) в переходной области, населенной не абсолютно «чужими», но и не совсем «своими» народами.
Ни одно из приведенных объяснений не дает, однако, ответа на вопрос: какой все-таки смысл вкладывал летописец в образы меча и сабли, противопоставляемые в легенде о хазарской дани? Видимо, автора летописи в данном случае интересовали не буквальное противопоставление конкретных видов холодного оружия, не символическая декларация полянами собственной независимости, подкрепленная «превосходством» вооружения, и не политическое противопоставление полян Хазарскому каганату, получающие аллегорическое воплощение в оппозиции «меч – сабля».
Возможно, в данном случае имеется в виду оружие как святыня. Известно, что мечи на Руси выполняли – помимо основной – определенные сакральные функции.
Видимо, в связи с этим уместно вспомнить, что не только у восточных славян, но и у народов Западной и Центральной Европы (христиан, в том числе) меч был объектом культового поклонения.
Известно, однако, что клинки большинства мечей IX–XIV вв., найденных на территории Руси, имели надписи-клейма. Они инкрустировались в верхнюю треть дола меча во время ковки, в горячем состоянии металлической проволокой (железной или дамаскированной). Как показали многолетние исследования, клинковые надписи, представляющие собой, как правило, довольно сложные сокращения, имеют преимущественно религиозное содержание и связаны с именами Иисуса или Богоматери. Это дает основания предполагать, кроме всего прочего, что упоминание именно лезвий меча и сабли в легенде о дани, которую поляне заплатили холодным оружием, могло иметь какой-то сакральный смысл, до последнего времени ускользавший от внимания исследователей.
Поскольку рассказ о хазарской дани входил в состав уже самых ранних древнерусских летописей, возможно, рассматриваемое сообщение было связано с задачей, которая стояла перед их составителями, и соответствовало контексту, в который оно было вплетено. В этом семантическом ряду, видимо, и следует искать место легенде о хазарской дани.
Идея, которой проникнут текст Повести, предшествующий рассказу о хазарской дани, вполне соответствует центральной мысли Послания ап. Павла к Римлянам. В нем дается ответ на вопрос об условиях спасения римских христиан из иудеев и язычников. Лишь вера в Иисуса Христа, утверждает ап. Павел, дает человеку оправдание Божие. Ни соблюдение иудеями закона Моисея, ни мудрость «еллинов» не могут выполнить этой задачи. «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Эта мысль, как мы помним, является «стержневой» в уже рассмотренном рассказе о полянах и их соседях.
Логично было бы ожидать, что вслед за описанием «законов беззаконьных» язычников должно последовать обличение формально исполняющих Закон, но не признающих Христа иудеев. Вместо этого мы читаем посторонний, как будто, для данного контекста рассказ о хазарской дани. Правда, хазары (прежде всего, их верхушка) были иудеями, но, пожалуй, такой параллели недостаточно, чтобы попытаться увязать по смыслу оба интересующих нас текста. Во всяком случае, на первый взгляд.
Анализ образной системы Послания к Римлянам позволяет, однако, более оптимистично смотреть на возможность его использования в качестве «ключа» к раскрытию семантики легенды о хазарской дани. Среди прочих обязанностей христианина ап. Павел называет покорность верующего высшим властям: «ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». «Хочешь ли не бояться власти? – продолжает апостол. – Делай добро, и получишь похвалу от нея: Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся: ибо он не напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло. И потому надобно повиноваться не только из страха, но и по совести. Для сего вы и подати платите: ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые» (Рим 13 1, 3–6). Как видим, здесь присутствуют вместе образы меча, как символа власти от Бога, и подати (дани), как знака веры (исполнения закона). Кстати, по мнению А. А. Шахматова, комментированная цитата именно из 13 главы послания к Римлянам предваряла рассказ о полянах в Начальном своде.
В свете приведенных текстов, поляне в легенде о хазарской дани выступают, с одной стороны, как истинно верующие (в отличие от хазар)[2], а потому подчиняющиеся власти хазарского «князя» и платящие ему дань. С другой же, – как избранные Богом, сами потенциальные «Божии служители», которые «не без ума» носят мечи – символ власти. Отсюда – и заключение хазарских старцев: «Си имуть имати дань на нас и на инех странах». Противопоставление полян с их мечами иудеям-хазарам в такой трактовке вполне объяснимо.
Остается, однако, вопрос: какую роль в развитии данного сюжета и идеи играет сабля, почему именно она рассматривается летописцем в оппозиции мечу?
Обратим внимание на то, что такое противопоставление основано, как ни странно, на количестве лезвий. «Мы ся доискахомъ оружьемь одиною стороною… а сихъ оружье обоюду остро», – говорят в Повести старейшины хазарам. Причем, эти слова они «рекоша… от Божья повеленья». Очевидно, данный признак был весьма существенным в глазах авторов Начального свода и Повести временных лет.
Прежде всего, «меч обоюдуострый» – один из атрибутов богоизбранного народа. При таком понимании образа меча, имеющего два лезвия, допустимо следующее понимание легенды о хазарской дани.
Старцы по-своему разгадывают загадку, заданную полянами хазарам. Противопоставляя полянский меч своей сабле, они «не отъ своея воля» признают превосходство христианства над иудаизмом, «двух лезвий» нового меча духовного (Ветхий и Новый заветы) над «одним лезвием» Ветхого завета. Рассказ о дани занимает тогда вполне ясное место в повествовании о том, «како избьра Богъ страну нашю на последьнее время». Понятнее становится и библейская параллель, приведенная летописцем в заключение этой легенды: «Яко и при Фаравоне, цари Еюпетьстемь, егда приведоша Моисея предъ Фаравона, и реша стареишина Фараоня: се хочеть смирити область Еюпетьскую, якоже и бысть: погибоша еюптяне от Моисея, а первое быша работающе имъ. Тако и си – владеша, а послеже самемъ владеють; якоже и бысть: володеють бо Козары Русьскии князи и до днешнего дьне». Обретение Слова Божьего, по мнению летописца, – залог освобождения народа и лучшее знамение его избранности Богом. Принадлежность же такого «меча» именно полянам, а не хазарам, может подкрепляться утверждением ап. Павла, что «спасение Божие послано язычникам: они и услышат» (Деян 28 22–28).
Таким образом, противопоставление меча и сабли в легенде о хазарской дани, скорее всего, рассматривалось авторами Древнейшего и Начального сводов, а также «Повести временных лет» как символическое доказательство преимущества христианства над иудаизмом.
Итак, речь здесь идет об условиях обретения спасения. Основная идея обоих рассказов практически совпадает с основной идеей послания ап. Павла к Римлянам, цитата из которого предшествовала рассказу о полянах. В этом контексте и разрешается загадка обоюдоострого меча из легенды о хазарской дани – а заодно проясняется и вся структура начальной, недатированной части Повести временных лет.
В этом контексте и разрешается загадка обоюдоострого меча из легенды о хазарской дани – а заодно проясняется структура и смысл преданий, включенных в начальную, недатированную часть «Повести временных лет».
Аскольд и Дир
В датированной части «Повести временных лет» имеется очень краткое сообщение о том, как в Киеве появились правители-варяги. Это якобы были приближенные легендарного Рюрика: «В лето 6370 [862] … бяста у него 2 мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родом своим. И придоста по Днепру, и идуче мимо и узреста на горе градок. И упрошаста и реста; «Чий се градок?». Они же реша: «Была суть 3 братья: Кий, Щек, Хорив, иже сделаша градоко сь, и изгибоша, и мы седим, род их платяче дань, козаром». Асколд же и Дир остаста въ граде семь, и многи варяги съвокуписта, и начаста владети польскою землею». Впрочем, этот рассказ имеет все признаки вставки.
С именами Аскольда и Дира летописец связывает первое известие о походе Руси на Константинополь. Этот рассказ был заимствован при составлении «Повести временных лет» из болгарского перевода продолжателя греческой «Хроники» Георгия Амартола. Правда, имена Аскольда и Дира в греческой хронике не упоминались и были внесены туда летописцем произвольно.
Помимо всего прочего, этот рассказ любопытен еще и тем, что показывает, насколько опасно доверяться ранней летописной хронологии. Дело в том, что первоначально, сообщение о походе на греков, видимо, имело только относительную дату: «в 14 лето Михаила» (имеется в виду византийский император Михаил III. Абсолютная дата – 6374 год, – очевидно, была рассчитана искусственно, отталкиваясь от первой даты, которая открывает датированную часть «Повести временных лет»: «Въ лето 6360, индикта 15 день, наченшю Михаилу царствовати, нача ся прозывати Руска земля. О семь бо уведахом, яко при семь цари приходиша Русь на Царьгород, яко же пишется в летописаньи гречьстемь». 6360-й год был взят из греческого «Летописца вскоре» патриарха Никифора (в «Хронике» Георгия Амартола годовые даты не проставлены). Летописец, однако, не подозревал, что в этом источнике была использована так называемая болгарская эра, насчитывавшая 5504 года от Сотворения мира до Рождества Христова. Соответственно, 6360 год от Сотворения мира соответствовал 856 г. в нашей системе летосчисления, когда Михаил III достиг совершеннолетия и стал полноправным императором (правда, его мать, императрица Феодора не сложила с себя функций регентши и еще 9 лет оставалась соправительницей сына). Между тем, 14-й год правления, указанный в летописном сообщении о походе Аскольда и Дира, явно отсчитывался от 842 г., когда после гибели отца двухлетний Михаил был провозглашен императором. Таким образом, оба летописных сообщения – о начале правления Михаила и о походе Аскольда и Дира – имеют одну дату: 856 год.
Некоторые историки, опираясь на поздние и малонадежные источники, пытаются объявить Аскольда и Дира прямыми наследниками легендарного Кия, представителями уже упоминавшейся династии «Киевичей». Существование этой «княжеской династии» основывается на сведениях польского историка XV в. Яна Длугоша, который писал, что летописные киевские князья Аскольд и Дир, убитые Игорем, были потомками Кия. Это сообщение Длугоша было использовано в работах Д. И. Иловайского (кстати, весьма вольно обращавшегося с фактами) и М. С. Грушевского (стремившегося во что бы то ни стало доказать существование особого украинского этноса уже в IV в.); прибегал к ним в своих исторических реконструкциях и А. А. Шахматов. Впрочем, эта точка зрения в последнее время редко находит поддержку у специалистов.
Б. А. Рыбаков высказал, кроме того, догадку, что появление имен Аскольда и Дира в летописи есть следствие ошибки одного из ранних летописцев. На самом деле якобы в первоначальном тексте речь шла об одном киевском князе – Асколдыре или, точнее, Осколдыре. Такое прочтение летописного текста – результат предположения, не имеющего текстологического основания. Оно, однако, позволило Б. А. Рыбакову «установить» славянскую этимологию имени Аскольда (как давно доказано, безусловно скандинавского) от р. Оскол. Название же этой реки, в свою очередь, связывалось Б. А. Рыбаковым со сколотами, упоминаемыми Геродотом. Те якобы были славянами (вопреки самому Геродоту, писавшему, что сколоты именуют себя скифами), которые позднее стали называть себя русью.
Между тем, упоминание Яном Длугошем родственных связей Аскольда и Дира с легендарным Кием вызывает серьезные сомнения. По мнению В. Я. Петрухина, «Ян Длугош не был настолько наивен, насколько наивными оказались некоторые современные авторы, некритично воспринявшие его построения. Дело в том, что польский хронист стремился обосновать претензии Польского государства на Киев и поэтому отождествил киевских полян с польскими, Кия считал «польским языческим князем» и т. д.». Следовательно, никаких оснований полагать, что Аскольд и Дир принадлежали к «династии Киевичей» (или даже просто были славянами), у нас нет.
Предание о том, как Киев стал столицей
Самые ранние – уже собственно исторические – предания о первых правителях Киева связаны с именами Олега и Игоря. Их обоих принято титуловать князьями. Однако, как показал анализ ранних летописных текстов, первоначально Олег «числился» лишь регентом при малолетнем Игоре: во всех сообщениях они упоминались только вдвоем. Потом, когда создатель «Повести временных лет» вставил договоры с греками, в которых Олег предстает самостоятельным действующим лицом, летописные сообщения были изменены: Олег стал называться князем.
Первым важным событием в жизни этого «князя» стал захват Киева: «И седе Олег княжа въ Киеве, и рече Олег: „Се буди мати городом русьским“».
Последняя фраза Олега обычно рассматривается едва ли не как протокольно точная. Она уже давно стала общим местом в рассказах об образовании Древнерусского государства. Собственно, описанные выше события, как правило, и рассматриваются как происшедшее объединение северных (новгородских) и южных (киевских) восточнославянских земель в единую Киевскую Русь. Причем, именно Киевскую, поскольку заявление Олега о том, что Киев будет теперь «матерью город русских», рассматривается как учреждение здесь столицы единого государства.
Однако смысл этой «речи», вложенной летописцем в уста Олега, не так прозрачен, как это кажется на первый взгляд.
По мнению Д. С. Лихачева, «слова Олега имеют вполне точный смысл: Олег объявляет Киев столицей Руси (ср. аналогичный термин в греческом: μητρόπολις – мать городов, метрополия, столица)» – и ничего более. Между тем, Киев здесь явно отождествляется с Новым Иерусалимом. Об этом говорят текстологические параллели, которые мы находим как в Св. Писании (ср., напр.: «вышний Иерусалим… Матерь всем нам». – Гал 4 26), так и в древнерусских апокрифических памятниках. В частности, в одном из вариантов духовного стиха о Голубиной книге на вопрос «премудрому царю Давыду Евсеичу»: «А который город городам мати…?» следует ответ: «Русалим [!] город городам мати». Аналогичное отождествление встречаем и в варианте самой «Голубиной книги», и в «Иерусалимской беседе» (XII в.). В последней царь Давид загадывает загадки богатырю Волоту Волотовичу об устройстве Вселенной, о христианских древностях и символах. Здесь Иерусалим также называется матерью всех городов, а затем дается разгадка сна Волота: «Будет на Руси град Иерусалим начальный [в данном случае – «верховный’], и в том граде будет соборная и апостольская церковь Софии Премудрости Божия о семидесяти верхах, сиречь Святая Святых». В этой «разгадке», очевидно, речь идет о Киеве.
Однако самой сильной параллелью является, видимо, упоминание рассматриваемого фразеологизма в Житии Василия Нового, которое, как было установлено, использовалось при составлении Повести временных лет. В Житии «мати градом» упомянута дважды – в одном и том же контексте. Первый фрагмент помещен в Видении Григория: «… Град сии есть град Царя великаго… Град же сии есть Господа нашего Исуса Христа, его же Сам по соверьшении Своем по оустроению таинства, ибо въстание Его тридневное и възнесшюся Емоу на небо ко Отцю и Богу, по четыридесятих же днии сего Сам Себе во имя Отца Своего оухитрова… Град тои предивныи, град новыи, град христианскии, град вышнии, матиград, Сион град, Новыи Иерусалим: се имя граду…». И далее: «… И призре Господь Бог на град и оутвердися дивне на месте и вся благаа его посреде его и добрее града того не обреташеся, занеже сии град Божии вышнии, матиградом Сион, Иерусалим».
Приведенные параллели летописному упоминанию «матери градомъ русьскимъ» позволяют думать, что Киев здесь не просто называется столицей Руси, но центром православного, богоспасаемого мира. Недаром в Житии Василия Нового уточняется: «вся благаа его посреде его». Подобная фраза встречается в тексте «Голубиной книги», восходящем к домонгольскому времени: об Иерусалиме – прообразе Киева говорится, что «тут у нас среда земли». Действительно, на средневековых картах типа О – Т Иерусалим располагался в самом центре мира.
Косвенно эту мысль прекрасно подтвердил А. В. Назаренко, обративший внимание на то, что «обретение» создаваемым Олегом столицы, каковой, вне всякого сомнения, представляется Киев уже в XI в., является редким исключением в средневековой европейской истории. При этом подчеркивается, что все «столичные» эпитеты Киева, встречающиеся в источниках, ясно указывают на «воспроизведение константинопольской модели».
В то же время, утверждение, что Киев в глазах создателей первых древнерусских летописных сводов мог претендовать на роль «третьего Рима» и – главное – «Нового Иерусалима», вызывает вполне оправданные сомнения. Традиционно считается, будто мысль о «переносе» центра христианского мира на Русь могла возникнуть лишь после падения Константинополя в 1453 году. Поэтому представления о Третьем Риме и Новом Иерусалиме связываются только с Москвой, хоть иногда и упоминаются ее «идейные предшественники»: Тырново и Тверь, – но не Киев.
Тем не менее, уже рассмотренные нами тексты Повести временных лет подтверждают мысль о значительно более раннем бытовании на Руси представления о присутствии именно здесь Нового Иерусалима. Дальнейший анализ исторических преданий, включенных в состав «Повести временных лет», показывает, что эта идея была одной из базовых при написании летописных текстов. В частности, это касается последующих преданий об Олеге.
Вещий Олег
Как уже отмечалось, придание Олегу не свойственного ему изначально княжеского статуса (по мнению А. А. Шахматова, еще в «Начальном своде» тот фигурировал лишь как воевода Игоря), было связано с тем, что создателю «Повести временных лет» удалось найти и вставить в свою летопись договоры Руси с греками, в которых Олег фигурировал как «первое лицо».
После захвата Киева Олег, согласно «Повести», подчинил, помимо полян, деревлян, северян и радимичей, «а съ уличи и теверци имяше рать».
6415-м (907) годом летописец датирует поход Олега на Константинополь – Царьград. Сама дата похода, видимо, была заимствована из самого текста первого договора с греками. Результатом этого набега и стало якобы заключение договора. Это событие, однако, сопровождалось довольно странными обстоятельствами: «И повеле Олег воем своим колеса изделати и воставляти на колеса корабля, и бывшю покосну ветру, въспя парусы съ поля, и идяше къ граду. И видевше греци, и убояшася, и реша, выславше ко Олгови: „Не погубляй града, имемся по дань, якоже хощеши“. И устави Олег воя, И вынесоша ему брашно и вино, и не приа его; бе бо устроено со отравою. И убояшася греци, и реша: „Несть се Олег, но святый Дмитреи, послан на ны от Бога“. И заповеда Олег даяти на 2000 корабль по 12 гривен на человек, а в корабли 40 мужь. И яшася греци по се, и почаша греци мира просити, дабы не воевал Грецкые земли. Олег же, мало отступи от града, нача мир творити со царьма грецкима, со Леоном и Александром…».
После заключения договора, как пишет автор «Повести», «рече Олег: „Исшиите парусы паволочиты руси, а словеном кропиньныя“. И бысть тако. И повеси щит свои въ вратех, показуа победу, и поиде от Царяграда. И воспяша парусы паволочиты, а словене кропиньны, и раздра à [их] ветр; и реша словени: „Имемся своим толстинам, не даны суть словеном пре кропинныя“. И приде Олег к Киеву, неся злато, и паволоки, и овощи, и вина, и всякое узорочье. И прозваша Олга вещий: бяху бо людие погани и невеигласи».
Практически все исследователи давно уже сошлись во мнении, что все эти детали похода имеют фольклорное происхождение: упоминания о поставлении кораблей Руси на колеса, о парусах из драгоценных материй, сшитых для руси и славен, о том, как на ворота города был повешен щит (или щиты), а также о прозвании Олега Вещим. Скорее всего, когда-то они составляли единый рассказ. Правда, единства сюжета в них как будто не прослеживается. Связь между перечисленными фрагментами становится понятной при обращении к ветхозаветным пророкам.
Итак, после заключения мира с греками князь якобы приказал сшить «парусы паволочиты» и «кропиньныя», т. е. паруса из ценных шелковых тканей. Мнение А. С. Львова о том, что в данном случае речь идет о парусах, сшитых из крапивной (сделанных из волокон крапивы) ткани не получила поддержки у специалистов. Дело в том, что А. С. Львов исходил не столько из собственно филологических оснований (как это, скажем, делал А. А. Шахматов, не принявший точку зрения И. И. Срезневского о том, что форма кропииные возникла из коприиные, «шелковые»), сколько из буквального понимания текста и собственного здравого смысла: «Едва ли ветер так легко может разодрать шелковую ткань. В самом деле, здесь речь, должно быть, идет о ткани из волокон крапивы – наименее устойчивой, которую ветер легко мог разодрать». При этом, правда, ему приходилось делать одно небольшое допущение: «Обычай ткать из крапивной пряжи холст мог существовать и в древней Руси». Тем не менее, такое решение не снимало формально-логического противоречия: «Правда, немного странно то, что после того, как ветер разодрал пря кропиныя, словене взялись за тълстины, т. е. за парус из простого и грубого холста. Чем лучше холст из крапивы холста из конопли или льна?»
Приказание несколько странное: на первый взгляд, такие роскошные паруса вряд ли могли быть достаточно прочными (на самом деле, они гораздо прочнее на раздир, нежели парусиновые). И славяне скоро убедились в этом, когда ветер «раздра» их.
Смысл этого рассказа неясен. Попытки истолковать его как насмешку киевлянина над новгородцами, или как проявление недовольства новгородцев, «подчеркнувших свое невидное положение в войске Олега, простоту и суровость своего походного быта» (Д. С. Лихачев), вряд ли можно принять. Ведь из текста летописи следует, что если руси Олег приказал сшить паруса «паволочитые» (т. е. из ткани, вышитой шелком), то «словеном – кропиньныя», из коприны – шелка. Разница, как видим, здесь почти неощутимая, если она вообще есть. Да и разделение руси и словен здесь не носит, скорее всего, принципиального характера.
Столь необычная деталь, как паруса из дорогих тканей, встречается и в Библии. Пророк Иезекииль, обличая тирян (Иез 27 1–22), среди прочих излишеств упоминает узорчатые полотна из Египта, которые те употребляют для изготовления парусов. Совпадают с отдельными моментами в описании похода Олега в Греки и некоторые другие детали того же пророчества. В частности, Иезекииль говорит о воинах из Персии, Лидии и Ливии, взявших на себя защиту Тира, в знак чего они повесили на него «щит и шлем». Олег, как мы помним, тоже «повеси щит свои въ вратех». Кстати, объяснить, зачем Олег повесил свой щит на ворота Константинополя, долгое время не удавалось. Отмечалось только, что это «было, по-видимому, в древней Руси знаком победы, при этом связанный с каким-либо ритуалом» (Д. С. Лихачев). Основанием для такого мнения служит разъяснение, приведенное в самой Повести: щит (или щиты) повешен, «показающе победу». Однако, во-первых, слово «победа» в Х – XII вв. имело гораздо более широкий спектр значений: от «поражения» до «победы». И, во-вторых, по наблюдению А. С. Львова, все слова с основой побед-, встречающиеся в ПВЛ, являются «книжными» и используются в тех случаях, когда летописец стремился «излагать мыс ль так же, как и в церковных книгах».
В «библейском» же контексте эта деталь приобретает вполне определенное значение: Олег тем самым показывал, что берет город под свою защиту.
С этим вполне согласуется вывод А. Л. Никитина, сделанный на основании «здравого смысла» (очевидно, отличающегося от «здравого смысла» Д. С. Лихачева): «В тексте рассказа можно найти еще одно доказательство мирных намерений Олега, по традиции толкуемое в прямо противоположном смысле: упоминание о его щите и щитах его сподвижников, вывешенных „на воротах“ (т. е. на воротных башнях) Константино поля, „показающе победу“. Если использование колес и повозок для перевозки судов, в том числе и при осаде городов, хорошо из вестно, то в этом случае мы никаких аналогов не находим. Наобо рот, различные знаки, изображения и предметы, которые помещал и на башнях и воротах крепостей, выполняли роль талисманов и оберегов, служили защитой от врага и злоумышленника, будучи в прямом смысле слова «щитом» городу и его жителям. С той же целью над городскими воротами помещали иконы, кресты и гербы. Кроме того, как показал Я. К. Грот, выражение „поднять щиты“ для предводителя одной из воюющих сторон в ту эпоху означало при зыв к перемирию и началу переговоров. Поэтому можно утверж дать, что, вешая свои щиты на башнях Константинополя, „русы“ объявляли о готовности отныне защищать этот город вместе с его обитателями. Если вспомнить, что вскоре в византийской армии появляются отряды „русов“ (морская экспедиция на Крит 911–912 гг.), а сами греки наименовали Олега „святым Димитрием“, то по добное утверждение вряд ли покажется слишком смелым».
После эпизода с парусами сообщается: «И приде Олег к Киеву, неся злато, и паволоки, и овощи, и вина, и всякое узорочье». В пророчестве же Иезекииля говорится, что за товары, вывозимы из Тира, другие страны платили золотом, пурпурными и узорчатыми тканями, пшеницей, оливковым маслом, сластями, медом, вином и выделанным железом. Эти перечни совпадают практически полностью.
Таким образом, мы наблюдаем вполне определенное сближение у летописца деталей в описании похода Олега и в пророчестве Иезекииля.
Зачем же понадобилось такое отождествление языческой Руси и Тира[3]?
В то же время эпизод с парусами, видимо, подчеркивал, что Русь никогда не достигнет мощи и богатства финикийского города («не даны суть словеном пре кропииньныя»). Быть может, основная идея этого летописного рассказа перекликалась с продолжением пророчества Иезекииля, посвященным обличению «начальствующего в Тире» (Иез 28 17)? Тема обличения – гордость и дерзость правителя, поставившего «ум свой наравне с умом Божиим»: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, – утверждает Иезекииль, – от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор».
Такое решение, однако, оставляет без ответов целый ряд вопросов. Во-первых, неясно, от кого (или от чего) должен был защищать Олег столицу Византии. Во-вторых, непонятно, почему вид кораблей, поставленных на колеса, заставил греков сдать Константинополь.
Интересную трактовку описанным библейским параллелям дает Д. А. Добровольский. Он предположил, что летописец использовал образ Тира для описания Византии. Смысл такого уподобления «помогал книжникам осмыслить несомненный парадокс: победу слабовооруженного войска полудиких славян над регулярной армией, оснащенной разнообразными техническими новинками. Оправданный пророчеством, этот странный поворот истории приобретал статус божественной воли, и, соответственно, высший религиозный смысл». При этом выстраивались семантические параллели: «Русь – страна Савеев, управляемая известной своей мудростью царицей, а Византия, важнейший центр предпринимательства, культуры и техники, представляет собой новый Тир».
Подробные списки племен-участников военного мероприятия, открывающие статьи 6415 (907) и 6453 (944) гг., по мнению Д. А. Добровольского, связаны с перечислением в пророчестве Иезекииля войск Гога, «князя Роша, Мешеха и Фувала»: «и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою» (Иез 38 4–6). При этом, подобно многолюдным полчищам Гога, отряды русских князей «покрывают» собой огромные пространства:
Судя по этому, именно страна Магог является наиболее перспективным ветхозаветным соответствием к созданному летописцами образу Руси. Византия в данной связи – богоизбранный народ, своего рода Израиль христиан, впавший в грех, за что и наказывает его пришедшая под стены Константинополя Русь.
Этот вывод подкрепляется параллелью между сообщением, позаимствованным летописцем из Хроники Георгия Амартола, об использовании захваченных греков в качестве мишеней для стрельбы («иныя растреляху»). Эта деталь перекликается с целым рядом библейских образов, связанных с наказанием за грехи. Русь, таким образом, приобретает в глазах летописца высокий статус Господних слуг.
Показательно и то, что в описании бесчинств, которые творит Русь под стенами Константинополя, образы из Хроники Георгия Амартола в рассказе о походе Игоря на Царьград подкрепляются заимствованиями из Жития св. Василия Нового. Так в тексте Повести развивается тема наказания греков за содеянные ими грехи, – тема, которая гораздо яснее звучит именно в Житии Василия Нового. Как считает Д. А. Добровольский, «анализ книжных связей начальной летописи позволяет утверждать, что летописцы XI – начала XII в. целенаправленно строил образ Руси, атакующей Константинополь, по модели «Гога в земле Магог, князя Роша, Мешеха и Фувала». Под названную цель… специально подбирались материалы – выписки из переводных исторических сочинений и фрагменты библейских книг. Однако в Библии князь Гог является важным персонажем мифа о конце света, и может показаться парадоксальным, что «эсхатологический контекст» фактически «обернулся началом истории нового народа» – Руси. Но если вдуматься в особенности иудео-христианской эсхатологии, то ничего странного в подобном ходе мысли нет. Согласно Писанию, появление и разгром народов Гога и Магога должны стать не только знаком гибели нашего мира, но началом новых времен. У Иезекииля вслед за рассказом об истреблении огромного воинства следует подробная… картина восстановленного Храма, поднятого из руин Иерусалима и возрожденного Израильского царства (Иез 40–48). В Откровении Иоанна Богослова обсуждаемый сюжет непосредственно предшествует пророчествам о Страшном Суде, по исполнении которых человечество узрит «новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр 21 1). С точки зрения Церкви, конец света есть не прекращение всякой истории, а переход времени и бытия в принципиально новое качество обо́жения. …Видимо, и масштабные военные предприятия руси рассматривались средневековыми книжниками не как вселенская катастрофа, а как начало некоего принципиально нового периода в истории человечества, периода осуществленных пророчеств и Царства Божия на земле».
Вернемся, однако, к обстоятельствам захвата Константинополя Олегом, описанным в летописи. В ней, в частности, упоминается, будто столица Византии сдалась, когда после длительной осады воины Олега поставили корабли на колеса и подошли к Константинополю со стороны суши. Описание это удивительно напоминает обстоятельства взятия Константинополя в 1453 г. войсками Мехмеда II Завоевателя: тот приказал проложить через перешеек, отделявший Золотой Рог от Босфора, деревянный настил и ночью перетащил по нему 18 кораблей своей флотилии. Увидев утром корабли в заливе, греки сдались. Интересно, что и в том, и в другом случае непосредственным поводом к сдаче города становится передвижение вражеских кораблей по суше. Эта деталь оказывается решающей. Видимо, она имела для греков какое-то особое значение. Действительно, согласно сообщению участника взятия Константинополя, турка Коджиа-Еффенди, существовало предание: Византия будет завоевана, когда неприятельский флот «переплывет сушу». Вместе с тем, считалось, что Константинополь недолго пробудет в руках неприятеля. В весьма авторитетном Предсказании, приписываемом византийскому императору Льву VII Мудрому (886–911), имелось упоминание о «роде русых» или «русских» (В оригинальном тексте «flava gens» или «το ξανθον γένος»), который придет после завоевания Константинополя измаильтянами и вместе с прежними правителями якобы освободит Царьград от безбожных врагов. Ему вторило пророчество, записанное, по преданию, некими мудрецами на крышке гробницы Константина Великого. Это пророчество неоднократно упоминается в различных греческих источниках (напримет, объясняется сенатором Григорием Схоларием (1421), а также встречается в Видении монаха Даниила, Записке Лиутпранда о путешествии в Царьград в 968 г. и др.). Перевод этого предсказания приводится и во многих древнерусских рукописях.
По всем этим «предвещаниям», люди «от рода русского» должны были освободить христианскую столицу и взять ее под свою защиту. Упоминание представителей «рода русского» в греческих предсказаниях заставляет вспомнить первые строки договора с греками, заключенного в 6420/911 г. Олегом: «Мы от рода Рускаго…». Судя по всему, именно это предсказание и стало основой для того, чтобы Олег получил знакомое нам прозвище.
Договор Игоря с греками 6453/945 года начинается теми же самыми словами – при том, что описание бесчинств войск Игоря под стенами Царьграда в 6449/941 году текстуально совпадает с рассмотренными описаниями, связанными с Олегом…
При таком восприятии летописного рассказа проясняется странная – в традиционном прочтении – «защитная функция», которую берется выполнять Олег после падения Константинополя. Она становится более понятной в восстанавливаемом эсхатологическом контексте: христианская столица сдалась, когда неприятельский флот «переплыл сушу», но люди от «рода русского» взяли Город – до «последнего времени» – под свою защиту. Любопытно, что захватчиками-язычниками и защитниками оказываются одни и те же – воины Олега. Впрочем, не исключено, что это – следствие переноса на поход Олега ряда текстов, первоначально связанных с походом Игоря на Константинополь.
Таким образом, есть основания предполагать уже в 30-х годах XI в. начало формирования на Руси представления о Киеве как Новом Иерусалиме – центре спасения православного человечества. Мысль о «византийском наследстве» – пусть еще в неразвитом виде – вполне могла возникнуть задолго до падения Константинополя под ударами турок в 1453 г.
Завершает летописный рассказ об Олеге легенда о его смерти. Пересказывать ее вряд ли имеет смысл: с ней знакомы все, кто читал хотя бы пушкинскую «Песнь о Вещем Олеге». Сто́ит только добавить, что в основе ее лежит скандинавская сага об Орваре-Одде (Одде-Стреловержце): ««Вещунья предсказала норвежскому герою Орвару-Одду, что ему назначено роком 300 лет счастливой жизни, в продолжение которых он наполнит своею славою отдаленнейшие страны; но по истечении этого срока погибнет от своего коня, цветом пепельного и называющегося, от повислой гривы, Факсом. Орвар-Одд умертвил Факса и свергнул его в глубокий ров, зарыл его и сделал над ним большую насыпь из камней и дерна. Спокойный за свою будущность, Орвар-Одд отправился в далекие путешествия. Ровно через 300 лет воротился он в отечество. Многие места, покрытые прежде зеленью, поблекли и высохли; высохло и болото, в которое брошен был Факс, и не осталось никакого следа от могильной насыпи: лежала только голая и гнилая голова коня. «И это голова Факса!» – сказал Орвар-Одд, ворочая ее копьем. Между тем ящерица выползла из конской головы и уязвила Орвара-Одда в пяту, откуда смертельный яд разлился по всему телу».
Помимо всего прочего, рассказ о смерти Олеге должен был напомнить читателю признак, отличающий истинных пророков от самозванцев: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его» (Втор 18 20–22). Олег не понял загадку, загаданную ему волхвом, посчитав пророчество того несбывшимся, – и поплатился за свою дерзость. При этом сам Олег, несмотря на свое прозвище, не смог предсказать собственное будущее. Это еще раз подтверждало, что Вещим его назвали «люди погани и невеигласи».
Сообщение о смерти Вещего Олега под 6420 (912) годом сопровождает упоминание: «И плакашася люде вси плачем великим, и несоша, и погребоша [его] на горе, еже глаголеться Щековица. Есть же могила его и до сего дни». Впрочем, другие летописцы называют местом погребения Олега Ладогу, третьи утверждают, что он скончался где-то «за морем». Уточнение о том, что его могила «есть и до сего дне» сопровождает сообщения о кончине князей Игоря (под 6453 годом), Олега Святославича (под 6485 годом) и Святополка Окаянного (под 6527 годом).
Смысл столь противоречивых, с точки зрения современного читателя, свидетельств нуждается в специальном анализе и толковании. Очевидно, что значение этого выражения не сводится только к тому, что летописцу известна сама «могила» (т. е. могильный холм). Причем, как справедливо подчеркивал А. И. Попов, вовсе не обязательно, чтобы в могильной насыпи сохранялись останки погребенного князя. И после их «изъятия», за «могилой» сохранялись ее прежнее название, скажем, «Ольгова могила» или «Аскольдова могила» Скорее, это в первую очередь констатация самого факта смерти князя.
Любопытно, что текстологический анализ позволяет говорить о единой литературной основе описаний погребения Аскольда и Дира под 6390/882 г. («несоша на гору и погребоша и на горе»), Олега под 6420/912 г. («и с того разболеся и умре, и плакашася людие вси плачем великим, и несоша и погребоша его на горе») и княгини Ольги под 6477/969 г. («разболелась уже <…> по трех днехъ умре Ольга, и плакася по неи… людье вси плачемъ великомь, [и] несоша и погребоша ю на месте»), а потому и об их трафаретности.
Не исключено, что основой этих сообщений послужил апокрифический рассказ, приведенный в описании смерти Моисея у Иосифа Флавия: «Когда Моисей объявил, что ему пришло время умереть, весь народ еврейский пролил слезы <…> Со слезами все последовали за ним, когда он пошел на гору, где должен был умереть…». Знакомство русского летописца с «Иудейскими древностями», возможно, опосредованное через греческие хроники подтверждается наименованием в Повести временных лет царицы Савской правительницей Эфиопии: «Се же бысть, якоже при Соломане приде царица Ефиопьская к Соломану». Источником этой «ошибки» (на которой мы подробнее остановимся чуть ниже) является упомянутое сочинение Иосифа Флавия.
Такие параллели показывают, что, скорее всего, летописное «есть же могила и до сего дне» является аналогом библейского «точного адреса» погребения патриархов и соответствует по смыслу более раннему обороту, который применяется по отношению к Адаму, Сифу, Еносу, Каинану, Малелеилу, Иареду, Мафусаилу, Ламеху и Ною: «и он умер» (Быт 55, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31; 9 29). Это, кстати, вовсе не исключает возможности существования реальной (пусть и легендарной) могилы, которую могли видеть летописец и его современники. Так, скажем, с именем Олега в Киеве, как отмечал М. С. Грушевский, связывали сразу две «могилы»: на Щековице и у Жидовских (Львовских) ворот.
Фразеологизм «есть же могила и до сего дне» встречается исключительно в сочетании с именами князей-язычников. Единственное исключение составляет Святополк Окаянный. Это могло объясняться тем, что он был «беззаконными», и, как считают некоторые исследователи, не являлся христианином. Основанием для такой догадки полсужила, в частности, только что упоминавшаяся Эймундова сага. В ней Эймунд говорит о Бурислейфе (который традиционно идентифицируется со Святополком): «И слышал я, что похоже на то, что он отступится от христианства…» К этому можно добавить и точку зрения М. П. Сотниковой и И. Г. Спасского, которые в свое время высказали предположение, что крестильное имя Святополка – Петр – «могло быть для этого князя не просто христианским, но и католическим». «Впрочем, – добавляют эти авторы, – никакими данными о вероисповедании Святополка наука не располагает». К тому же, до разделения церквей в 1054 г. говорить о католическом вероисповедании Святополка вообще вряд ли возможно. Впрочем, судя по всему, данный текст был написан уже после этой даты. Во всяком случае, как мы скоро убедимся, косвенные летописные характеристики Святополка подтверждают его «беззаконность» и вероотступничество…
По-видимому, исторической основой этого явился обычный для IX–X вв. курганный обряд погребения восточнославянских князей, выполнявших, возможно, не только государственные, но и жреческие функции. Вместе с тем такая связь позволяет слышать в этом обороте отголосок заклятия, лежавшего на тех, кто «преступил завет Господень, и сделал беззаконие» (Нав 7 15). Основанием могло служить описание гибели Ахана в долине Ахор. За нарушение священного запрета он был убит, «и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня» (Нав 7 25–26). Таким образом, данный фразеологизм дает историку информацию, которая не совпадает с его буквальным смыслом. Во всяком случае, его ли можно использовать как свидетельство, что летописцу действительно была известна могила того или иного персонажа и потому может использоваться как датирующий признак.
Такой вывод имеет серьезные последствия, ведь именно упоминание того, что могила Олега Святославича «есть и до сего дне у Вручьего», послужило одним из оснований для датировки Древнейшего (либо, если речь идет об оппонентах А. А. Шахматова, альтернативного ему) свода. А. А. Шахматов писал: «Сопоставляем следующие два места в тексте Повести вр[еменных] лет (Начального свода). Под 6485 (977) годом в рассказе о войне Ярополка с Олегом Древлянским, читаем: «И погребоша Ольга на месте у города Вручего, и есть могила его и до сего дне у Вручего». Под 6552 (1044) находим: «Выгребоше 2 князя, Ярополка и Ольга, сына Святославля, и крестиша кости ею, и положиша я въ церкви святыя Богородица». Следовательно, с 1044 года могила Олегова уже не существовала близ города Вручего; она была разрыта (если, действительно, Олег был погребен близ этого города), и останки Олега были перенесены в церковь св. Богородицы. Отсюда видим, что статья 6485 года, содержащая приведенную выше фразу, составлена до 1044 года. Этот вывод наш согласуется с тем, что Древн[ейший] свод доходил только до 1039 года; он составлен, очевидно, до 1044 года». Правда, А. Г. Кузьмин считал, что запись о смерти Олега могла существовать «параллельно» с сообщением о перенесении его останков – «в разных традициях»
Предания об Игоре
Рассказ о первом «законном» (и, судя по всему, вполне историческом) киевском князе, Игоре, оказывается гораздо лаконичнее. После весьма краткого упоминания о том, что после смерти Олега Игорю вновь пришлось «примучить» древлян и обложить их данью «болши Олговы», а затем удалось заключить мир с появившимися на восточных границах древнерусских земель печенегами, под 6449 (941) годом следует пространный рассказ о походе Руси на греков.
Многие детали этого похода совпадают с сообщением о походе на Царьград Олега.
О том, что действия Руси здесь соответствуют представлениям о том, как должны себя вести с христианами народы, появляющиеся в последние времена и наказывающие христиан за грехи, показывает использование этого же текста для описания в Лаврентьевской летописи монгольского нашествия на Рязанскую землю в 1237 г.: «В лето 6745. …На зиму придоша от всточьные страны на Рѧзаньскую землю лесом безбожнии Татари, и почаша воевати Рязаньскую землю, и пленоваху и до Проньска. Попленивше Рязань весь и пожгоша, и кнѧзѧ ихъ оубиша. Ихже емше ѡвы растинахуть, другыя же стрелами растрелѧху в нѧ, а ини ѡпакы руце свѧзывахуть. Много же святыхъ церкви ѡгневи предаша, и манастыре и села пожгоша. Именья не мало ѡбою страну взѧша…».
То, что такой повтор не случаен, показывает рассказ той же Лаврентьевской летописи о том, как воспринималось нашествие иноплеменников: «Си вся наведе на ны [т. е., на нас] Богъ грех ради наших. Яко пророкъ глаголет: „Несть человеку мудрости, ни е мужства, ни есть думы противу Господеви. Яко Господеви годе бысть, тако и бысть. Буди имя Господне благословенно в векы“ [Иов 1 20–21]».
Итак, летописное повествование о походе Игоря на греков невозможно рассматривать в качестве достоверной информации о том, «как это было на самом деле».
Летописец завершает историю князя Игоря знаменитым преданием о том, как тот попытался вторично получить дань с древлян: «В лето 6453. В се же лето рекоша дружина Игореви: «Отроци Свеньлъжи изоделися суть оружьемъ и порты, а мы нази. Поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы». И послуша ихъ Игорь, иде в Дерева в дань, и примышляше къ первой дани, и насиляше имъ и мужи его. Возьемавъ дань, поиде въ градъ свой. Идущу же ему въспять, размысливъ рече дружине своей: «Идете съ данью домови, а я возъвращюся, похожю и еще». Пусти дружину свою домови, съ малом же дружины возъвратися, желая больша именья. Слышавше же деревляне, яко опять идеть, сдумавше со княземъ своимъ Маломъ: «Аще ся въвадить волкъ в овце, то выносить все стадо, аще не убьють его; тако и се, аще не убьемъ его, то вся ны погубить». И послаша к нему, глаголюще: «Почто идеши опять? Поималъ еси всю дань». И не послуша ихъ Игорь, и вышедше изъ града Изъкоръстеня деревлене убиша Игоря и дружину его». Завершается этот печальный рассказ уже рассмотренным нами оборотом: «И погребенъ бысть Игорь, и есть могила его у Искоръстеня града въ Деревехъ и до сего дне».
История с убийством Игоря находит подтверждение в греческой «Истории» Льва Диакона. Согласно ей, обращаясь к Святославу, император Иоанн Цимисхий якобы сказал: «Полагаю, что ты не забыл о поражении отца твоего Ингоря, который, презрев клятвенный договор[4] приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды. Не упоминаю я уж о его [дальнейшей] жалкой судьбе, когда, отправившись в поход на германцев[5], он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое».
Предания о княгине Ольге
Летописные предания о княгине Ольге, по признанию практически всех исследователей, имеют фольклорное происхождение.
Это, прежде всего, легенда о мести Ольги древлянам за смерть своего супруга.
По мнению Д. С. Лихачева, «Ольга говорит иносказательно о мести, послы же древлян не пони мают иносказательного языка Ольги и воспринимают лишь поверхностный, прямой смысл ее речей, считая их лишь тра диционной свадебной обрядностью». Овдовевшая княгиня как бы загадывает древлянам три загадки: о ладье, бане и пире – как элементах погребального обряда. Внешне обещая воздать послам почести, Ольга в прикровенной форме обрекает их на смерть. «Как это обычно бывает в сказках, – пишет Д. С. Лихачев, – женихи или сваты, не сумевшие разгадать загадки царевны-невесты, должны умереть».
Позднее, уже в «Повесть временных лет» было вставлено предание о четвертой мести Ольги. Аналогичное предание содержится в скандинавской саге о Харальде Суровом: «Когда Харальд приплыл на Сикилей, он воевал там и подошел вместе со своим войском к большому городу с многочисленным населением. Он осадил город, потому что там были настолько прочные стены, что он и не помышлял о том, чтобы проломить их. У горожан было довольно продовольствия и всего необходимого для того, чтобы выдержать осаду. Тогда Харальд пошел на хитрость: он велел своим птицеловам ловить птичек, которые вьют гнезда в городе и вылетают днем в лес в поисках пищи. Харальд приказал привязать к птичьим спинкам сосновые стружки, смазанные воском и серой, и поджечь их. Когда птиц отпустили, они все полетели в город к своим птенцам в гнезда, которые были у них в крышах, крытых соломой или тростником. Огонь распространился с птиц на крыши. И хотя каждая птица приносила немного огня, вскоре вспыхнул большой пожар, потому что множество птиц прилетело на крыши по всему городу, и один дом стал загораться от другого, и запылал весь город. Тут весь народ вышел из города просить пощады, те самые люди, которые до этого в течение многих дней вызывающе и с издевкой поносили войско греков и их предводителя. Харальд даровал пощаду всем людям, кто просил о ней, а город поставил под свою власть».
В данном случае очень трудно определить, кто у кого позаимствовал сюжет. С одной стороны, в скандинавской саге речь идет о зяте Ярослава Мудрого, супруге его дочери Елизаветы, и, следовательно, все описанное в ней происходит значительно позднее осады Искоростеня. С другой, – летописное сообщение о четвертой мести Ольги было записано только в начале XII в., причем еще в 90-х гг. XI в. его еще не было, а потому возможно и «обратное» заимствование. Правда, и сам Снорри писал свой труд еще позже, на рубеже XII–XIII вв. Кроме того, обычай присваивать землю, обнося ее огнем (а можно заподозрить, что именно он стоит за этим сюжетом), относится ко времени заселения Исландии, т. е. к 60-м годам IX в. А. Я. Гуревич подчеркивает: «О случаях насильственного захвата земли в период, когда в Исландии было очень легко приобрести владение у первопоселенцев, «Книга о заселении Исландии» сообщает неоднократно. В то время как Семунд нес огонь вокруг своего владения (таков был способ присвоения земли в период заселения Исландии), Скефиль без его разрешения взял себе часть этой земли, совершив соответствующий обряд, и Семунду пришлось примириться с захватом. Пока Эйрик собирался обойти всю долину, чтобы установить над ней свои права, его опередил Онунд: он послал из лука зажженную стрелу и тем самым присвоил расположенную за рекой землю».
Аналогичный сюжет, как отмечала Е. А. Рыдзевская, – о взятии города при помощи подожженных воробьев – имеется в уэльском романе «Brut Tysilio», восходящем к «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского, а также у Саксона Грамматика, который приводит два расск аза «о взя тии города по искорос тенском у с пособу». «Из них первый, о датском эпическом герое Хаддинге (Haddingus) локализован в Восточной Европе, по-видимому на Западной Двине (Hellespontus, Duna urbs), а второй – в Ирландии, причем Саксон ссылается здесь на военную хитрость, приписываемую им выше Хаддингу». В. Г. Васильевский же предложил в качестве дополнительной параллели ближневосточное предание об Александре Македонском и об эмире багдадском ибн Хосрове, о которых повествует армянский историк XI в. Стефан Таронский (Асохик). Причем, по мнению В. Г. Васильевского, «все это рассказывалось в Армении современно с пребыванием там и вблизи русского корпуса, почти современно с зимовками Варягов в Халдии, и тогда мы будем, по всей вероятности, гораздо ближе к родословной Гаральдовых птиц и Ольгиных воробьев и голубей».
Во всяком случае, до настоящего времени смысл легенды о четвертой мести Ольги не разгадан.
Однако центральное место среди летописных преданий об Ольге, несомненно, является история о ее крещении. Ольга стала первой древнерусской правительницей-христианкой. Впрочем, летописная история крещения прославленной древнерусской княгини носит явно легендарный характер.
О том, что Ольга действительно нанесла визит византийскому императору (правда, не Иоанну Цимисхию, как пишет летописец, а Константину VII Багрянородному), есть подтверждения в греческих источниках.
В частности, сам Константин Багрянородный рассказывает об этом так: «Девятого сентября, в среду состоялся прием… по случаю прибытия Русской княгини Ольги. Княгиня вошла со своими родственницами княгинями и избраннейшими прислужницами, причем она шла впереди всех других женщин, а они в порядке следовали одна за другою… Позади ее вошли апокрисиарии Русских князей и торговые люди и стали внизу у завес… Выйдя снова чрез сад, триклин кандидатов и тот триклин, в котором стоит балдахин и производятся магистры, княгиня прошла чрез онопод и Золотую руку, т. е. портик Августея, и села там. Когда царь по обычному чину вошел в дворец, состоялся второй прием следующим образом. В триклине Юстиниана было поставлено возвышение, покрытое багряными шелковыми тканями, а на нем поставлен большой трон царя Феофила и сбоку царское золотое кресло. Два серебряных органа двух частей были поставлены внизу за двумя завесами, духовые инструменты были поставлены вне завес. Княгиня, приглашенная из Августея, прошла чрез апсиду, ипподром и внутренние переходы того же Августея и, вошедши, села в Скилах. Государыня воссела на вышеупомянутый трон, а невестка ее на кресло. Вошел весь кувуклий и препозитом и остиариями были введены ранги… Затем вошла княгиня (введенная) препозитом и двумя остиариями, причем она шла впереди, а за нею следовали, как сказано выше, ее родственницы-княгини и избраннейшие из ее прислужниц. Ей был предложен препозитом вопрос от имени Августы, и затем она вошла и села в Скилах. Государыня, вставши с трона, прошла чрез лавсиак и трипетон, вошла в кенургий и чрез него в свою опочивальню. Затем княгиня со своими родственницами и прислужницами вошла чрез триклин Юстиниана, лавсиак и трипегон в кенургий и здесь остановилась для отдыха. Когда царь воссел с Августою и своими багрянородными детьми, княгиня была приглашена из триклина кенургия и, сев по приглашению царя, высказала ему то, что желала. В тот же день состоялся званый обед в том же триклине Юстиниана. Государыня и невестка ее сели на вышеупомянутом троне, а княгиня стала сбоку. Когда стольником были введены по обычному чину княгини и сделали земной поклон, княгиня, немного наклонив голову на том месте, где стояла, села за отдельный стол с зостами по чину. На обеде присутствовали певчие церквей св. апостолов и св. Софии и пели царские славословия. Были также всякие сценические представления. В Золотой палате состоялся другой званый обед; там кушали все апокрисиарии Русских князей, люди и родственники княгини и торговые люди и получили: племянник ее 30 милиарисиев, 8 приближенных людей по 20 мил., 20 апокрисиариев по 12 мил., 43 торговых человека по 12 мил., священник Григорий 8 мил., люди Святослава по 5 мил., 6 людей (из свиты) апокрисиариев по 3 мил., переводчик княгини 15 мил. После того как царь встал из-за стола, был подан десерт в ариститирии, где был поставлен малый золотой стол, стоящий (обыкновенно) в пектапиргии, и на нем был поставлен десерт на блюдах, украшенных эмалью и дорогими камнями. И сели царь, царь Роман Багрянородный, багрянородные дети их, невестка и княгиня, и дано было княгине на золотом блюде с дорогими камнями 500 мил., шести приближенным женщинам ее по 20 мил. и 18-прислужницам по 8 мил. Октября 18-го, в воскресенье, состоялся званый обед в Золотой палате, и сел царь с Руссами, и опять был дан другой обед в пентакувуклии св. Павла, и села государыня с багрянородными детьми ее, невесткою и княгинею, и дано было княгине 200 мил., племяннику ее 20 мил., священнику Григорию 8 мил., 16 приближенным женщинам ее по 12 мил., 18 рабыням ее по 6 мил., 22 апокрисиариям по 12 мил., 44 купцам по 6 мил. и двум переводчикам по 12 мил.».
Как видим, Константин нигде не упоминает о крещении Ольги. Мало того, в ее свите упомянут священник Григорий. Судя по этому, Ольга посетила Константинополь уже крещённой. Впрочем, греческий хронист Иоанн Скилица (к. XI – н. XII в.) писал: «И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по имени Эльга, когда умер её муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и открыто сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому выбору, вернулась домой».
О том, что Ольга крестилась в Константинополе, говорит и так называемый Продолжатель Регинона (считают, что автором был Адальберт, епископ Магдебургский, приезжавший в Киев в 961 г.). При этом он упоминает сына и соправителя Константина, императора Романа II Младшего (959–963), который, скорее всего, и стал крестным отцом княгини.
Дата посольства Ольги в Константинополь заслуживает особого внимания. Если верить летописным указаниям, в момент визита в Византию княгине должно было быть около 70 лет. По мнению Д. С. Лихачева, летописный рассказ построен из двух составляющих: церковной основы, повествующей о крещении Ольги, а также включающей благочестивые рассуждения на этот счет, и дополнивших ее впоследствии светских, анекдотических элементов, фольклорных по происхождению. Самое неожиданное состоит в том, что как раз те фрагменты, которые, как казалось Д. С. Лихачеву, должны быть «диаметрально противоположными по духу этой церковной основе», оказываются переложением библейского рассказа о приезде царицы Савской к Соломону. Сравним библейский и летописный тексты.
В Третьей книге Царств повествуется о том, как царица Савская, услышав о «славе Соломона во имя Господа» и его мудрости, «пришла испытать, его загадками». Она приехала в Иерусалим «с весьма большим богатством». В беседе царица убедилась в мудрости Соломона, который «объяснил ей <…> все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей». Пораженная царица дарит Соломону золото, благовония и драгоценные камни, которые привезла с собой, и заявляет ему: «Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». Затем следует перечень того, что Соломон ежегодно получал в дар от соседних правителей, в том числе «сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов» (3 Цар 10 1–25).
Этот рассказ о визите царицы Савеи в Иерусалим отдаленно напоминает летописную статью о поездке Ольги в Константинополь. Ольга, как и царица Савская, отправляется в Константинополь, чтобы испытать его правителя (как Соломона) загадками. Однако константинопольский император, в отличие от легендарного правителя Иерусалима, оказывается не в состоянии объяснить приехавшей «царице» (да и себе самому) ее вопросы. Не разгадав истинный смысл предложений Ольги, он вынужден против своей воли выполнить все ее желания и признать ее мудрость («переклюкала мя еси», т. е., «обманула меня»). В результате византийский император и древнерусская княгиня меняются «ролями». Теперь он, пораженный мудростью Ольги (как царит Савская, пораженная ответами Соломона), одаривает ее золотом, серебром, дорогими тканями и различными сос удами – всем тем, что Соломон получал ежегодно в дар от соседних правителей.
Такое сопоставление может показаться несколько натянутым. Но в данном случае мы имеем редкое – и тем более ценное – прямое подтверждение своих наблюдений. Завершив рассказ о поездке Ольги, летописец уточняет: «Се же бысть, яко же и при Соломане приде царица Ефиопьская к Соломану…, тако же к си блаженная Ольга искаше доброе мудрости Божьи…». Без него доказать близость образов летописной Ольги и библейской царицы Савской было бы невозможно.
Так, прямое сопоставление княгини Ольги с «царицеи Ефиопскои», собственно, и позволяет отыскать в, казалось бы, фольклорном по происхождению рассказе скрытый библейский мотив – хотя и в карнавальном, «перевернутом» виде.
Такой вариант вполне соответствует смыслу пророчества из Евангелия от Матфея: «Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Матф 12 42). Кстати, именно к этому стиху отсылается читатель и в Хронике Георгия Амартола: «о неи же Господь глагола: «цесарица Ужска приде от конець земли, да видить премудрость Соломоню”».
Повторим еще раз: подобная интерпретация летописного текста могла бы выглядеть спорной, если бы летописец на закрепил ее прямым указанием на тождество Ольги и царицы Савской. Так «фольклорные» сюжеты в летописи оказываются по происхождению сплошь и рядом книжными, наполненными вполне христианским содержанием.
Отождествление Ольги с царицей «южной», «эфиопской» заслуживает особого внимания. По сути, в данном рассказе речь идет о том, что Русь перенимает у Византии пальму первенства в христианском мире – буквально с момента крещения первой княгини-христианки.
Не обошлось без недоразумений и при истолковании летописного рассказа о погребении княгини-христианки. Там не указывается, где именно похоронена Ольга, летописец отмечает лишь: «погребоша ю [т. е. её] на месте». А. А. Шахматов, а вслед за ним М. Н. Тихомиров усмотрели в том «какую-то неточность, вернее оборванность фразы». Но в древнем проложном сказании (под 11 июля) объясняется, что Ольга завещала себя «погрести с землею равно, а могылы не сыпати». По мнению Д. С. Лихачева, «могила Ольги поэтому могла быть плохо известна в народе». Однако о незнании или забвении места погребения знаменитой княгини вряд ли можно вести речь, поскольку позднее ее останки были перезахоронены в Десятинной церкви (хотя летопись об этом и молчит). А чтобы совершить перенесение мощей, очевидно, необходимо знать, где они были первоначально погребены.
Легенды о Святославе
Особое место в летописных легендах занимают предания о сыне Игоря, князе Святославе – фигуре уже вполне исторической. Мы даже можем представить себе, как он выглядел, благодаря всё тому же Льву Диакону: «Государь [Иоанн Цимисхий]… покрытый вызолоченными доспехами, подъехал верхом к берегу Истра, ведя за собою многочисленный отряд сверкавших золотом вооруженных всадников. Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми, бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос[6] – признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды, его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал».
Правда, автор этого описания вряд ли сам видел киевского князя, но, как полагают многие, в целом верно изобразил его наружность, опираясь на рассказы очевидцев. Впрочем, современные историки подчеркивают, что Лев Диакон стремился следовать в таких случаях древним авторам, а облик Святослава в его изложении очень напоминает описание Атиллы, оставленное византийским автором V века Приском Панийским. Тот, скажем, отмечает, что Атилла «во всем… выказывал умеренность: так, например, гостям подавались чаши золотые и серебряные, а его кубок был деревянный. Одежда его также была скромна и ничем не отличалась от других, кроме чистоты; ни висевший у него сбоку меч, ни перевязи варварской обуви, ни узда его коня не были украшены, как у других скифов, золотом, каменьями или чем-либо другим ценным».
В отличие от своей матери, Святослав не склонен был принимать христианство, на что часто обращают внимание современные нам авторы. Бо́льшую часть жизни он провел в военных походах, смысл которых, однако, судя по летописным записям, не был ясен его современникам, якобы заявлявшим ему: «Ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своей ся охабивъ [т. е., свою покинул]». Действительно, князь мало уделял внимания своим собственным владениям, поручив их сначала своей престарелой матери, а затем сыновьям. Зато ему удалось сокрушить могущество Хазарского каганата, дойти до Каспия, а затем несколько лет воевать в Болгарии. С последними походами, предпринятыми по договоренности с Византийской империи, связаны довольно любопытные моменты.
Так, загадкой для современного читателя является заявление Святослава Игоревича: «Не любо ми есть в Киеве быти, хочю жити в Переяславци на Дунаи, яко то есть середа в земли моеи». Если само желание перенести столицу в Переяславец представляется большинству исследователей достаточно логичным (при этом они часто ссылаются на греческого историка Скилицу, который писал, что Болгария привлекала Святослава своими богатствами), то ответить с позиций здравого смысла на вопрос, почему именно Переяславец – середина Русской земли, чрезвычайно трудно.
Естественно, речь Святослава – не протокольная запись, а текст, созданный летописцем-христанином и имеющий, скорее всего, литературную основу, согласно которой, середой земли назывался Иерусалим.
Однако мог ли киевский летописец связывать образ Иерусалима с болгарским Переяславцем? Для такого предположения имеются некоторые основания.
Официальное принятие в 864 г. болгарским князем Борисом I (852–889) христианства из Византии стало прологом к настойчивым попыткам Первого Болгарского царства добиться политической независимости и автокефалии своей церкви. Уже сын Бориса, князь Симеон I (893–927) присвоил титул «василевса ромеев», поставил в 893 г. на болгарскую епископскую кафедру Климента Охридского – ученика и последователя свв. Кирилла и Мефодия, а Преславский собор принял решение заменить греческий язык в богослужении староболгарским. Од новременно Борис перенес с толицу царства из Плиски в Преслав. Сын Симеона, Петр (927–969) в 927 г. путем договора с Романом I Лакапином и женитьбы на внучке императора Марии официально закрепил за собой титул «василевса ромеев». Византия обязалась по-прежнему выплачивать Болгарии ежегодную дань (под видом содержания византийской принцессы), а болгарская церковь получала патриаршество с центром в Преславе (позднее перенесен в Доростол). Таким образом, Преслав в определенном смысле перенимал у Константинополя статус центра православного (при всей условности применения данного термина к этому периоду) мира.
Однако в 963 г. в результате ожесточенной борьбы с сильной внутренней оппозицией Болгарское царство заметно ослабело. Этим попыталась воспользоваться Византия. По договору с византийским императором Никифором Фокой, против болгар и выступил Святослав. Во время первого похода (968) он захватил низовья Дуная, в том числе и город Преславец (Малый Преслав), расположенный на правом берегу Дуная, против озера Балта, между нынешними городами Чернавода и Хърсов (Гирсово). Во время второй болгарской экспедиции (969) Святослав захватил уже самую столицу Болгарского царства – Великий Преслав, взял в плен болгарского царя Бориса II (969–972), все его семейство и брата Романа. В Повести же временных лет под 6479/971 годом сообщается об осаде и взятии княжеской дружиной Переяславца («В лето 6479. Приде Святославъ в Переяславець, и затворишася Болгаре въ граде. И излезоша Болгаре на сечю противу Святославу, и бысть сеча велика, и одоляху Болъгаре. …И къ вечеру одоле Святославъ, и взя градъ копьемъ»). Так что, либо о захвате столицы Болгарского царства летописец умалчивает (что само по себе весьма странно), либо именно ее он называет Переяславцем (возможно, произвольно этимологизируя этот топоним).
Не исключено, что в представлении древнерусского летописца XI в. Малый Преслав мог ассоциироваться с Преславом Великим. Подобное отождествление, во всяком случае, встречается у некоторых современных исследователей. Так, Г. А. Хабургаев прямо отождествляет Переяславец с Преславом: «мы не знаем, какой была бы его [Святослава] политика, если бы ему удалось (как он мечтал) создать единую русско-болгарскую державу с центром в христианском (!) Преславе (Переяславце)», а М. П. Кудрявцев, говоря о том, что Преслав претендовал на роль нового Рима, пишет: «Пять лет русский князь правил Болгарией (967–971 гг.) и пять лет Преслав был княжеской столицей, о которой Святослав говорил: «Ту есть середа земли моей…”».
Тогда заявление Святослава о Переяславце как «середине земли» приобретает вполне отчетливую претензию на то, чтобы киевский князь стал во главе правоверного мира. Подобная мысль звучит почти еретически, тем более что незадолго до того, под 6463/955 г. летописец рассказывал о решительном отказе Святослава креститься. Однако как ни парадоксально, язычество Святослава служит в данном случае дополнительным аргументом в пользу предлагаемого понимания летописного текста.
Свое желание перенести столицу в Переяславец Святослав объясняет так: «ту вся благая сходятся: оть Грекъ злато, поволоки, вина и] овощеве разноличныя, и-Щехъ же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воскъ, медъ и челядь».
Тирада князя может быть соотнесена с рядом библейских текстов. Прежде всего, с пророчеством Иезекииля. С одной стороны, прообразом летописного Переяславца оказывается все тот же Тир: «Тир! Ты говоришь: „я совершенство красоты!“ Пределы твои в сердце морей; строители твои усовершили красоту твою: из Сенирских кипарисов устроили все помосты твои; брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты; из дубов Васанских делали весла твои; скамьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости с островов Киттимских; узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом; голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим» (Иез 27 4–25) и т. д.
С другой стороны, летописный Переяславец – Новый Иерусалим: «вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их…, и будут Моим народом, и Я буду их Богом» (Иез 37 21–23). Этот образ находит определенную параллель и в популярных на Руси сказаниях, согласно которым, в конце мира Христос вновь воцарится в Иерусалиме и возобновит там храм. Богоизбранный народ будет собран в столицу богоспасаемого человечества со всех пределов земли. На пути туда его будут встречать побежденные народы и приносить ему дань и драгоценные подарки, как своему повелителю.
Имеется, однако, еще одна библейская параллель, представляющая, пожалуй, в данном случае наибольший интерес: «Господь подвиг дух Кира, царя Персидского, и он объявил по всему царству своему словесно и письменно: так говорит Кир, царь Персидский: Господь Израиля, Господь Всевышний поставил меня царем вселенной и повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, который в Иудее. Итак, кто есть из вас, из народа Его, да будет Господь его с ним, и пусть он, отправившись в Иерусалим, что в Иудее, строит дом Господа Израилева: Он есть Господь, живущий в Иерусалиме. Посему сколько их живет по местам, жители места того пусть помогут им золотом и серебром, дарами коней и скота и другим и обетными приношениями на храм Господа в Иерусалиме. И поднялись старейшины племен колена Иудина и Вениаминова и священники и левиты и все, которых дух подвиг Господь идти и строить дом Господу в Иерусалиме; а жившие в соседстве с ними всем помогали им: серебром и золотом, и конями и скот ом и весьма многими обетными приношениями многих, которых дух подвигнут был» (2 Езд 2 1–9). Как видим, перечень «вся благая», сходящихся в Переяславце, практически совпадает с приношениями, которые стали доставлять для строительства храма в Иерусалиме, возрождения города и воссоздания богопочитания. При этом стоит подчеркнуть, что возродить Иерусалим и храм Господень, по пророчеству Исаии, должен был язычник – персидский царь Кир: «Который [т. е. Господь] говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: „ты будешь построен!“ и храму: „ты будешь основан!“» (Ис 44 28); «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: …Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня» (Ис 45 1, 5).
Аналогия Святослава с Киром выглядит достаточно плодотворной. Напомним, что о кончине Кира у Геродота сохранилось предание, которое также роднит образы персидского царя и древнерусского князя. Согласно «отцу истории», Кир погиб во время сражения с массагетами (так античные авторы называли среднеазиатские кочевые и полукочевые племена). Царица их Томирис велела найти среди павших в бою труп Кира, отрубить ему голову и бросить в мех, полный кровью, чтобы персидский правитель мог вдоволь напиться кровью, которой он так жаждал.
История с отрубленной головой Кира невольно ассоциируется с рассказом о кончине Святослава. Как мы помним, половецкий хан Куря (кстати, в древнерусских текстах имя Кир передается как Кvpъ, Куpocъ, Кюръ или Куpъ) велел из отрубленной головы Святослава изготовить кубок: «в лето 6480, поиде Святославъ в пороги. И нападе на нь Куря, князь Печенежьскии и убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбе его съделаша чашю, оковаше лобъ его, и пьяху по немь». Естественно, столь колоритная (хотя и очень мрачная) деталь стала общим местом практически в любом рассказе о Святославе-воине. Ее достоверность, однако, вызывает некоторые сомнения.
Дело в том, что аналогичные рассказы – но не о Святославе! – мы находим в греческих Хронике Манасии и в Хронике Георгия Амартола.
В первой из них речь идет о том, как 26 июля 811 г. болгарский хан Крум, победив византийского императора Никифора I, отрубил ему голову, насадил ее на копье, а затем приказал оковать его череп в серебро и в дни больших торжеств пил из этой части здравицу за своих славянских бояр, предлагая и им пить из нее же. Еще больше сближает рассказы о гибели древнерусского князя и византийского императора то, что незадолго до смерти Никифор захватил столицу Крума Плиску, но по пути домой, попал в засаду. Все его воины утонули в болоте или же были перебиты болгарскими лучниками, а сам император пал в битве.
В Хронике Георгия Амартола эта история выглядит так: «Темь съгроустивьси, варваръ [т. е. Крум] въ страны своа входы и исходы, заградивь твердьми древными, пославъ затверди и, за два дьни събравъ воа многы и въ царевь въ шатеръ вшедъ, оуби его и вся велможа его и владоущемъ въиномъ и воинъ бесчислено. Никифору же главоу оусекноувъ, на древе повесивь не за колико дьнии, потомь же обнаживь лъба и оковавъ сребромъ извноу, и повеле пити из неа княземъ Болгарскымъ, хваляся ненасытовствовавшаго и мира не хотевшему». Впрочем, привлечение в данном случае Хроники Георгия Амартола представляется не вполне корректным, поскольку анализируемый рассказ есть в Новгородской первой летописи, а она сохранила текст Начального свода, составителю которого Хроника Георгия Амартола, если принимать выводы А. А. Шахматова, еще не была знакома.
Аналогичный сюжет мы встречаем и в китайских хрониках. В конце 70-х – начале 60-х гг. II в. до н. э. на северных границах Китайской империи тюркоязычные сюнну победили своих главных противников – больших юэчжи. Счастливый победитель – предводитель сюнну Лаошан-шаньюй в честь этого события приказал изготовить из черепа убитого вождя побежденного противника чашу для питья…
Трудно сказать, с чем мы имеем дело в данном случае – с описаниями сходных событий, литературным заимствованием или же культурной традицией тюркоязычных народов (печенегов, протоболгар и их предков-сюнну).
Сообщение о гибели киевского князя летописец дополняет указанием на срок его правления: «И всех летъ княженья Святославля летъ 20 и 8». Геродот также сопровождает рассказ о гибели Кира уточнением: «Царствовал же он полных 29 лет». Не исключено, что такое совпадение могло учитываться летописцем и его читателями как дополнительное основание для ассоциации Святослава с Киром. Можно даже высказать догадку, что отдельные летописные характеристики Святослава должны восходить к характеристикам Кира в одном из известных летописцу (и пока не установленных нами) источников. Впрочем, не исключено, что некоторые из них (учитывая летописное происхождение Святослава от Ольги – «царицы Эфиопской») могут восходить к образу Александра Македонского.
Как бы то ни было, претензия Святослава на перенос столицы в Переяславец на Дунае, скорее всего, отображает представление летописца о том, что Переяславец (Преслав?) выполнял в свое время функцию Нового Иерусалима. Однако тот же летописец, видимо, считал, что к тому моменту, когда Святослав захватил столицу Болгарского царства, та уже начала утрачивать свой высокий статус. Возможно, негативное отношение летописца к отъезду Святослава в Переяславец подкреплялось представлением о том, что «земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих».
Как видим, в этом пророчестве описывается дальнейшая судьба Святослава, отправившегося, вопреки настоянию Ольги, в Болгарию. Между тем, в пророчестве Исаии сказано: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят» (Ис 1 19–20). Как известно, Святослав не захотел послушать своей матери: «Он же не послуша матере, творяше норовы поганьския, не ведыи, аще кто матерь не послушаеть, в беду впадаеть». Действительно, желая жить в земле, куда «вся благая сходятся», он, в конце концов, терпит поражение, его настигают голод и меч. После победы под Доростолом и мира с греками Святослав вынужден отправиться на родину, чтобы привести новые войска, поскольку его отряд почти весь перебит: «И приде Святославъ къ порогомъ, и не бе льзе проити порогъ. И ста зимовати в Белобережьи, и не бе у них брашна уже, и бе гладъ великъ, яко по полугривне глава коняча. И зимова Святославъ ту. Весне же приспевши, в лето 6480, поиде Святославъ в пороги. И нападе на нь Куря, князь Печенежьскии, и убиша Святослава…».
