Из тупика. Том 1 бесплатное чтение
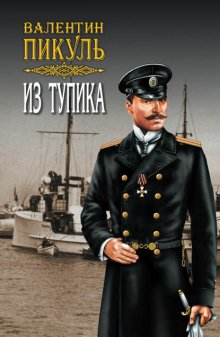
© Пикуль В. С., наследники, 2008
© ООО «Издательство «Вече», 2008
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Александр Блок
- Рожденные в года глухие
- Пути не помнят своего,
- Мы, дети страшных лет России,
- Забыть не в силах ничего.
От автора
Эта книга – исторический роман-хроника. Необходимого для любого романа вымысла в этой книге столько, сколько требуется от автора, чтобы связать воедино людей и события.
Большинство героев романа – образы собирательные, и если кто-либо узнает себя в моих героях, то это будет лишь совпадением (совпадением случайным).
Приводимые в книге документы, записи отечественных разговоров, телефоно- и радиограммы (за исключением незначительных или сугубо частных) приводятся мною дословно, лишь иногда подвергнуты сокращениям, которые оговорены в тексте книги.
Хронологическая канва сохранена в романе, по возможности, в точности – как можно ближе к фактам, потрясавшим тогда весь мир…
Я писал эту книгу, часто и подолгу думая о моем друге – Андрее Александровиче Хршановском.
Он был редактором моей первой книги и стал моим другом.
Его памяти, светлой для меня и для многих, я и посвящаю этот роман, который он уже никогда не прочтет.
Проникновение
Книга первая
Очерк первый. Годы в броне
Дорога первая
Вот этим затупленным ножом форштевня распороты страницы двух великих океанов; воющие за кормою винты накрутили на счетчиках сотни боевых дней. Пространство и время, время и пространство, часы и лаг: два круглых табло в ровном жужжащем свете. Правда, в этой стихии было еще и третье измерение – глубина. Но корабельный лот, наотмашь кинутый в темную тайну, не может прощупать грунтовых хлябей, вечно утопающих в бездонном мраке.
От этого и шутки на крейсере злы, безнадежны:
– Да, в такой речке нашим пескарям делать нечего, одна хорошая мина от немца, и нырнем – как кирпичики…
Громыхающая орбита войны охватывала земной шар от Дувра до Гонконга, и по этой орбите – зигзагами! – двигался русский крейсер первого ранга «Аскольд». Изношенный корпус корабля-ветерана трясла окаянная вибрация, а команду трепали тропические лихорадки; матросов мутило от вератрина и салофена, от дурной пищи и дешевой банановой водки.
«Аскольд» болтало у черта на куличках – там, где Россией и не пахло, – между Филиппинами и Японией, от Адена до Коломбо. В погоне за немецким рейдером «Эмден» дошли до Кокосовых островов; вожди диких племен дарили русским морякам свиней. А чтобы свиньи не подохли от голода, их снабжали и кормом – ананасами. По традиции (нигде не писанной, но святой) дары делились сословно: свиней отсылали на камбуз – матросам, в кают-компанию – ананасы. Среди ночи, бывало не раз, крейсер едва не давил японские кавасаки. Сонные рыбаки в белых киримонэ махали «Аскольду» фонарями из промасленной бумаги:
– Русики матросики хоросо, хоросо… Банзай!
И темной, жарко дыщащей громадой мимо проносился русский крейсер – вперед, во мрак, в неизвестность. Не однажды блуждали и возле проклятой Цусимы, злобно сплевывая в шипящую воду. А назавтра, уже в притонах Сингапура, их встречали дешевые женщины; прически у них – в бамбуковых сеточках, на ногах – мужские носки из германского фильдекоса.
Матросы пьяно рвали на себе рубахи, кисло и неумно плакались:
– Слышь, косая? Платочек-то – во… Грунькин ишо! Кады прощались, Грунька-то и грит: «Ждать, мол, стану, родима-ай…» Доколе ждать-то? Весь я, как есть, моряк Тихого океану, и нету мне никакого спасения. Держи, косая, платочек тебе на память… Он еще не засморкатый!
Команда «Аскольда» состояла из людей послуживших. Пора бы домой вчистую, когда грянул нелепый выстрел в Сараеве, и – прощай, сундуки и чемоданы, на которых намалеваны гордые надписи: «МОРЯК ТИХОВА ОКЕАНУ». Теперь же, в составе особой Эскадры Китайской Станции (под русским флагом, но под британским командованием), ходили в кильватере заодно с хищными японскими крейсерами «Ибуки», «Чикума» и «Накасима». Одно плохо: туго доходят письма из заснеженных деревенек России до тропической Манилы… Ай как туго!
Российский посланник в Токио заверил командира крейсера, что почта нагонит «Аскольд» на заходе в Коломбо. Но разве можно верить дипломатам? На Цейлоне было все, что душе угодно для разгула (мичмана Женьку Вальронда даже нагишом с берега привезли). Но вот писем… увы, не было. Потом консул в Бомбее сообщил, что французский угольщик уже вышел в порт Носси-Бэ, – очевидно, союзная служба доставит туда же, вместе с углем, и почту.
Будем надеяться… И три винта снова взорвали воду за кормою крейсера.
Раскаленный тропический купол, пронизанный выстрелами, искрами радиопередач и воплями тонущих экипажей, зыбко нависал над дрожащей палубой. Задраенные в броневых коробках, вахты задыхались. А в кубриках шуршащие полчища тараканов ползали по влажным от пота телам матросов – лезли в рот, в уши, в ноздри. Отвращение давно притупилось в людях, и тараканов давили пальцами – на хлебе; хрустели они под пятками – на палубном линолеуме. Зато шесть обезьян-лемуров, купленных офицерами по пьяному делу, стали друзьями матросов: они беспощадно уничтожали легионы прусаков. Самца-лемура, охотно крывшего самок на вантах под небесами, матросы прозвали точно – Гришкой Распутиным… Постыло все. Окаянно!
Далеко в океане стали выплескивать миски с супом. Причина тому «потемкинская»: суп плох, приготовленный из аденских запасов верблюжатины. Командир крейсера каперанг Иванов-6 разволновался:
– А что они хотят после захода в Аден? Не марципаны же будут подавать нам союзники. Впрочем, постройте команду на шкафуте по малому сбору. Офицерам явиться тоже…
Построились. Высохшие от жары. Настилы палуб, словно раскаленные сковороды, обжигали босые пятки. С кормы крейсера, где стояли походные курятники, вдруг запел петух. Так хорошо, так сладко вспомнились русские прохладные рассветы… В белых пробковых шлемах, в прозрачных сетках на голом теле, под покровами тентов сгрудились офицеры. Иванов-6 развернул в руках бумагу, и ее сразу же скомкал ветер океана.
– Претензии команды, – прокричал он зло, – да, основательны: верблюд еще не скотина! Но вы желаете бунта на корабле? В такой час, когда весь мир потрясен варварством новых гуннов… Слушай приказ! Приказ германского кайзера, обращенный к немецким солдатам на Восточном – на русском же, нашем! – фронте…
Ошалело дрогнули ряды. Вытянулись шеи матросов.
Ветер рвал и уносил в безбрежие слова бесноватого кайзера:
«…помните, что вы, немцы, избранный народ. Дух божий сошел на Меня, ибо Я – император великой германской нации, Я – орудие Всемогущего, его Меч и Воля… Уничтожение, и смерть всем, кто противится, всем, кто не верит в Мою божественную миссию… Да погибнут все враги германского народа! Бог, вещающий ныне через Меня, требует от вас исполнить Его святую волю!..»
А в группе офицеров были и такие природные «русаки», как фон Ландсберг, барон Фиттингоф фон Шелль и прочие. Что они думали, слушая приказ кайзера, это пусть останется между ними. Иванов-6, пустив бумажку по ветру, кричал уже о своем – кровном, русском, наболевшем:
– Бунтовать… так растак! Бунтуйте. Играйте на руку подлого кайзера. Я недаром прочел вам его приказ. Чтобы вы, сучьи дети, знали – враг жесток и опасен… Россия ведет войну за свое сохранение. Сейчас вершится судьба всего мира, а вы… Верблюда жрать испугались? А в деревне соломка с крыши – что? Разве вкуснее?!
Выкричался. Обмяк. Вспотел. И – уже спокойнее:
– Ребята! – сказал. – Верблюд еще не повод для бунта. Дай нам говядину – тоже стухнет. Спросите у машинной команды: холодильники у нас текут, «Аскольд» три года не был в ремонте. Зачинщиков я не ищу. Бог им судья… Боцман! Свистать команде: по работам…
Иванов-6 был крикун, сумасброд, но мужик добрый. Всю аденскую верблюжатину он велел бросить за борт. И сине-грязные лоскутья мяса, источенные червями, быстро растащили акулы. Неутомимые и юркие, они, будто шатуны гигантской машины, бойко сновали под днищем крейсера, вымахивая хвостами то справа, то слева по борту. Рябило в глазах от порывистости.
– До чего же ловко работают! – дивились на палубах. – Ай да шамают! Будто солдат крупу казенную. Вот, Сергунька, тебя бы туда – к ним, человечинка-то стервам небось нравится…
Трюмный механик мичман Носков заметил за ужином:
– Сегодня я ощутил себя в пятом году, когда прозвучала «альфа» русской революции. Нельзя ли по сегодняшней вспышке судить об «омеге»?..
Но ложка в руке старшего офицера Быстроковского звонко брякнула по краю тарелки.
– Господа, господа! Кают-компания нашего славного крейсера не для политических разговоров. Поговорим о дамах…
И до самого Носси-Бэ команда сидела на английских консервах из крольчатины. Хлебали тошную воду из опреснителей, словно касторку. Французский угольщик – да! – ждал их на рейде. В погрузку похоронили двоих: один задохнулся в бункере от угольной пыли, а второго убило разрывом перегнившего топенанта. В конце работы люди падали там, где стояли, прямо на уголь. Черные, они лежали на черном угле, и черные курицы квохтали из черной пыли. А вечером к борту подгреб вельбот, с кормы его поднялся, зябкий от малярии, лейтенант Корнилов (ревизор крейсера) и хрипло выстрадал в матросские лица:
– Консул обманул: и здесь нет писем. Будут завтра финики, свинина, папайя, бананы. А почта, говорят, ждет в Порт-Саиде… Руку! – выкрикнул он. – Фалрепные, тяните меня, черт возьми, опять трясти начало… Боже, мука какая!
Французское командование велело принять в Порт-Саиде на борт полный комплект боезапаса. Матросы, в ряд с полуголыми арабами, взялись за дело. Арабы кричали: «Эго-эга! Эга-эго!» Русские подхватывали: «Айда! Полундра!» И разнесли по погребам целую баржу жирных снарядных болванок (так, наверно, муравьи гуськом переносят тяжкие яйца, в которых вся суть и надежда колонии).
А после погрузки – шепоты: мол, письма еще во Владивостоке застряли, на Сибирской флотилии, и направлены прямо во Францию. В кубриках все чаще слышалось:
– Тулон! Братцы, в Тулоне этом на ремонт станем…
Но вместо зеленых берегов Прованса поплыли в мареве миражей берега Палестины и Сирии, нещадно прожаренные солнцем; пустынный хамсин душил матросов – горячо и сухо. Около Бейрута «Аскольд» беглым огнем потопил турецкое авизо; носовая башня мичмана Вальронда удачным попаданием накрыла немецкий транспорт. Началась славная каперская служба крейсера, о которой писали тогда газеты – английские, французские, бельгийские, русские.
В этом большом человеческом мире, где-то на морских перепутьях, затерялись русские письма. Писали их бабы, коряво и неумело, при свете лучинок, клеили жеваным хлебом, мочили слезой… Боже ты мой! До чего же далеко от деревни Ломтяево до обожженной библейской Хайфы! Какой большой мир! Какое страшное время!
Ночь, ночь… Всюду ночь. С берега доносятся запахи оливковых жмыхов и сезама. Вот она, Хайфа, – замерла, дикая. Иудейско-британская, но под сапогом немецко-турецким. Строго отпечатались на небосклоне башни турецких минаретов и плоский купол еврейской синагоги. Давно погасли огни на вышке австрийского Ллойда, тихо-тихо стрекочет вдали мандолина.
Ни возгласа, ни огонька, ни искры…
Такой запомнилась эта ночь под Хайфой, когда команда крейсера совершила каперский подвиг. Закравшись в Аккскую бухту, аскольдовцы дерзко вытащили в море немецкий пароход. Как призрак – вошли, как призрак – ушли, прочь от берега, в ночной простор… Немецкий капитан опомнился только в салоне, когда Иванов-6 преподнес ему бокал с ромом:
– Prozit! Ваше судно в плену. Выпейте, капитан, и можете попрощаться со своим кораблем, который мы сейчас уничтожим…
Одинокая торпеда долго бежала в темноте, вспенивая лунную дорожку керосиновым газом… Взрыв! И долго еще рыскал прожектор над Хайфой, отыскивая пропавший из гавани пароход.
Крейсер «Аскольд» имел отличную репутацию. Но война не сблизила офицеров с матросами, как это бывало зачастую в окопах. Кастовая перегородка на флоте покрыта броней в три дюйма. Был боевой корабль. Но никогда не было боевой семьи.
С бортов крейсера выдвинули длинные бамбуковые палки с антеннами, и тогда радиотелеграфисты смогли уловить трепетные сигналы с Эйфелевой башни. Париж приказывал «Аскольду» войти в состав англо-французской эскадры – для совместных действий в Дарданеллах. Английский адмирал Гепратт настоятельно требовал от «Аскольда» дать фуль-спит (полный ход).
– Попробуем дать, – сказал Иванов-6.
Дали фуль-спит, и от вибрации корпуса полетели на корме расшатанные заклепки.
Так все начиналось… Чем-то все это кончится?
Глава первая
Галлиполи – длинный жаркий язык земли, высунутый в море и готовый слизнуть любого, кто рискнет проскочить в Дарданеллы, к подступам турецкой столицы.
Тонкие столбики минаретов, словно призрачные пальцы Шехеразады, поют в синем небе о чем-то несбыточно-давнем – почти пропаще, ликуя гибелью оттоманской славы. В орудийных прицелах крейсеров колышется на волне сказка Востока, будто кусочек айвы в прохладном шербете, и так загадочно, и так блаженно мнится каждому укрытая за фортами тихая гаремная жуть.
Где же тот щит славянства, прибитый еще Олегом к вратам Царьграда? Неужели навсегда он обрушен? От этого отзывается в сердце русского болью той, еще ветхозаветной, что стонет в жилах России какой уже век…
Галлиполи – мы уже здесь, в воротах Босфора!
Именно здесь, во взрывчатых бурунах, на жестких каменных пляжах, вдребезги гробились вчера десантные баркасы. Эшелон за эшелоном – в пену, в огонь, лицом в песок, пальцами в колючие водоросли. И ходуном ходила, беснуясь, прибойная волна – вся розовая от крови… Там, где прошел когда-то Фридрих Барбаросса с мечом в волосатой лапе, теперь не могла пройти лязгающая бронею Антанта: против нее – нищие, с верой в аллаха, турецкие редифы во главе с «воистину османским» маршалом Лиман фон дер Сандерс-пашою.
Но операция по прорыву в Дарданеллы продолжается. Настойчиво, как умеют это делать англичане: сегодня – метр, завтра – метр, глядишь, два метра отвоевали. Через несколько дней готова футбольная площадка для игры: гол, гол, гол! А остальное пусть заканчивают прибывшие из колоний индийцы, арабы, египтяне и прочие…
На рассвете первыми выступают из мрака позлащенные солнцем аэростаты, привязанные к мачтам элегантной яхты «Моника». Дымят, словно покуривая, мрачные леди-дредноуты «Куин Элизабет» и «Жанна д’Арк»; в отдалении вцепился в грунт лапами якорей молчаливый крейсер русского флота – «Аскольд». Корабли еще спят, утомленные вчерашним боем; остывает за ночь гулкая горячая броня. А пока команды не проснулись, надо убрать из их памяти все то черное и ненужное, что будет мешать этим людям идти на смерть сегодня – так же смело и безрассудно, как ходили они вчера.
И вот точно в четыре тридцать по Гринвичу над рейдом раздается сирена – это спешит французский эсминец под черным вымпелом.
Вой сирены растет, и мичман Вальронд стряхивает сон. Даже не сон, а дремоту, вернее – остатки дремоты. Первым делом – взгляд на стакан, обмазанный изнутри маслом; стакан доверху полон тараканов – и сразу летит в иллюминатор. Рука привычно дергает грушу звонка, после чего – за переборкой – тихие, но четкие шаги ночной вахты.
– Павлухин, – спрашивает мичман, зевая, – где он сейчас?
– Как всегда, ваше благородие: начнет с англичан, потом французов обойдет, а в конце уж и к нам, православным.
Мичман пружиной срывается с койки; тонкие сиреневые кальсоны плотно облегают его сытые ляжки. Павлухин, пользуясь интимностью обстановки, спрашивает:
– А вот, господин мичман, насчет Тулона-то как?
– Это где напечатано?
– Да на баке у фитиля матросы печатают.
Вальронд отмахнулся:
– «Баковый вестник» – издание нелегальное и цензуре не подлежит… Разве ты не видишь, что Адмиралтейство пустило нас на износ? Коробка старая – жалеть нечего. Пока от нас бульбочка на воде не останется, мы будем плавать, Павлухин… Давай, гальванный, буди попа. А я, кажется, успею под душ!
В офицерской ванной Вальронд разглядывает в зеркало свое лицо – молодое, с крупным носом; родимое пятно на щеке мичмана придает лицу особую пикантность, почти девичью. Вскрикнув от холода, он прыгает под соленый дождик забортной воды. С наслаждением моется. Мичман молод и счастлив – ему очень хорошо.
Павлухин тем временем выдирает из ужасной беспробудности крейсерского отца Антония:
– Ваше преподобие! Эй, отец Антоний… Да сколько же трясти можно? Гробовщик сюда режет… полным ходом, говорю!
– Сколько? – И священник нехотя открывает глаз.
– Узлов пятнадцать дает.
Священник сует себе в бороду толстую папиросу, говорит тускло:
– Зафитили! – И глядит в иллюминатор, следя за разворотом эсминца. – Рази ж это пятнадцать? Барахло ты, гальванер, а не матрос. Тебе бы в студенты пойти… Да по буруну видать, что узлов десять, не больше…
Павлухин бумажкой берет огонька от божьей лампадки:
– Курите скорей, ваше преподобие. И не засните снова.
– Знаю, – говорит поп. – Все знаю. Без меня и котенка не утопят, ежели он православный. Пошел ты вон…
В отсеках крейсера сладкий дух танжерских фруктов, загнивших в провизионке. Кое-где, особенно в трехдюймовом каземате, запах разложения крови, затекшей под линолеум. На дверях корабельной лавки и сберкассы висят купеческие замки и болтается объявление, писанное рукой отца Антония: «Обмен франков на нашенские рубли и обратно – по требованию верующих».
На трапе Павлухину снова встречается Вальронд.
– Последнее и самое противное, – говорит мичман, и они молча следуют вдоль серой брони, пробитой заклепками.
Дверь душевых для нижних чинов. Вот где хорошо спасаться от хамсина: прохладный рай корабельной бани… Рука нащупала выключатель, и брызнул свет. На цементированном поду лежали два кокона, зашитые в парусину, крепко простеганную дратвой. Не сразу угадывалось, что это – люди. Обложенные кусками подталого льда в опилках, они уже были готовы принять последний всплеск чужестранной пучины. И сбоку одного подтекла жидкая кровь…
– В прошлый раз, – сказал Вальронд, – французы заставили перешивать заново. Когда будем передавать с борта на борт, ты, Павлухин, как-нибудь загороди, чтобы кровь не сразу заметили с эсминца… Батька встал?
– Так точно. Тяжело вставал. Видать, с похмелюги.
– Ему не привыкать, – ответил мичман.
Вой печальной сирены послышался совсем рядом. Мягко прессуя пробковые кранцы, миноносец притулился под бортом русского крейсера. Палуба его была устлана пальмовыми ветвями, мачты и снасти обвиты черными трепетными лентами. Собранная с эскадры жатва полегла на минных рельсах, словно побитые колосья. Но все отдельно: католики, протестанты, лютеране, англиканцы (было оставлено место и для схизматов-православных).
Мостик эсминца, жидкий и балясный, качался вровень с бортом крейсера. Молоденький командир-француз облокотился на поручень мостика – почти лицом к лицу с Вальрондом. Разговор между ними происходил, как в трактире у винной стойки, – не хватало только перезвона бокалов.
– Сколько у вас? – спросил миноносник у мичмана.
– Всего двое. – И Вальронд показал ему два пальца.
– Тре бьен, тре бьен! – восхитился француз, оглядывая сверху свою палубу. – Мы думали, у вас будет больше, и я уже беспокоился, как бы всех уложить респектабельнее… Однако у вас что-то немного сегодня! Вчера было больше.
– О, не волнуйтесь, – ответил Вальронд. – Мы с нетерпением ждем вас завтра. Припасем побольше… как раз сегодня!
Мичман наметанным глазом моряка определил – не слишком ли навалился «француз» на кранцы, не сдерет ли с борта крейсера окраску. Сверху палуба эсминца казалась узенькой, как тропинка. А трупы убитых, зашпигованные в стандартные мешки, что-то напоминали. Но – что? Похоже на матросские чемоданы, с которыми едут домой вчистую…
Затылок уже припекало солнце. День будет горячим.
Тут ирландский патер, стоя над своими англиканцами, заметил отца Антония, и вспыхнула вдруг самая нежная дружба. Патер заревел на весь рейд, размахивая молитвенником:
– Туни, хэлло… Туни! Уыпьем уодки, Туни…
– Хэлло, Джонище, – отозвался аскольдовский поп. – Камарад ты мой разлюбезный… Дурья твоя башка!
Женька Вальронд посоветовал с высоты борта:
– А вы, святой старче, не слишком-то в бутылку залезайте. Ваше пламенное преподобие потом из запоя лимонадами да молитвами по пять суток всей командой выпрягаем.
– Ты меня не учи… мичманок. Ишь какой вислоухий нашелся! Я-то хоть запойный, оно всем понятно, а с чего ты пьешь?..
Подобрав долгополую рясу, священник ловко спрыгнул на миноносец, и командир ударом ладоней привычно сдвинул телеграф. Сразу взбурлила сонная вода рейда, и два борта разомкнулись.
– Бон вояж! – помахал француз рукою.
– Бон… бон, – нехотя отозвался ему Вальронд.
А на палубе крейсера, словно вброшенный волной из-за борта, вдруг оказался матрос. Весь в черном (в тропиках от черного на «Аскольде» отвыкли), башка уехала в плечи, он жикал дыркой на месте выбитого переднего зуба.
– Откуда? – спросил его Павлухин мимоходом.
– Иж Мешшины…
– Чего? Чего? – не поверил гальванер.
– Шидел там в тюряшке.
– У итальянцев-то? – хмыкнул Павлухин. – За что?
– Жа политику, яти ее…
– Ко мне! – приказал Вальронд.
Подлетел мелким бесом, сорвал бескозырку:
– Штрафной матрош второй штатьи Иван Ряполов, – ешть!
– Не ори, дырявый. Команда еще спит.
– Так тошно!
– Э-э, брат, – протянул Вальронд, заглядывая в пасть матросу, – у тебя в зубах немалый убыток. Слушай, тебя я вижу, а… Где барахло твое?
– Оштавил навшегда в жнойной Италии, – ответил матрос.
– На шкафут! – скомандовал мичман, и Ряполов сорвался с места. – Стой. Замри. Когда объявят побудку, обратись к боцману Власию Трушу, и – в писарскую. На оформление! – Вальронд глянул на часы, повернулся к Павлухину: – Гальванер, я бужу командира, а ты ломай горнистам пятки к затылку. Осталось семь минут до пяти, и… боцмана тоже! Пусть встает, старая ананасина!
Далеко-далеко, разводя высокие буруны, уходил траурный миноносец, и по рельсам его палубы – не мины, а людей! – будут сейчас скатывать по порядку религиозного калибра…
Иванов-6 – это уже фигура на флоте (без часу контр-адмирал). Правда, где-то под шпилем петербургского Адмиралтейства сидит грозный Иванов-1, чином повыше. Но быть и шестым в свои пятьдесят лет не так уж мало. Один бог знает, как трудно человеку с незначительной фамилией «Иванов» выбиться наверх – при том страшном засилии немецких имен на русском флоте…
Впрочем, помимо номера офицеры на флоте имеют и негласные прозвища, даваемые от матросского остроумия. Командир «Аскольда» за свою позднюю женитьбу на хабаровской девице, дочери видного шулера, получил прозвище «Ванька с барышней». Портрет этой барышни, изменявшей ему с лихими мичманами, висел в салоне, намертво привинченный к переборке шурупами. Весьма добросовестный и честный офицер, Иванов-6, казалось, смолоду был окрашен под масть корабельной брони – маскировочно-серо. И твердо держался морской традиции: не сближался ни с офицерами, ни с матросами.
От самого днища, тяжко паря, громоздились ряды казематов и палуб – это для матросов. В пятиместных каютах – над матросами! – располагалось буферное государство фельдфебелей и боцманматов, обязанных передавать сверху вниз все тычки и рявканья, оберегая при этом верхние слои от яростных взрывов в нижних палубах. Над «шкурами» размещалось уютное, обшитое бархатом и панелями царство офицерских кают и кают-компании. И уже совсем высоко, под самым мостиком, сверкал салон Иванова-6 с зеркальными окнами вместо иллюминаторов…
Вальронда Иванов-6 встретил уже одетым.
– Спасибо, Евгений Максимович, я давно встал. Мне плохо спится… душно. Эсминец отошел?
– Да, Сергей Александрович. Сдали два номера.
– В трюмах?
– Полтора фута.
– А что Федерсон?
– Инженер-механик лег в три часа. Совсем недавно.
– Все равно – будите. Воду надо откачать хотя бы до фута, иначе динамо заглохнет, как вчера. А сегодня нам опять идти под Ени-Шере, под огонь батарей… Что у нас в погребах?
– Незначительный дефицит влажности. Для порохов неопасен…
Иванов-6 уже знает, что Вальронд – мастер поговорить о порохах и прочем, что касается артиллерии. Командир носового плутонга был списан по болезни еще в Гонконге, и молодой мичман заступил на его место. Очень большая честь – совсем молодым вести носовой сектор огня крейсера первого ранга.
– К тому же, – продолжает Вальронд, – у нас отличный погребной мастер – матрос Бешенцов!
– Это тот, который… баптист? – спрашивает Иванов-6.
– Да, Бешенцов – баптист, я брал у него читать всякую ерунду, вроде прохановских «Гуслей»; ничего в этих гимнах не понял. Но и вредного не нашел тоже… Бешенцов – хороший матрос!
Из-под койки командира вылезает толстый, зажравшийся питон-боа, которому Иванов-6 перебил на охоте в джунглях палкою позвоночник. А потом пожалел гада и теперь таскает на крейсере по морям, изводя на эту рептилию казенное мясо.
– На место! – говорит каперанг, треснув удава шлепанцем по башке, и спокойно спрашивает далее: – Радио?
– Ночью была шифровка, переданная нам с «Куин Элизабет», у англичан станция дальнобойная – они и Лондон могут принять.
– А нам? Откуда?
– Очевидно, был принят Севастополь.
– Отлично, отлично. Ну, я вас более, мичман, не держу. Спасибо за вахту… Кстати, происшествий не было?
– Нет. Только французский гробовщик доставил на борт штрафного. По-видимому, матрос отбился от своего корабля.
– Хорошо, Евгений Максимович, ступайте…
Не накинув даже пижамы, в одной сетке на жирной груди, Иванов-6 проследовал вдоль салонного коридора. Мягкие пыльные ковры глушили его шаги. Походя, каперанг двинул костяшками пальцев в полированную дверь каюты старшего офицера.
– Роман Иванович, – сказал, не задерживаясь, – пора…
И прошел мимо, не дождавшись ответа. Он командовал крейсером, а старший офицер Быстроковский – командой этого крейсера. И от этого у них бывали нелады, ибо методы общения с матросами были разные. Иванов-6 усмехнулся: «Ванька с барышней» – это еще пустяки, милая шутка скучающих людей. А вот известно ли Быстроковскому, что ему дано прозвище «Сопля на цыпочках»? – за его умение подкрадываться к матросам… Иванов-6, как и большинство людей флота, – матерщинник. Но зачем изобретать обидные слова для матросов: рвань, скважина, падаль, как это делает Быстроковский? Пусти матроса по матери до седьмого колена, но… не обижай человека! Тогда служба крейсера пойдет как по маслу.
Коридор салона кончается тупиком, и в нем – узкая дверь, на которой медная табличка, очень броская:
Иванов-6 смело толкает эту дверь. Ему, командиру крейсера, морскому министру да еще его императорскому величеству, сюда входить можно. Здесь святая святых корабля: шифровальная служба. И навстречу каперангу встает тощий, но крепкий кондукто́р[1], с остро закрученными кверху усами. В руке его (жилистой, как у мужика-хлебороба) изящный японский веер. Он сначала неуверенно подносит его к лицу: фук-фук-фук. Мол, не оскорбит это вас? Нет, Иванов-6 на такие пустяки не обращает внимания, и тогда шифровальщик машет веером – ловко, словно опытная киотская гейша. По телу кондукто́ра, несмотря на ранний час, струями сползает острый, едучий пот.
– Время получения: три – двадцать. Время: четыре – восемь, – докладывает он, – закончил расшифровку. Не осмелился будить вас, ибо ничего спешного не обнаружил.
– Садитесь, Самокин. – И сам каперанг плотно усаживается в плетеную индийскую качалку под опахалом электроспанкера. Читает: «…существуют ли на крейсере большевистские антивоенные настроения, и если да, то просим…» – Спичку!
– Милости прошу. – И кондукто́р чиркает спичкой.
Иванов-6 сует шифровку острым углом в огонек. Бумага корчится в руке, быстро сгорая, и пепел брошен в раковину.
– Здесь же, слава богу, не Кронштадт, – говорит командир «Аскольда», пуская воду из крана, и вода сразу уносит пепел в морское небытие под корабельное днище. – Здесь люди воюют! Они устали – так, я согласен. Но воюют не за страх, а за совесть… А ваше мнение, Самокин?
Веер вдруг замирает в руке кондукто́ра.
– Россия, ваше высокоблагородие, – отвечает Самокин, подумав, – страна военная…
И тут начинают реветь над палубой горны, соловьями-разбойниками разливаются дудки боцманматов: «Вставать! Койки вязать! На молитву – товсь!» Первые матюги косяком влетают в иллюминатор секретной каюты – ранняя обедня уже началась.
Иванов-6 подцепляет ногой свалившийся шлепанец.
– Это не ответ на мой вопрос, Самокин. Это скорее ответ военного человека…
– Военному человеку! – подхватывает Самокин, и командир «Аскольда», усмехнувшись, оставляет кондукто́ра в его секретном отшельничестве.
Этот немолодой шифровальщик, живущий по соседству с салоном (полуофицер, полуматрос), казалось, не подлежал карам уставным, а только небесным: случись «Аскольду» гибель, и Самокин, обняв свинцовые книги кодов, должен с ними тонуть и тонуть, пока не коснется грунта. И – ляжет, вместе с книгами, мертвый.
Таков закон! Потому-то надо уважать человека, который каждую минуту готов к трудной и добровольной смерти на глубине. На той самой глубине, куда из года в год уносится пепел его секретных шифровок.
Борзыми гонялись по палубам и трапам фельдфебели-боцманматы Михальцов, Ищенко, Маруськин, Скок.
– Вставай! – орали. – Уже «Мокку» несут!
Из люков кубриков, откуда душно парило человеческим потом, неслось в ответ обратное:
– А, мак-размяк, опять эта какава… А кады же чай?
– Доплавались! Скоро душегубы кофию нам будут заваривать!
– Тише лайся, собака! Труха сверху сыпет…
В жилую палубу уже спускался боцман Власий Труш – грудь колесом (от денег, накопленных еще с Владивостока, которые он всегда под форменкой носит).
– Я вот тебе покажу «труха сыпет»! – с ходу накинулся он на Шурку Перстнева. – Ты у меня сам трухой гадить станешь… А ну, покажь койку свою! Как связал?
Тугой сверток койки (а внутри ее жесткий матрас из пробки) пролетел над палубой – хлоп! – прямо в грудь Труша, на которой тысчонки полторы уже собралось. Власий – мужик крепкий: даже не крякнул, и койка матроса, прыгая, мячиком отскочила прочь.
– Слушай, Шурка, – миролюбиво сказал Труш, – здесь тебе не Кронштадт, чтобы пижонство свое показывать. Здесь тебе Палестина самая настоящая. – И, сказав так, Труш перекрестил свои сбережения. – Слава те, хосподи, – помолился он, – сподобились у святых мест побывать. Вот изжарю тебя, – закончил он безо всякого перехода, – на солнышке, Шурка… И очень просто!
Погребной мастер Бешенцов был баптистом особого склада: его так долго тиранили за отклонение от веры – и отец Антоний и сами верующие, – что он стал буйным и злобным. Бешенцов никого не убивал, согласно заветам своей веры, но исправно подавал из погреба снаряды, чтобы другие убивали…
– Когда будешь жарить, – сказал он Трушу с лютостью, – не забудь с боку на бок его поворачивать. Чтобы он хрустел потом, язва князя Кропоткина!
– А ты, божия слезка, не капай тут, – оскорбился Шурка.
– Подбери койку, – велел ему Власий Труш.
Подбирать койку, когда накал остыл, было стыдновато. Но пришлось уступить силе и власти.
Пожилой Захаров сказал Шурке:
– Эх ты… ключ от сундука с клопами! Уж коли кидаешься, так надо так шмякнуть, чтобы труха одна осталась…
Перстнев, покраснев, зализывал свою буйную гордость:
– Господин боцман, да ведь злоба берет… Ну скажи на милость. Нас будят в пять. Французов – в шесть. Англичане, их в семь подымают. Неужто так надо, чтобы одних только русских, словно собак с цепи, среди ночи срывали?
– Поднял коечку? – спросил Труш. – Вот и молодец ты у меня, Шурка… А служить бы тебе прямо на мериканском флоте. Там когда захотят, тогда и пролупятся. И сразу в бар, к девочкам!
По трапу – тра-та-та-та – Павлухин.
– Боцман! Новый матрос тебя шукает, Ряполов.
Матросы пулями летают по крутизне трапов, словно опереточные бесы, в дыму и в грохоте. Но тут случилось такое, чего уже давненько даже от пьяных не видели на «Аскольде»: новый матрос, боясь крутизны, лез в кубрик не грудью вперед, а – задом…
От такого подлого нахальства стало тихо. Только поскрипывали спущенные на цепях для завтрака обеденные столы.
– Корова! – заорали все разом. – Назад! Вниз! Пулей!
И новый матрос брякнулся к ногам боцмана.
– Собери свои мослы, – сказал Труш. – Раскидался тут…
– Матрош второй штатьи штрафной Ряполов…
– А за что – штрафной? – навострился боцман.
– Жа политику поштрадал…
– Ну, пойдем, «штрадалец». – И Труш крепко взял его за ухо.
Вся палуба комендоров так и осела в дружном хохоте:
– Ай да штрадалец! Повели голубя… Теперь ему до конца службы из гальюна не выбраться!
Отправив Ряполова в писарскую, боцман столкнулся с Быстроковским и, сделав преданнейшее лицо, пожаловался:
– Ваше благородие, ну прямо сладу нет с ыми… С эфтой вот палубой, где из носовой «хлопушки» живут. Волки прямо, а не люди. Так и шпынят, так и шпынят. И слова им не скажи!
– Хорошо, боцман. Я передам Вальронду, чтобы унял своих оболтусов. Носовой плутонг, и правда, избаловался…
Лейтенант Корнилов, розовощекий юноша, вывел на прогулку своего красавца дога Бима: собака после ночи наделала на палубе, и лейтенант задиристо крикнул:
– Эй, пентюх! Подбери… – первому попавшемуся матросу.
Этим «пентюхом» оказался трюмный Сашка Бирюков.
– Ваше благородие! – с хитрецою ответил трюмный. – Вот наделайте вы здесь любую кучу, и Сашка Бирюков уберет. Потому как человек, оно же понятно. А после собаки – никак не могу.
– Будешь убирать? – осатанел молодой лейтенант.
Но трюмный уже стремительно провалился в машинный люк.
Корнилов потом с возмущением говорил Быстроковскому:
– Роман Иванович, это черт знает что! Машинные совсем разболтались. Я ему говорю – одно, а он, подлец, прямо в глаза мне смотрит. И по глазам вижу – дерзость, дерзость, дерзость!
– Хорошо, Владимир Петрович, – ответил старший офицер. – Я скажу Федерсону, чтобы подтянул своих механисьёнов…
Павлухин тем временем, сдав наружную вахту, направился к фитилю – на бак крейсера. Там, возле кадушки, наполненной водою, можно было курить. Но куряк в этот ранний час не было. Только кондукто́р Самокин, поставив ногу на край обреза, пытался прикурить от угасающего фитиля.
– Что нового? – спросил он Павлухина.
– Да так… ничего. Жарко вот будет!
– Да, будет. Верно. Ну?
– Матрос тут такой… Ряполов, говорит – за политику.
– Врет, сволочь! – ответил кондукто́р. – Я уже узнавал от писарей. Сидел за подлость. От таких подальше… – И поманил Павлухина к себе поближе. – Шифровка была ночью, – сообщил осторожно. – На Балтике негладко. Там наши работают…
– Ну? И что?
– Вот и спрашивали «Ваньку с барышней» – как у нас?
– А как у нас? – засмеялся Павлухин.
Самокин оглядел рейд, заставленный кораблями. Бросил окурок в кадушку, и он зашипел, погаснув.
– Сам знаешь, как у нас… Пока только двое. Эсеры да анархисты, вроде Шурки Перстнева, нас пополам перекусят. А собирать начнут – перепутают. И твою башку, Павлухин, на мою секретную часть жеваным хлебом приклеят…
Англичане проснулись ровно в семь. Кажется, они даже не позавтракали. А сразу – шарах! – по туркам из главного калибра. Многопудовые чемоданы с шорохом пронеслись над эскадрой.
Союзный флагман поднял сигнал, обращенный к «Аскольду»:
Долго завтракаете!
– Зато мы раньше всех встали, – обиделся Иванов-6. – Пусть на мостике отстучат: придем на позицию вовремя. Роман Иванович, а не пора ли отправлять катер?..
Быстроковский наспех запил у буфетной стойки порошок хины, поднялся на спардек. Паровой катер с «Аскольда» качался под бортом, готовый отправиться на прикрытие греческого десанта. Виккерсовский автомат «пом-пом» сердито торчал из рубки. В бой уходили смертники, чающие крестов и водки, и возглавлял их чахоточный барон Фиттингоф фон Шелль, минер крейсера.
– Роман Иванович, – сказал он с издевочкой. – В случае чего, не забудьте, что я был лютеранином. Не поручайте завтра моего бренного тела отцу Антонию… я не хочу быть пропитым!
Быстроковский не растерялся с ответом:
– О том, что вы лютеранин, я надпишу на бутылке с шампанеей, которая уже заморожена, Карл Фромгольдович, к вашему прибытию… Счастливо, дорогая баронесса!
…Два гальюна в носу и корме – на сорок восемь водостоков – убирали штрафные Ряполов и Пивинский.
– Вот что я тебе скажу, паря, – внушал Пивинский, как более опытный, Ряполову, вовсю хлеща вокруг из брандспойта. – Самая легкая работа на флоте его величества – это поганая работа. Везде лезут офицеры в белых перчатках и даже в рыло пушке заглядывают – не запылилась ли она, стерва? А к нам заглянут – нет ли дерьма? Дерьмо убрано, и мы свободны, если считать, что вообще в этом мире существует свобода…
Когда приборку закончили, Пивинский повлек Ряполова за собой, шепча ему на ухо – с нежностью:
– Ша! Мы люди гиблые, штрафованные. Нас замордуют…
Он провел Ряполова в форпик, узенький косой отсек, угол которого составлял форштевень крейсера. Здесь хранились банки с краской и политурами, лаками и эссенциями. Пивинский раскрыл ногой сверток парусины, под которой были скрыты две баночки, проложенные ваткой. И текла по капле желтая муть, назначение которой русскому человеку всегда понятно.
– Пей. Чистенький. Как другу.
– Ждохнем, – ответил Ряполов, принюхиваясь.
Настроение у Пивинского было добровольно убиенное.
– Сейчас под Кум-Кале пойдем, там и гробанемся. А от этого еще не помирали… Сосай! Все равно подыхать.
Ряполов, зажмурив глаза, высосал натощак пол-банки.
– Малиной во рте жапахло. Ждыхай и ты, шука…
Пивинский окосел тут же, не вылезая из форпика, измазался в каком-то вонючем лаке, и Ряполов здорово испугался:
– Шлушай, а ты шлучайно не калаголик?
– Нет, я не калаголик, – ответил Пивинский и, заплакав, стал биться сдуру башкой о броню…
А под ними уже грохотала цепь, бегущая из глубины моря. Крейсер вдевал якоря в клюзы, как серьги в уши. Звучали колокола громкого боя, призывая команду занять места по боевому расписанию. Взлетели к небу стеньговые флаги – готовность «Аскольда» к бою теперь видна всем. По бортам уже разносились антенные сетки, чтобы иметь постоянную связь с кораблями союзной эскадры.
Офицеры не спеша (время еще было) расходились из кают-компании. Старший артиллерист крейсера, плешивый лейтенант фон Ландсберг, задержал плутонговых Корнилова и Вальронда:
– Володя и ты, Женечка, дальномер у нас расхлябался. В цепи где-то сдвиг синхронности. А потому прошу вас при стрельбе следить и за репетацией по телефонам.
– Есть, – ответили в один голос плутонговые офицеры.
…Завив хвосты колечками, над палубой качаются вниз головами отчаянные лемуры. На мостике раскинут лонгшез. И в нем, покуривая сигару, устроился для боя Иванов-6 во всем белом, словно беззаботный дачник. А на страшной высоте, почти наравне с лемурами, гальванер Павлухин уже срывает чехлы с громоздкой трубы дальномера. Уютное кожаное сиденьице, словно ласточкино гнездо, провисает над пропастью… Цепляясь за скобы трапа, по стволу мачты лезет к нему лейтенант фон Ландсберг. Добрался, примерился и – плюх запотевшей спиной в соседнее с Павлухиным кресло.
– Ну и мотает, – сказал он матросу. – Особенно на поворотах.
Это верно: площадка дальномера-то стоит над самым мостиком, и можно плюнуть на панаму Иванова-6, а то вдруг с ревом рушится при крене за борт, провисая над белыми гребнями.
– Разверни! – говорит фон Ландсберг кратко, и оба они влипают лицами в каучуковую оправу оптики. Что они видят сейчас? В четком пересечении нитей шатается перед ними далекий берег Турции: скалы… камни… минареты… чайки…
– Я же говорил вам! – кричит на ветру Павлухин. – Он еще от самой Хайфы расстроился от вибрации. Нет совмещения! Нету!..
Фон Ландсберг и Павлухин опутаны проводами телефонов, словно каторжники веревками. И в наушниках того и другого уже воркует голос лейтенанта Корнилова:
– Кормовой плутонг к открытию огня готов.
– Володя, – напоминает фон Ландсберг, – прошу тебя: следи за репетацией. Ты даже не знаешь, как трясет на дальномере!
Броня укрыла людей, сразу ставших сосредоточенными.
На палубе крейсера – ни души; закинуты люки, задраены горловины… Кажется, все уже вымерло: жизнь течет под броней.
Взмах острой лопаты, и дог Корнилова уже без хвоста! – с визгом убегает в коридор кают-компании. Тонкий обрубок собачьего хвостика летит за борт.
– Сашка Бирюков свое дело знает, – говорит матрос, сбегая в глубину котельной шахты. – Он еще себя покажет…
Глава вторая
Вальронд протискивает свое тело в узкую щель броневой двери. Самое трудное – не покалечиться. Но когда сел на место, то уже нет ничего уютнее твоего кресла, откуда ты хозяин над этой страшной многотонной башней.
– Все на местах? – оглядел мичман. – Тогда задраить башню к бою… – И в микрофон: – Носовой плутонг к открытию огня, во имя аллаха, готов!
В ответ звонко дребезжит мембрана передачи.
– Женечка! – говорит фон Ландсберг. – Не балагань, золотко. А чтобы ты лопнул от зависти, сообщаю: Володька сегодня свой плутонг приготовил раньше тебя…
Глухо бахнула броневая дверь. С лязгом закинуты щиты полупортиков. И теперь божий мир глядел на людей только в узкие смотровые щели. Тускло мигало под сводами башни электричество, сразу невмоготу стало от духоты раскаленной стали.
– Раздевайся, братцы, – сказал Вальронд, и первым потянул через голову сетку, противно липнущую к лопаткам.
Обнаженные тела матросов маслянисто отсвечивали литыми мускулами. Они как бы сливались воедино с машиной смерти – этим орудием, занимавшим всю башню. Мичман невольно залюбовался людьми: вот они, словно сошедшие с полотен Микеланджело, воины флота великой Российской империи. Три океана и четырнадцать морей остались за ними. Неутомимые бойцы, они уже в самой пасти турецкой столицы и сейчас покажут, на что способны…
И снова, как будто исчужа, поманила мичмана сладостным пальцем волоокая Шехеразада. Это его, мичмана, она поманила. Но раскрытое горло проливов зазывало матросов иначе. Не пальчиком, нет, какой там к черту пальчик! За воротами Дарданелл и Босфора чудился им прорыв в Черноморье, гавани Севастополя, дальние поезда и тот полустанок, где их встретят забытые родичи… Не пальчиком – калачом и бутылкой, слезой и поцелуем! Конец войне – вот сказка матросской Шехеразады!
Вальронд глянул на приборы:
– Провернуть на девяносто… дать угол. Вертикаль! Так, братцы, хорошо. Теперь – горизонт, па-а-ашел горизонт…
Чудовищный механизм сорвался с места, катясь по барбету на роликах – плавно и журча; все пришло в движение. Защелкали приборы, отмечая любое кивание орудийного хобота, и мичман, довольный, хлопнул себя по ляжкам.
– Замечательно, – сказал. – Сейчас, ребята, начнем…
Последние минуты перед боем… Самые последние!
В смотровую щель виден скользкий полубак крейсера, режущий желтый мутный простор. Зарываясь в сверкающую пену, нос «Аскольда» вдруг круто взлетает – весь в движении, весь в тряске крена. И разом отряхивает за борт тяжелую воду.
С воем уходят вдаль снаряды английских кораблей. Взрывов почти не слышно – они далеко отсюда; рвутся снаряды у города Крития, где расположена ставка противника. «Аскольд» медленно обгоняет транспорт, на палубах которых в четких каре застыли войска – новозеландские, австралийские, греческие. Сейчас это «мясо» швырнут с бортов – прямо в трескучий кромешный ад…
Вертикальный наводчик, степенный Данила Захаров, заботливо трет беличьим хвостиком яркую оптику своего прицела:
– Господин мичман, а правду говорят, будто один такой чемодан целые тышши стоит? Или врут люди?
Вальронд поиграл блестящим носком ботинка, крепко втиснутым, уже наготове, в тесную педаль «залп».
– Да, братец, – ответил он, вытирая пот. – Один бортовой удар с «Куин Элизабет» обходится Британии в тысячи фунтов стерлингов… Пристрелочный! – передал мичман по трубе в погребное хозяйство. – Где же ты, моя прелесть?
– Есть пристрелочный, – раздался из преисподней голос баптиста Бешенцова. – Подаем на башню…
В утробе корабля провыл мотор, и воздушный лифт плавно поднял в башню первый снаряд. Наверху он со вкусом чмокнул воздух, словно поцеловался с любимой пушкой. Проклюнувшись наружу зеленой головкой, снаряд застыл – весь в нетерпеливом ожидании. Это и был пристрелочный. За ним, за зелененьким, как огурчик, уже лавиною хлынут через башню боевые, с красными шапочками на головах, нарядные, как игрушки…
– Ну, – опять спросил Захаров, – а ежели этот? Наш?
– Триста пятнадцать до войны, – пояснил Вальронд. – А сейчас – не знаю. Кажется, на Путиловском производство удешевили.
Носок мичманского ботинка нестерпимо сверкал на педали «залп». Сколько тысяч русских рублей перекидает он сегодня этим элегантным носком в несытую прорву мировой бойни?..
– Ваше благородие, – не отставал от мичмана любопытный Захаров, – а вот ежели бы все это да в деньгу перешпандорить! Ну, стреляли бы, скажем, не снарядами, а деньгами? Как вы думаете, война бы раньше не окачурилась?
Вряд ли ожидал такой вопрос мичман.
– Ну, брат, подумай сам: на позиции турок летит золотой русский дождь… И вообще, Захаров, ты залезаешь в область политической экономики. А я окончил только Морской корпус его величества, и потому в этом ни бельмеса не смыслю.
Жуками заелозили по шкалам указатели целика. Наводка!
– Кончай болтать. Выходим на дистанцию. Башня – товсь…
Низко над водою прошли два аэроплана – в сторону Ени-Шере, где уже были сброшены десанты греческого легиона. По правому траверзу тянулся турецкий берег, изглоданный огнем и рваным железом. В смотровой щели башни скользила муть воды и желтизна пыльного неба.
– На дальномере! Не тяните с дистанцией… давайте!
В ответ – беготня стрелок и голос репетующего Пивинского:
– Сейчас скажу, сейчас… Шестьдесят… Нет, пятьдесят!
Но приборы показывали только сорок четыре.
– А! – сказал Вальронд. – Давай первый. Один вколотим…
Прибойник с хлопаньем вогнал снаряд. Прицел. Целик. Гнусаво заблеял ревун, и Женька Вальронд надавил педаль. Пушка сорвалась с места. Неумолимый компрессор, шипя и брызгаясь горячим маслом, плавно поставил ее на прежнее место.
– А-аткла-ане-ение… – пропел с дальномера Павлухин.
– Триста пятнадцать рублев, – запереживал Захаров. – И собаке под хвост бросили… Надо же так! А?
Башня грянула хохотом. Смеялся и мичман.
– Ты скупердяй, Захаров. Чего жалеешь? У нас полные погреба таких болванок… Не Путиловский, так союзники – подкинут! Боевыми, – приказал он, – клади!..
В прицеле над берегом возникли пять ярких точек, быстро взлетавших кверху. Вальронд понял, что эта пятерка пущена в сторону «Аскольда», но спокойно выжидал результата своих разрывов… Есть! Но… опять мимо.
И сразу – в микрофон, уже раздражаясь:
– На дальномере? Что вы там даете нам лапшу с маслом?
Репетующий нес в микрофон чепуху:
– Шестьдесят восемь кабельтовых!
– Заткнись, – велел ему Вальронд в телефон и, повернувшись к прислуге башни мокрым от пота плечом, сказал: – Ну их всех в главный штаб… Ставь на сорок восемь!
Словно часы, настойчиво стучал автомат. Тонкие нити пироксилиновых газов быстро уползали в смотровые щели. Надо лбом мичмана гасли и снова поспешно вспыхивали упрятанные в глазках брони лампы. Шарахнули по берегу боевым, еще… еще!
Дали отклонение – дело пошло на лад.
Купол башни заполнил голос фон Ландсберга:
– Мичман! Куда вы кладете снаряды?
– А когда вы дадите верную дистанцию?
– Дальномер скис. Павлухин лезет на марс.
– На глазок? – засмеялся Вальронд. – Люблю старину-матушку. Я тоже буду наводить через дырку пальцем на три лаптя влево.
– Женечка, не балагань! У нас осколком сняло уже скальп с одного сигнальщика…
Только теперь, когда вода пошла через полубак, вскипая в шпигатах, Вальронд понял, что турки кладут снаряды точно. За спиною мичмана жахнул прибойник, и очередной снаряд влетел в дуло красной мордой. С лязгом, отчаянно клацая, сработал громоздкий станок замка. Носок ботинка привычно нащупал упругую педаль.
– Ревун… залп! – И все оседает в грохоте огня и стали.
Накрытие… накрытие… накрытие. Молодцы ребята! Теперь их можно вырвать из боя только с мясом.
А глубоко под палубой – иная жизнь, иная героика.
Здесь ревут котлы; ходуном ходят, чавкая в масле, блестящие суставы машин; люди скользят на мазутных площадках, колотясь на качке ребрами, руками, лбами. Все они в штанах, подвернутых до колен, а на шеях – косынки, чтобы сподручнее вытирать пот. Для них тревоги боя вроде не существует: машина корабля – вот суть их тяжелой службы. Скорость… повороты… дым… пламя… вода… пробоины!
На ходовом реверсе стоит мастер – машинный унтер-офицер Тимофей Харченко, здоровенный бугай. На голой груди его – боженька в крестике, а на руке – тяжелый браслет, самолично перелитый из серебряных ложек, которые он украл в ораниенбаумском трактире (еще в начале службы). Харченко – человек выдающийся: ни у кого нет столько франков на книжке крейсерской сберкассы; Харченко даже чарки не выпьет – берет за вино деньгами; зато у него хуторок на Полтавщине, а выпить можно и на дармовщинку… Дураков-то всегда много!
Среди грохота машин и воя котлов, невозмутимый, прохаживается инженер-механик Федерсон – долговязый скелет, обшитый нежной голубой кожей альбиноса. Даже в кают-компании не знают, кто таков Федерсон: латыш? немец? эстонец? Механик никогда не матерится; он ровно вежлив (ненавистно вежлив) с матросами и совсем невежлив ко всему, что отзывается Россией.
– Меньше дыма… меньше дыма, – говорит он тягуче. – Помните, что мы сейчас не в России, где к бардаку все привыкли. Мы в самом центре союзной эскадры… На нас смотрят!
Кто там смотрит – отсюда не видать. Вот когда лопнет снаряд ниже ватерлинии, тогда слышно, как двинет по борту, словно ломом в пустую бочку. Это ощутимо. А там, наверху, пускай смотрят, коли глаза имеются. К тому же англичане снабдили крейсер кардиффом в брикетах. А это такая дрянь, что навозом лучше топить. От кардиффа – ячмени на глазах, экзема на коже, зуд в паху и под мышками. Будет дым… будет! Дым будет нарочно, чтобы нагадить Федерсону, которого ненавидят – люто, неудержимо, как только могут ненавидеть люди, не имеющие иных забот сердца, кроме ненависти. В лучшем случае Федерсона не замечают. Сказал что – ответили ему «Есть!», а отошел Федерсон, – и в спину ему летит, словно нож под лопатку: «Шкура…»
Только Харченко, исправный и хитрый служака, опытным затылком ощущает, что Федерсон стоит рядом, и спрашивает:
– Чи не так, ваши благородия? – Это он нарочно спрашивает, чтобы вызвать механика на редкую похвалу.
– Так, – неохотно хвалит его Федерсон. – Ты молодец…
Из горловины вылезает до пояса трюмный механик мичман Носков, больше похожий на водопроводчика, нежели на офицера. Он трет руки ветошью и сам весь в грязи и в масле.
– Три фута! – кричит Федерсону. – Пора донку врубать…
Федерсон не успевает ответить. Что-то гулкое и ослепительно белое влетает в машину. Сокрушив борт, разрывается со звоном, словно ваза, которой цены нет… И сразу гаснет свет. Свет гаснет, но сознание людей успевает отметить свет иной – свет дневного дня, который вдруг щедро льется внутрь через пробоину.
«Попадание!..» – И люди сразу ложатся, потому что снаряд принес в отсеки острые газы разрыва. Первым бросается в шахту люка Федерсон, но его отшибают в сторону кочегары. Зажатый среди их голых тел, механик крутится на трапе – белый, как противная глиста. Лезут: первый, второй, третий. Федерсон – четвертым, его подпихивают взад, кто-то блюет сверху на нижних, уже отравленный ядом разрыва…
А на палубе дышат, как собаки после беготни.
– Все? – спрашивает Федерсон, плюясь гадостью, зеленкой.
Нет мичмана Носкова и унтера Харченко – они остались там, в облаке газов. Кочегары, очухавшись от первого испуга, кидаются обратно. По скобам трапа громко щелкают, присасываясь к железу, их сальные пятки. Харченко и Носков живы, теперь хохочут. Мичман, как нечистый дух, сразу нырнул в придонные трюмы; там и выждал, пока вентиляция не вытянула всю дрянь наружу. А Харченко бегал отдыхиваться к пробоине, куда задувал ветерок. Счастье, что пробоина выше ватерлинии – в нее даже брызги редко залетают. И счастье, что никого не ранило, механисьёнам просто повезло.
Федерсону стыдно за свое бегство, и он кричит на Носкова:
– Опять вы, мичман, хуже матроса – паклю раскидали!
Воют за переборкой форсунки, аппетитно чавкает донка.
– Чи не так, ваши благородия? – спрашивает опять Харченко.
И – вдруг:
– Братцы, – скулит Харченко, когда Федерсон исчезает. – Ай, братцы! Да что ж это такое? А? Ведь он, хад, в спину мне плюнул или сморкнулся – не понять… И не вытереться! Руки-то заняты…
Руки его заняты: они лежат на ходовом реверсе, чтобы в любой миг исполнить приказ с мостика, а глаза – на телеграфе, чтобы не прохлопать приказа, сообщаемого нервной и подвижной стрелкой на круге циферблата. Ну конечно, беда не с тобой случилась, можно хохотать до упаду. И – хохотали.
– Чи не так, господин унтер? – спрашивали, издеваясь.
Мичман Носков подошел и спросил:
– Вытереть, что ли?
– Окажите божецку милость…
Мичман чем-то острым скребет по хребту машиниста.
– Ваши благородия, – жмется Харченко, – чем это вы скоблите?
– Лопатой! – отвечает мичман и снова – хохот.
Машинёры да кочегары – народ веселый. Будто и не было недавнего разрыва. Уже и сами над собой смеются:
– А я, братва, как врежу по трапу. Будто мне там наверху чарку водки наливают…
– А впереди меня – Шестаков, и такая у него кормушка. Как два каравая… Дерг-дерг. Посыпь солью и – ешь!
– А у тебя-то? – обиделся Шестаков. – Оглянись, чумичка… Нажрал на царских харчах, скоро через люк не протащишься!
И время от времени, будто дети, радуясь новой забаве, они подбегают к пробоине, проделанной снарядом, глядят на сияющий мир, словно в окошко, и радуются.
– Братцы, ну чем тебе не Петергоф? Еще бы барышню…
Здесь жизнь своя. Особая. А там, выше, пусть стреляют.
Десанты были сброшены, и крейсер «Аскольд», вызывая зависть англичан, давно перешел на поражение. Британцы еще раз подтвердили славу прекрасных мореходов, но плохих артиллеристов. Однако союзная зависть была побеждена, и на мачтах линейного «Инфлексибл» вспыхнули флаги сигнала:
АДМИРАЛ ВЫРАЖАЕТ РУССКОМУ КРЕЙСЕРУ
СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
БЛЕСТЯЩЕЙ СТРЕЛЬБОЙ.
Иванов-6 стянул с лысинки панаму, обмахивался. Потом этой же панамой вытер толстые губы, в углах которых скопилась, как у бульдога, пена удовольствия.
– Вахтенный, отвечайте на флагман: «Спасибо».
– Сигнальцы! Поднять «Спасибо» до нока реи!
– Есть поднять «Спасибо»…
И вдруг – вскрик, как всплеск. С высоты салинга сорвался при крене Павлухин. Это видели почти все, стоявшие на мостике. Перевернувшись в полете, падал с мачты матрос. Ударился о ростровые тали и – как в люльку, хлопнулся в растянутый тент. Парусина, пружиняще приняв гальванера, тут же мячиком вскинула его наверх, и Павлухин, снова проделав сальто, лягушкой так и шмякнулся об палубу. Шлепок тела по железу был отчетливо расслышан на мостике, словно кусок сырого мяса с размаху бросили на прилавок.
– Конченый, – закрестились сигнальщики. – Молодой парнюга был. Жить бы да жить! В унтера выходил…
– Георгия ему! – закричал Иванов-6. – Второй степени, ежели сейчас встанет…
Павлухин встал и, держась за коленку, поскакал по палубе.
– Дистанция – семьдесят четыре! – орал он, еще в угаре боя.
– Первой степени, – рявкал с мостика Иванов-6. – Две чарки водки… Четыре чарки… хоть залейся!
«Аскольд», выполнив свою задачу, уже выходил из огня.
Откинули щиты и двери, выдавливались наружу из башен поодиночке. Ныли тела. Белые брюки, с утра свежие, теперь выглядели, как грязные подштанники. Вальронд посмотрел вдоль борта: на мелководье пучились пузыри от взрывов, вся муть грунта была поднята наверх снарядами.
– Фу, – сказал он, усталый. – Ерунда какая-то…
Под козырьком каземата, нахохлившись, стоял Пивинский с эбонитовым «матюкальником» на груди.
Мичман подошел к нему:
– Ты что мне за прицел «репетил»? До ста считать разучился? – Глянул в глаза матроса, затянутые мутной пленкой дурмана, и чиркнул возле его рта английской зажигалкой. – Пока еще ничего. Голубым огоньком не вспыхиваешь…
С кормы уже шагал плутонговый – лейтенант Корнилов.
– Женечка! – кричал издали. – Каково отстрелялся?
– С помощью вот этого вундеркинда.
Корнилов понял все… по запаху. И поднес кулак:
– На другом бы крейсере тебе, рвань, морду набили!
– Оставь матюкальник, – велел Вальронд. – Иди за мной.
– Женечка, – протянул Корнилов, – не связывайся.
– Не мешай! – резко ответил Вальронд. – Дело семейное…
Мичман провел штрафного матроса в офицерскую душевую. Ослепительно сверкал белый кафель. Пахло здесь замечательно – лавандой, хорошим мылом, елочкой и озоном. За спиною плутонгового щелкнула задвижка, и Пивинский сразу забился в угол:
– Ваше благородие… простите… Ей-ей! Не буду…
Вальронд вытянул его из угла – хрясь по зубам. Пивинский перекатился через кадушку ванны и врезался в переборку.
– Встань! Иди сюда… Руки по швам!
Крепко взяв матроса за ворот, Вальронд лупцевал пьяного со всей горячностью молодости. Наконец устал. Крутанул вентиль, и все восемь душей брызнули с потолка веселым дождичком. В вихре брызг, жестоко бьющих Пивинского по плечам, мичман сказал:
– Вымойся, подлюга… – И ушел.
А в кают-компании чистые перезвоны хрусталя, звяканье ножей и тарелок. Вестовые в накрахмаленных фартуках расставляли посуду по «скрипкам»; тарелки качались в кардановых кольцах, не расплескивая содержимого. Возле буфета стоял старший офицер Быстроковский, наблюдая, как доктор крейсера Анапов брезгливо ковыряет вилкой салаты.
– Роман Иванович, – сказал Вальронд негромко, – я сейчас, да простит мне бог, отретушировал на крейсере одну карточку.
– Кому?
– Штрафному.
– Новому?
– Нет. Старому. Пивинскому. Он где-то наэфирился с утра пораньше и гробил нам дистанцию от гальванных. Случись это на полигоне в Золотом Роге – так плевать: люди свои. А здесь на нас смотрит Европа, и мы должны утверждать перед миром отличную боеспособность русского флота.
Быстроковский сыплет в рот хину. Морщась, запивает ее марсалой. Лицо желтое, его лихорадит. Рука с тряскими пальцами парит над рядом закусок. Нет, ничего не хочется, с души воротит, и старший снова наливает себе марсалы.
– Только не говорите нашему старику, – советует Быстроковский. – Он этого не любит… либерал. Доктор, – поворачивается старший к Анапову, – а вы догадались осмотреть того гальванера, что загремел сегодня с мачты?
Вилка врача ворошит салаты, губа оттопырена плотоядно.
– Нет, Роман Иванович, он же встал… побежал!
– В горячке боя и без головы бегают. Осмотрите.
– Катер под талями, – докладывают с наружной вахты.
Старший быстро выходит. Крейсер, застопорив машины, плавно покачивается. Под бортом его прыгает, шарахаясь из стороны в сторону, паровой катер, и Быстроковский сразу же приказывает боцману:
– Труш! Мертвых – в командные душевые… Зашейте их поскорее. И поднимайте катер. Быстро, быстро… Здесь задерживаться никак нельзя, иначе нас могут накрыть турки с берега.
Палубная команда уже разнесла тали по борту, судовой оркестр сыграл быстрый «янки дудль», и чей-то голос взлетел к небу:
- Вот на рейд выходит клипер…
Матросы цепочкой наваливаются на конец, хором подхватывая:
- Дай, братцы,
- дай, братцы,
- дай!
И катер, повинуясь могучему рывку сильных тел, повисает над водой; крейсер снова дает ход; матросы напряглись для рывка.
- Там знакомый служит шкипер.
- Дай, братцы,
- дай, братцы,
- дай!..
Катер уже качается вровень с палубой крейсера, остался последний рывок, и заводила жалобно выводит:
- Он поймал недавно т…
- Ай, братцы,
- ай, братцы,
- ай!
Все! Катер плюхается мокрым днищем в кильблоки, но Быстроковский недовольно щелкает крышкой хронометра.
– Полторы секунды лишку. Заленились… Труш! Всех палубных на полчаса вдоль шкафута, чтобы в другой раз было им веселее.
Старший офицер поворачивается, и вот уже слышны голоса:
– Шкура ты! Сопля на цыпочках!
Быстроковский возвращается и, вглядываясь в черные замкнутые лица, произносит совсем спокойно (его смутить трудно):
– Труш! Не полчаса, а – час шкафута… На прожарку!
В кают-компании уже хлопает пробка; на яркой этикетке с шампанским карандашом надписано: «Не забыть, что наша баронесса – лютеранка!» Офицеры со смехом чокаются бокалами с минером Фиттингофом: барон вернулся живым, орден ему обеспечен, он счастлив, теперь будет рассказов на целую неделю. Но славу у барона тут же отнимает корниловский дог Бим, явившийся как раз к разливу шампанского – без хвоста.
– Я знаю, кто это сделал! – в бешенстве кричит Корнилов, лаская свою собаку. – Бим, Бимчик, родной… А, Федерсон!
Федерсон – в дверях. Как всегда, невозмутимый.
– В чем дело? – говорит механик. – Когда у меня случается обруб на ответственной магистрали, я накладываю асбестовый манжет. И машина, мой дорогой, работает дальше!
– Это ваш трюмный Бирюков отомстил мне на собаке…
В разговор вступает мичман Носков:
– Трюмный матрос Бирюков неотлучно был у насоса, а топор на крейсере только один… для рубки мяса! На камбузе.
Звонок на камбуз. Коки клянутся, что топор на месте и об собачий хвост они его не поганили. Коки заняты, идет раздача обеда, фельдфебели уже потащили ендовы с вином. Навстречу казенному вину проносят в душевую убитых с катера. Мертвецы завернуты плотно, словно их где-то украли и теперь ищут место, чтобы получше спрятать. Зато возле ендов всегда веселье. Здесь тебе чарку нальют. Хоть земля тресни, а чарку матрос получит. Год за годом, день за днем – чарочка за чарочкой, так и плывет служба, пока бочек десять не выдуешь. И тогда без чарки уже не можешь – будто червяк в тебе сидит, требует, сосет…
Вино всегда во власти боцманматов, и фельдфебель Скок бережно, словно икону, водружает ендову на палубе:
– Не напирай! Осади! Успеешь свое выжрать… Господин Труш, извольте выпить за наше здоровье.
Власий Труш успевает хватить две сразу, одну за другой, и передает стаканчик кондукто́ру Самокину:
– Держи, хвороба секретная!
Самокин – интеллигенция: не офицер и не матрос. Живет рядом с салоном, а за чарочкой и жратвой к матросам бегает. Хлоп! – и нет ее родимой. И вытирает лихие усищи.
– Не смаковать, – волнуется Скок. – Тебе тут не трактир с барышней, чтобы губами шлепать. Пей и отчаливай!
Скок по «колдунчику» ревностно следит за выдачей.
– Пивинский, куды лезешь? Ты лишен чарки на сегодня…
– За что-о-о? – ревет тот, совсем уже ошалевший.
– Спроси у старшуго. Я-то причем? Павлухин, тебе по приказу командира пить, пока пузо не лопнет. Ну а ежели лопнет, то наплевать – под бушлатом не видать!
Павлухин хлопает первую залпом и тут замечает жадно устремленные на него глаза Пивинского.
– Браток, – жалобно скулит тот, – оставь… глотнуть бы!
Морда – страшная, в синяках, глаз заплыл.
– За дистанцию? – говорит Павлухин. – А кто поддал?
– Вальронд, собака… Завел в душ и зубы выполоскал.
Павлухин вдруг наотмашь бьет Пивинского кулаком в ухо:
– Мало дали тебе! Я там, как обезьяна худая, под осколками крутился. И укрыться – одна бескозырка! Рубил дистанцию на калибр. А ты, паскуда, гробил нам все… На еще! Утрись!
Их разняли, и Павлухин (он был щедрый, широкий парень) повернулся к Скоку:
– Ендовый, плесни ему за меня! Мне не надо, а ему – прямо в его поганую скважину… Как же, понимаю: башка трещит…
В руке фельдфебеля пузатая чарка из серебра.
– Зальешь обиду? Или отвернешься, шпана гордая?
Отвернувшись от матросов, Пивинский заливает обиду павлухинской же чаркой. У этого человека давно уж нет ни стыда, ни совести. Он все пропьет и все продаст. А к ендове продирается коллежский советник Анапов в белом чесучовом платье, неотглаженном:
– Голубчики, кто тут из вас с мачты сверзился?
– Я, ваше благородие, – выступает вперед Павлухин.
– Старший приказал мне осмотреть вас. Самым тщательным образом. Не может быть, чтобы вы невредимы остались.
– Повезло, ваше благородие. На тент заиграл! Мальчишкой и не так падал. Однажды со стога сена прямо на вилы сел.
– Нет, вы уж не отговаривайтесь. Прошу в лазарет…
В лазарете лентяй Анапов сразу загрузил Павлухина работой. Установить станцию «Слаби-Арко» – на это нужны и силы и время. Коллежский только командовал, а Павлухин сам для себя собирал рентгеновский аппарат. Ворочал штатив, вставлял по указке врача круксовые трубки, развешивал экран. Под конец взмолился:
– Ваше благородие, да отпустите вы меня…
– Нельзя, мой милый. Приказ. Разденьтесь до пояса, так. Я гашу свет… Внимание, поднимите руку… эту! Дышите…
В мерцающем зеленоватом свете ожил перед Павлухиным человеческий скелет. Темно, таинственно…
– Ваше благородие, не мучайте… На что я вам?
Все было понятно: и высота марса, и свист осколков и даже шлепок о палубу. Но тут… Что-то жужжало в темноте, и выступали из мрака его ребра и кости. Павлухин двигал свой собственный скелет, и что-то трепыхалось под самыми ребрами.
Крепкие нервы матроса не выдержали.
– Ваше благо… умираю! – И он потерял сознание.
В эти дни доктор Анапов докладывал в Петроград по начальству, что команда «Аскольда» наполовину состоит из людей с расшатанными нервами. Отчаянная служба крейсера отзывалась на здоровье матросов: они редко говорили – больше орали, взгляды их были исподлобья, участились драки, алкоголь подогревал души людей, которые проклинали все на свете. Два года они не видели родины, по восемь лет не знали жизни в кругу родных.
Это была настоящая каторга – почетная каторга под славным Андреевским стягом. Зато многие – очень многие матросы с «Аскольда»! – носили на груди ордена и медали: русские, британские, французские, японские.
В разгар Дарданелльской операции снаряд прогнул вал среднего винта, и теперь винт барабанил по корпусу – так, что на корме никто не мог спать. Захлебывались в трюмной воде насосы, текли холодильники. Наконец случилось засоление двух котлов, и однажды на полной скорости вода вдруг забурлила ключом…
Но только в начале 1916 года Эйфелева башня передала на «Аскольд» разрешение следовать в Тулон для ремонта. Наконец-то отдых, пусть даже с ремонтом, тяжким и сложным, зато можно спокойно выспаться с открытым иллюминатором, в гавани!
Шли, опасаясь немецких субмарин. В пути были две памятные встречи. Где-то за Мальтой, в крепкую штормягу, заметили два низких эсминца, захлестанных пеной.
– Наши! – доложил сигнальщик. – Сибирской флотилии эскадренные миноносцы «Грозовой» и «Властный».
– Вижу плавмастерскую «Ксению»! – заголосил второй.
Сблизились. Болтало изрядно – эсминцам здорово доставалось. Иванов-6 спросил через широкий рупор:
– Сибиряки! Куда идете?
И с ажурных мостиков прокричали – через вой ветров:
– Из Владивостока… на Мурман! Там будет новая флотилия… новый большой флот России!.
И еще была одна встреча – странная. Английский крейсер «Психея» конвоировал транспорта «Ярославль» и «Тамбов». А в кругляках иллюминатора? – русские курнофеи милые.
– Ого! – гоготали матросы на крейсере. – Гляди-ка, хари-то нашенские… Эй, крупа-пшено, куда вас везут?
– На фронт… – долетело. – Во Францию!
Война продолжалась – подлинно мировая война. Русские корабли тонули у берегов Индии; дрались как черти под Палестиной; русские мужики ехали умирать на зеленых полях прекрасной Франции.
…Близок уже Тулон; от самого княжества Монако тянутся до Марселя золотые пляжи. За поворотом мыса открылся курорт, и бронзовые тела женщин плеснули в глаза каждому…
Вся оптика «Аскольда» сразу пришла в движение, разворачиваясь на пляж. Как в боевые дни, щелкали визиры и дальномеры, тряслись по барбетам орудийные жерла, блаженно ощупывая в прицелах живые тела. Совсем недавно мужчины купались в подштанниках, а женщины в юбочках. Но война, отбросив стыд, обнажила людей, и теперь четкие линзы выпукло приближали женские тела, едва прикрытые.
– Ой, беда! Ой, беда! – заорал сигнальщик.
Под накатом орудий быстро опустел пляж. В панике разбегались люди, не понимая, что значит эта прямая наводка. До мостика долетел визг женщин, на бегу хватавших свое платье. И только одна – молодая – не убежала. Она встала на высокий камень и потянулась над морем узким солнечным телом. Это было так прекрасно, так целомудренно, что «Ванька с барышней» первым опустил свой бинокль и хрипло рявкнул:
– Дробь атаке! Всю оптику вернуть в диаметральную плоскость. Орудия – на ноль! Чехлы – зааа… кинь!
Вот и Тулон. Здесь – три мешка писем сразу.
Глава третья
Гений Мореплавания, колоссально отлитый из бронзы, парил над набережными Тулона, над его доками и причалами. В уютных бассейнах гавани, ограниченных с моря молами, не было тревог и опостылевшей качки. Пятая флотская префектура отвела «Аскольду» место для стоянки в заливе Petite Rade. Именно здесь, в Тулоне, когда-то прозвучала первая нота франко-русского аккорда; французы еще не забыли, какой был пышный карнавал, когда сюда пришла русская эскадра под командою адмирала Федора Авелана. И вот теперь грозной тенью, подвывая сиреной, вошел в Petite Rade боевой, прославленный крейсер «Аскольд».
Горны пели большой сбор. Мэр города счел своим долгом пожать руку матросам, а перед кают-компанией отделался общим поклоном: республиканец, сразу видать! В кубрики тулонцы натащили всего: каперсов и лимонов, маслин и фруктов, вин и ликеров. О французы! О добрые французы! Как вы очаровательно милы!
«Ванька с барышней» сразу нанял дачу под городом. Женатые офицеры выписали свои семьи из России. А холостяки пустились во все тяжкие, чтобы похвастать внукам под старость: «Что вы! Вот я…» Француженки целовали аскольдовцев даже на улицах. В предместьях Ле-Мурильон и Дю-Лас матросы пользовались такой любовью, что судовой врач Анапов поборол в себе лень и прочел лекцию о предупреждении постыдных заболеваний.
С ремонтом крейсера французы, однако, не спешили. Правда, разболтанную утробу корабля – его машины – разобрали; били в расшатанный корпус воздушные молотки.
По вечерам команда выстраивалась на палубе, готовая сойти на берег, и Быстроковский привычно произносил набившие оскому слова напутствия:
– На берегу вам могут встретиться люди, хорошо знающие русский язык. Люди, извещенные о событиях на родине лучше нас, оторванных от России долгом государственной службы. Они, эти люди, вкрадчивы. И умеют говорить красивые слова о тяжести нашей службы. Это – социалисты, враги отечества. Как узнать их? – вы спросите. Я отвечу. Социалисты называют службу на флоте «царской каторгой». Как только он эти слова тявкнул – тут и лупи его прямо в рожу! Все переговоры с префектурой и все штрафы я беру на себя…
Отдельно от других сходит на берег и кондукто́р Самокин. Шифровальщик предпочитает статское платье: ладно пошитый в Тулоне костюм с жилеткой, манжеты с запонками из японской яшмы, в руке – тросточка. Никто не знает, где проводит время Самокин, с кем встречается. Женщинами он как будто не интересуется, пьяным его никто никогда не видел. Кондукто́р живет своей жизнью…
Корабль пустеет. Остается вахта и люди, имеющие особый интерес в наступившей тишине. Иногда, признаться по чести, этот интерес бывает вынужденным. Вот сидит в каюте, мрачно покуривая, отец Антоний: тишина и святость, лимонад пополам с молитвой… Два военных попа (аскольдовский и бригады Особого назначения) недавно в Марселе, будучи в непотребном доме, рванули такую джигу, что… Да, да, посольство вмешалось: солдатского попа, наградив вторым Георгием, отправили в любезное отечество, а отцу Антонию запретили сходить на берег.
Тогда еще, в кают-компании, Женька Вальронд заметил: «Оказывается, наш батька – выученик Мариуса Петипа!» Но за священника вступился Быстроковский: «Евгений Максимович, помолчите! Мы ведь не забыли, как вас на Цейлоне привезли с берега нагишом. Я, конечно, не стану утверждать за правду, но консул не сомневается, что вы изображали с какой-то гречанкой античные фрески… Разве не так?» На что Вальронд ответил: «Фрески не помню, консула презираю, а гречанку забыл!»
Кстати, мичман Вальронд тоже сидит без берега в каюте. Причина тому – отсутствие франков в кармане, и мичман почитывает дешевые романчики. Веря в свою звезду, он терпеливо ждет выдачи ему жалованья. Между тем минер крейсера барон Фиттингоф фон Шелль штудирует газеты, прибывшие из России, и потом в ужасном настроении направляется в буфет кают-компании.
– Базиль, сделай мне «флаг», – говорит минер вестовому Ваське Стеклову и, боясь одиночества, вытягивает из каюты Вальронда: – Женечка, я тебя не узнаю. Ты одинок? Ты печален? Выпей со мною, дитя мое…
– С удовольствием, баронесса, – не отказывается мичман. – Тем более, если календарь не солгал, мне сегодня ударило из главного калибра двадцать пять дюймов. Если учесть, что я желаю прожить целый век, то свою четверть я уже спроворил.
– Что тебе подарить, Женечка? – ласково спрашивает минер. – Орхидеи в ночной вазе? Дать в долг на пламенный дебош? Или просто лизнуть тебя в румяную щечку?
– Лизни! – сказал Вальронд. – Я с детства был такой сладкий, что моя прекрасная нянька лизала меня на сон грядущий…
Возле буфета они пьют «флаг» – смесь трех вин, лежащих в бокале ровными слоями, но разных окрасок. В кают-компании пустынно, абажуры затемнены, только светят по углам бра; в углу торжественно застыл рояль, сверкая темно-вишневым лаком. Дорогие инкрустации из дерева, вделанные в борта над диванами, сначала отсырели в Сингапуре, потом рассохлись у Хайфы и теперь шелушатся в Тулоне…
Скучно (ой, как скучно!), и минер доверительно говорит:
– Женечка, от нас многое скрывают…
– Жалованье?
– Не хами. Оказывается, на Балтике был дикий бунт на «Гангуте». И на «Громобое», кажется, тоже.
– Из-за чего? – спрашивает Вальронд.
– Видишь ли, после угольной погрузки, когда по традиции положено давать на ужин макароны, командам в тот раз дали… Что бы ты думал – им дали?
– Угря под соусом крутон-моэль.
– Не угадал – кашу.
– Повод для бунта есть. Любой гурман взбесится!
– А там, на «Гангуте», – продолжал барон, – старшим офицером служит мой кузен, тоже Фиттингоф, только без «Шелль».
– И тоже баронесса?
– Ты догадлив, Женечка. И вот его в бунте ударили… Чем бы, ты думал, его ударили?
– Торпедой.
– Хуже.
– Шлюпбалкой.
– Еще хуже. Его ударили… увы, поленом!
Лицо минера, лощеное и тусклое, заливает чахоточный жар. Это жар стыда и неловкости. Какой позор! Не пуля, не шпага, а – полено! Это по Фиттингофу-то – поленом? Это по Фиттингофу, предки которого вписаны в «Готтский альманах»?
А неунывающий мичман хохочет.
– Послушай, баронесса, откуда на линейном корабле «Гангут» полено? Линкор – это ведь не дворницкая на Обводном канале!
– Не знаю. Наверное, припасли заранее. Так написано и в газетах… Бази-иль! Еще два «флага», – под-нять!
– Есть два «флага», – репетуют в буфете…
Тут Вальронд, по младости лет, не удержался и ляпнул очередной «гаф» (так называлась на крейсере любая оплошка).
– Баронесса, – сказал мичман, – а ты не боишься за сходство твоей фамилии с фамилией твоего кузена?
И минер, глядя прямо в глаза Женьке, ответил:
– Это – гаф! И нескромный гаф! Твоя фамилия, Женечка, для наших матросов ничуть не лучше моей.
Мичман малость смутился:
– Да, но мы из французов… Мы – тверские французы! Вальронды со времен Екатерины Великой служили на русском флоте.
– О том, кому они служили и с каких времен, это ты можешь рассказывать матросам на уроке словесности.
В кают-компании с крахмальным шорохом свежего белья появился лейтенант фон Ландсберг; сейчас он собирался в Париж дня на три, а вернется оттуда – как старая тряпка, которую впору выбросить, и потом будет отсыпаться в каюте.
– О чем, господа? – спросил он, присаживаясь к роялю.
– О немцах, – ответил Вальронд. – О немцах на флоте.
Фон Ландсберг небрежно пробежал пальцами по клавишам:
- Флот имперской метрополии,
- Он не жмется к берегам.
- Далеко от Галлиполи
- До прекрасных наших дам.
- В Гельсингфорсе по эспланаде
- Мы пройдемся вечерком…
– И еще – гаф! – раздраженно заметил Фиттингоф. – Немцы на флоте, немцы в армии, немцы при дворе… К чему все это?
Хлопнула крышка рояля – фон Ландсберг вмешался в спор:
– Погоди, баронесса, мы здесь люди свои, и никакого гафа от Женьки нет. А что есть? Есть: антинемецкие настроения на флоте, которые очень скрытно представляют собой настроения антивоенные. Антивоенные – это почти большевистские. Но известно ли вам, что когда матросов с «Гангута» судили, то прокурор назвал их «неразумными патриотами»? Патриотами, именно патриотами! – подчеркнул фон Ландсберг.
Тут Женька Вальронд встал.
– Комедь ломаете? – выпалил он. – Где это видано, чтобы в России казнили людей за то, что они искренне любят Россию?
– Они выступали против нас, – сказал Фиттингоф. – Против офицерского корпуса… А ты ничего не понял.
– Ну конечно, – обиделся мичман. – Где уж мне, французу из Торжка, понять вас… немцев с Васильевского острова?
Обиженный, он снова заперся в одиночестве. И слышал, как в соседнюю каюту мичмана Носкова тихо кто-то скребся… «Ну конечно же, это опять Харченко!»
Машинный унтер-офицер Тимофей Харченко деловит.
– Ваши благородия, – говорит он мичману Носкову, – самые трохи обеспокою. Ежели, скажем, давление пара на площадь котла… опять же и кофициента. Берем мы эту кофициенту и делим ее на удельный вес пара… Потому как я практик и башкою не понимаю… Практик!
Носков, тихий карась-идеалист, выслушивает длинное матросское предисловие, потом хлопает по койке:
– Садись. Растолкую…
Дело в том, что Харченко мучается – уже третий год. Мучается ужасно – творчески. Школа машинных подпрапорщиков в Кронштадте манит его, ласково и отрадно. Выбиться! Только бы получить погоны, стать на первую ступеньку той сверкающей лестницы, по которой легко взлетают благородные господа офицеры. А потом, годам к сорока, можно и на торговый флот. Там-то уж хозяин! Только бы вот сейчас… Выбиться!
На толстом запястье Харченки крутится тяжелый серебряный браслет. Унтер, с треском, словно орехи, разгрызает хитрые формулы. Лбом прошибает теоремы, словно баран новые ворота, и сам постоянно удивляется:
– Проник! Осознал! Покорнейше благодарим, ваши благородия. Трохи еще обеспокою. А вот старший инженер-механик – даст он заручку за меня или не даст?..
…В каюте старшего лейтенанта Федерсона – чисто, благонравно, пристойно. И не болтаются в рамочках фотографии голых скачущих девок (как, например, у мичмана Вальронда), нет – каюту механика украшают виды Везувия, водопада Ниагара; одинокий путник, что застигнут метелью в Швейцарских Альпах, уже замерзает, – бедняжка, смотреть на него жалко…
Сейчас Федерсон с помощью пинцета кормит двух противных хамелеонов, которых бережно содержит от самого Цейлона. Тараканов на «Аскольде» в избытке, и длинные языки зеленых безобразников жадно сглатывают хрустящую добычу.
Самого Харченки как будто и нет в каюте.
– Итак, мичман… – Федерсон замечает только Носкова.
Трюмный объясняет цель визита: школа подпрапорщиков, сын народа, Кронштадт… такие люди нужны флоту тоже…
– Зачем? – произносит Федерсон, впервые поглядев на Харченку. – Объясните, мичман, зачем?
И вдруг механик с ужасом думает, что, случись такому вот Харченке стать офицером, и тогда этот хитрый хохол будет ходить по нужде туда же, куда ходит и он, Федерсон… В каюте механика сразу повеяло запахом чистоплотной карболки.
– Нет, нет, – передернуло Федерсона. – К чему умножать ряды плохих специалистов корпуса машинных офицеров? Не лучше ли, мичман, вашему протеже оставаться нижним чином, но зато… Зато хорошим младшим специалистом!
Хамелеоны сочно хрупают тараканов. Везувий извергается, Ниагара рушится, одинокий путник замерзает…
– Ваши благородия, – почти орет Харченко, – дозвольте теорему господина Гаккеля разрешить? Вот прямо здесь… решу! Только бумажки дайте…
– Тебе это не нужно. Твое дело – реверс машины.
Харченко близок к отчаянию и ставит ва-банк.
– Ваши благородия, – говорит он вкрадчиво, – вы же мне сзаду плюнули. И – ничего? За плевок этот дозвольте в школу пра… подпра… Это как понимать? Добро бы – в рожу, а то – в спину! И не вытереться. Людей стыдно. Прикажите только, и любую формулу, не сходя с места… Прямо вот здесь, только бумажки дайте!
Федерсон неумолим: чистота офицерского гальюна да будет свята! Тем временем Иванов-6, по-стариковски не торопясь, собирается на берег. Глухие рыдания прерывают его сборы. Кто-то плачет под самыми окнами салона.
Это Харченко, который знает, где именно надо плакать…
Растроганный такой любовью к службе, Иванов-6 обещает завтра же своей волей отправить Харченку в школу машинных подпрапорщиков. Но ставит условие:
– Офицером вы вернетесь только на мой крейсер. Я очень ценю вас, Харченко, как специалиста…
Иванов-6 разговаривал с унтером уже на «вы», как с будущим товарищем по офицерскому корпусу. В этом большая разница между Ивановым и Федерсоном…
Шатающийся от счастья Харченко решил дать своим приятелям хорошую отвальную.
Оставался на крейсере и боцман – Власий Труш, заглянуть в каюту которого просто необходимо. Каюта боцмана примечательна: где только можно, повсюду горят яркие этикетки консервов с ананасами, закупленных еще на Цейлоне. Всего 840 банок, пузатых и нарядных. Полвека существует уже на русском флоте традиция всех боцманов – спекуляция на ананасах. В Сингапуре такая банка обходится в 25 копеек на русские деньги, а в Петербурге боцманы сшибают за каждую по рублю. От этого большой доход и даже привлекательность флотской службы…
На челе Власия Труша – раздумье. «Кто сказал, что по рублю? Это до войны цена твердая. А теперича проценты за рыск получить надо с каждого рыла? Надо хоша бы по полтине накинуть!»
– Рыск! – бормочет боцман и, мусоля карандаш, оцепенело впадает в царство детской арифметики. Ого! Прибыль сразу ощутимее: чего доброго, и курей можно развести. Домик-то у него в Мартышкино вполне располагает к заведению хозяйства. Курей – оно хорошо… Из кают-компании доносится музыка. Граммофон у боцмана уже есть, а вот… «Рояль?» – думает Власий Труш, весь замирая в истомной сладости.
– Не, – говорит, вздыхая, – до рояля нам ишо не доплюнуть. Вот ежели бы еще по четвертаку на банку набросить, тогда… А почему бы и нет? Драть так драть. Ананас штука редкая, господистая. Ежели даму соблазнить желание имеешь, то без такой ананасины – хрен к ней подкатишься…
От дерзостных мечтаний бросает в пот. Закинув руку за спину, Труш врубает виндзейль, чтобы немного остудиться. Ревет походная вентиляция, и под дуновением тяги три волосинки на челе боцмана встают дыбком – трепетные… В тиши боцманской каюты рождаются сейчас такие афоризмы: «Ананас не картошка, понимать надо…»
– Рыск, рыск… Всюду – рыск!
А в кубриках – тоска зеленая. Опостылели крашенные под шар переборки, железные рундуки с барахлом, столы на цепях, надоедное фуканье насосов, вытягивающих наружу через трубы запахи каши, пота, перегара и мыла.
Наслаждения берега постепенно утихли, письма из России замусолены и изучены, и матросы вдруг сделались задумчивы, рассеянны, даже подавлены. И часто вспоминали, как мэр Тулона пожимал им руки, приподымая перед каждым блестящий цилиндр.
– Говорят, – рассказывал Шестаков, – в Марселе-то еще чище было. Когда наших солдат, крупу несчастную, во Франции высыпали, так сам Пуанкаре по плечу солдат хлопал.
– Демократы, – переживал комендор Захаров. – У нас на шкафут норовят поставить, а у них – за лапку: мое почтение. Сам видел, подошел матрос-француз к своему офицеру, прикурил у него и… отошел. И даже в ухо не получил!
Сашка Бирюков, зажав меж колен колодку, чинил ботинок.
– Попробуй у нас – прикури у старшого. Он тебя потом до конца на солнышке скурит, даже чинарика не останется.
– А я, братцы, – вдруг сознался степенный Захаров, – еще во Владивостоке три рубля у Вальронда занял…
– Ну-у? – удивились в кубрике.
– Ей-ей. Не вру. Дошел до конца веревки. Баба моя тут как раз разродила ни к селу ни к городу. Масленица! А выпить и закусить – пусто. Обозлился я на судьбу и подошел. «Ваше благородье, говорю Вальронду, отдам… Выручите!»
– И дал?
– Дал. Тут же занял у лейтенанта Корнилова и мне… дал!
– А как ты отдавал?
– Ничего. Мичман покраснел, даже извиняться передо мною стал. «Извини, говорит, Захаров, мне стыдно с тебя три рубля получать обратно. Но, понимаешь, сам без копейки сижу…»
– Вальронд такой, – хмуро рассудил баптист Бешенцов. – Он кутит, почем зря. В любой кабак, как баба в зеркало, так и всунется! Но от него обид нету: душу еще не испохабил…
– Да, – согласился Сашка Бирюков, колотя по подошве. – Вам, носовому плутонгу, просто повезло на офицера. А вот нам, машинным, так… Бывает, нагнется Федерсон под мотылем, а я думаю: пихни разок – и амба! В котлету!
Захаров мигнул, переводя глаз на Пивинского:
– Не болтай, Сашка!
– А что? Сашка Бирюков себя еще покажет…
Пивинский вдруг ни с того ни с сего спустил с подволока стол, и он закачался на цепях посреди палубы, словно качели в деревне. Бросил подушку и завалился на стол, потягиваясь.
– Сдурел? – сказали ему. – Не велик князь! Дождись часа, и дрыхни до трубы… Это непорядок.
– Выслуживаетесь? – Пивинский привстал на локте, оглядел матросов. – Обвешались крестами, словно иконостасы. У кого Георгия, у кого японские солнышки, у кого львята английские… Просто потеха мне с вами!
– Завидно? – усмехнулся Захаров. – Да, русский матрос таков. Если бы мы да деды наши плохо воевали, так от России бы шиш остался. Мы служим честно. А вот тебя, словно сучку базарную, кажинный день по углам лупят.
– Меня не залупишь! – огрызнулся Пивинский. – Я тебе не сучка, а блатной с Лиговки, меня в Питере вся шпана знает. А вы, шкуры, накройтесь в доску до понедельника!
– Бить или погодить? – спросил Сашка Бирюков.
– А учить надо, – заметил баптист Бешенцов.
Шестаков подошел к столу, покачал его.
– Приятно тебе? – спросил. – Только ты нас, старых моряков Тихова океану, ране срока в деревянный бушлат не заворачивай.
И грохнул Пивинского со стола – штрафной гальюнщик так и врезался носом в настил палубы.
– Бескультурье, – говорили матросы, одобряя. – Мы за этим столом хлебушко режем. А ты грязным задом валяешься. Брысь!
Тут, приплясывая, скатились по трапу два матроса из машинной команды, отбили по железу хорошую дробь чечетки.
– Старики! – сказали, танцуя. – Харченко в Кронштадт сбирается ехать. Мошну свою развязал, сейчас из сберкассы деньги берет и плачет. А хутор у него, еще при покойном Столыпине строенный, бога-атый… Пропьем! Будет отвальная.
– Пропьем хутор! – загалдели матросы и побежали ставить утюги, чтобы гладиться, вешали зеркальца, чтобы бриться.
– Бешенцов, а ты пойдешь с нами? – спросили погребного.
Баптист почесался, ругаясь:
– Пойду. Все едино – давно испоганился. Никакой веры у меня с вами, нехристями, не получается… Ладно, отмолюсь!
Выбрали кабак пошикарнее. С портьерами, с музыкой, с кабинетами. Женщин для начала к столу не вызывали, чтобы не мешали вести серьезные разговоры. Решили так: «Ну их… марусек этих. Еще успеется!» Харченко плакал от наплыва счастья, целовал всех по очереди.
– Други милые, – говорил, – экий год с вами плаваю. Сопляками ишо пришли мы в Первый Балтийский, потом Сибирская, в гроб ее, скильки отмахали… Людьми стали! Слава те, хосподи!
Чтобы коньяк прошел вернее, поначалу ничем не закусывали. Потом желудки потребовали пищи. Но – хорошей.
– Кутить так кутить! Харченко не жалей франков. Давай щец попроси. Может, и сгоношат французские люди?
Щи так щи. Харченко не скупился: послали за щами в русский ресторан. Вызвав удивление проституток, слопали полведра щей. Не без хлеба, конечно. Умяли всё подчистую.
– Ну теперь, – рассудили матросы, – можно и по бутылочке.
– Верно, – кивнул Захаров. – Поговорить напоследки надо!
И начали они разговоры – деловые, хорошие.
– Вот ты, к примеру, Тимоха, – начал рассудительный Захаров. – Ты, браток, офицером станешь. Это хорошо. Поболе бы таких офицеров… из народа! Становись кем хошь. Но свое происхождение помни. Матроса чти! Уважай его. Сам хлебнул…
– Братцы, – плакал Харченко, вконец умиленный, – да рази уж мне… Хосподи! Только бы до кают-компании добраться. Да сесть там. А уж вас в обиду не дам. Постою! Ей-ей, братцы мои…
Подошел к ним какой-то бородатый дядя в пенсне:
– Какие лица! Какая речь! Вот они, милые русские простодушные лица! Вот она, славная русская речь… Да здравствует русский флот! Да здравствует русская армия! В условиях тягчайшей реакции вы, товарищи, сумели пронести…
Сашка Бирюков рывком уперся в столб, как бык:
– Ты вот что, паря! (И завращались глаза, налитые кровь.) Ежели чарочку задарма ковырнуть хошь – пожалуйста. Дерни и – отваливай! Потому как мы и без тебя речи всякие знаем. А будешь приставать, так я тебе так врежу, что колбаской скрутишься.
Бородатого земляка от стола отвадили. Зачем он им со своими громкими и неумными речами? У них сейчас своя политика – житейская, матросская, затаенная.
– Восьмой уж год… – качался на стуле охмеленный Шестаков, трюмач крейсера. – Братцы! Стыдно мне… молчал. Ныне скажу: баба-то моя родила… Сына, пишет. Это как понимать? С ветру, што ли? А я вот здесь… с курвами? Рази же это жисть?
Взял стакан, сунул его в рот и – скрежет пошел. Крошилось стекло на зубах. Плевал осколки окровавленным ртом, визжали они под каблуками проституток.
Харченко, расслабленный алкоголем, шмякнул на стол еще мятую пачку франков:
– Музыка! Жги…
Заиграли скрипки: «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои…»
В разгар гульбы откуда-то появились солдаты – наши же, русские, из корпуса Особого назначения. Их перед отправкой из России принарядили франтами: суконце на мундиры дали офицерское, голенища сапог – хром, чистый. С бокалом в руке подошел к матросам ефрейтор, вцепился в спинку стула, пьяно вихлялся, брызгаясь шампанским.
– Земляки! Доз… зззз… вольте. Вот как…
– Чего вы тут, ребята? – спрашивали аскольдовцы.
Подгреб еще один солдат – потрезвее.
– Экскурсия у нас, – объяснил.
– Ну и как? Всё уже осмотрели?
– Да приглядываемся потихоньку…
– Валяй, валяй. Баба-то тебе ничего попалась…
А пьяный ефрейтор все цеплялся за стул Бирюкова, просил:
– Доззззвольте… ззза компанию! Честь имею… Каковашин!
Бирюков вскочил.
– Ты что мне, крупа, шампань за шкирку капаешь?
Тот, что был потрезвее, щелкнул каблуками:
– Извините Каковашина, он ваш боевой товарищ. Мы на деле осуществляем формулу Бриана: единство действий на едином фронте. Сейчас – форт Мирабо, а завтра – фронт… На штык!
А шампанское за синий воротник – кап, кап, кап.
– Да отцепись! – сказал Сашка Бирюков и так двинул пьяного Каковашина, что он под рояль въехал.
А комендор Захаров наседал на трезвого солдата:
– Ну вот ты, крупа. Расскажи, как ты спишь?
– Очень просто – шинель брошу и сплю, где придется.
Подошли из-за столиков еще солдаты – разные.
– Пойдем, – тянули трезвого. – Ну их всех к бесу, флотских. Они же господа. Разве им понять нас? Живут, сволочи, как сыр в масле катаются. Денег – завались! А нас на убой гонят в окопы, как скотину, вшей давить… У них даже вшей не водится?
– Нет, постой, – удерживал Захаров солдат. – Ты шинель себе кинешь. А я? Ну вот ты, конопатый… Отвечай по всей строгости: как надо свернуть койку?
– На кой мне ее сворачивать?
– То-то! – воодушевился Захаров. – Не знаешь… А тут целая наука, чтобы матросу выспаться. Первым делом беру шкентрос и продеваю его в люверс. Люверсов семь… Ты слухай!
– Отстань, смоленый! На кой мне это сдалось?
– А это к тому, что вы меня должны уважать.
– За что? – спросили солдаты.
– За то, что я есть матрос российского флота. Не чета вам!
Тут пьяный Каковашин выбрался из-под рояля и со словами «Доззззвольте…» дал Захарову прямо в глаз.
Харченко схватил стул – грох его по солдатам. В ответ взметнулись солдатские кулаки. Бутылки тоже пошли в дело: по черепу тебе – трах! – только осколки брызнут…
– Наших зови! – орал Бирюков. – В синемо они… фильму о королях смотрют… Крупа зазналась, проучить надо. А Сашка Бирюков себя покажет…
Отовсюду, как мухи на патоку, слетались солдаты и матросы. Началось осуществление формулы Бриана: единство действий на едином фронте. Французские ажаны, разъезжая по городу на лошадях, останавливали офицеров с «Аскольда»:
– Просим прервать прогулку: ваши матросы дерутся.
– К тому их и готовили. Но… с кем дерутся?
– С русскими же солдатами, мсье.
– Верно делают: армию надо проучить… армия зазналась!
Иванов-6 подъехал на такси, когда дралось человек двести (если не больше). Драка уже захлестнула соседние улицы. Префектура не могла разнять свалки и вызвала пожарные колесницы. Был дан мощный напор, и упругие струи воды хлестали вдоль улицы, вышибая стекла в домах.
Вода несла и кружила солдат и матросов… Ржание лошадей, грохот воды, свистки и крики, звон стекол!
Иванов-6 сказал одному ажану:
– Одолжите мне ваш револьвер. На один только выстрел.
Выстрелом в небо он заставил людей на миг остановиться.
– Солдаты меня не касаются, – заявил спокойно. – Но матросы с крейсера «Аскольд» – марш на корабль! Спать!
Его послушались. Беспрекословно. Он протянул револьвер.
– Благодарю, – сказал ажану.
Тут ему предъявили круглый счет:
– Мсье, ваши матросы действительно храбрецы, и Франция всегда их уважала. Но, по русскому обычаю, они неосторожно хватались за посуду и мебель… Наше заведение просит русское доблестное командование возместить убытки.
– Я человек семейный, – отвечал Иванов-6, раскрывая бумажник. – Но я… отец, а матросы – мои дети. Их грех – мой грех!
Толпою валили матросы в гавань Petite Rade, растрепанные, хмельные, в синяках и кровище.
– Ничего! – орали, утираясь. – Крупа долго будет помнить.
– Саша Бирюков себя показал, – веселился трюмный.
Харченко, заклеив глаз пластырем, увязал в чемодан нехитрые пожитки. Попрощался, с кем хотелось, и отправился в дальний путь. А на сходне встретился со штабс-капитаном армии.
– Этот пароход и есть крейсер «Аскольд»?
– Шагайте смело, – отвечал Харченко. – Только за борт не заиграйте. Это не пароход, а крейсер первого ранга «Аскольд».
– Вот его-то и надобно мне, – строго произнес армейский.
Харченко вскинул чемодан на плечо, на котором жестко коробился серебряный «контрик», и – зашагал. Путь далек: через всю Францию, потом Норвегия, Швеция, Финляндия…
А там уже и Кронштадт, где свершится переворот судьбы!
Глава четвертая
– Штабс-капитан корпуса Особого назначения, командир батальона Небольсин. Прислан к вам его превосходительством генерал-майором Марушевским!
Иванов-6 склонил лысую голову:
– Весьма польщен. Но у нас на флоте принято называть офицеров не по званию, а по имени-отчеству.
– Виктор Константинович, – представился штабс-капитан.
– Вот и отлично, Виктор Константинович. Прошу садиться… окажите милость. Что вас привело к нам?
Небольсин присел и с некоторым удивлением (он – человек казармы!) оглядывал сейчас обстановку салона. Резные панели мореного дуба, роскошный министерский стол командира крейсера под двумя золочеными бра… Бархатные портьеры, блеск хрусталя и люстры старинной выделки. И вдруг под койкой что-то зашевелилось отвратно, и выползло оттуда нечто страшное.
– Ой! – воскликнул Небольсин, заметив удава.
Иванов-6, вытянув ногу, затолкал питона обратно под кровать.
– Он у меня сыт, – сказал равнодушно. – Итак, я слушаю…
Как и следовало ожидать, штабс-капитан заговорил:
– …О том досадном недоразумении, которое произошло недавно в одном из кабаков Тулона, и мне…
Но Иванов-6 сразу прервал его:
– Простите, Виктор Константинович, но мне знакомо ваше лицо. Откуда я знаю вас? Где мог видеть?
Штабс-капитан сидел в кресле, уверенно утопая в кожаной глубине. По облику этого человека было видно, что он будет хорош в любой одежде – и в мундире, и в поддевке, и в смокинге.
– Возможно, – улыбнулся Небольсин. – Дело в том, что я офицер запаса гвардии. В отставке! До войны же был актером.
– На любительской сцене?
– Нет, – поморщился Небольсин, будто его оскорбили. – Я был на профессиональной. Играл в Петербурге, в Театре Комиссаржевской… Конечно же, под псевдонимом! И режиссерствовал на сцене провинциальной. Мое лицо, – добавил он, – должно быть, оттого и знакомо вам. Да и фотооткрытки актеров расходились по всей России.
– Вот-вот, – кивнул Иванов-6. – Наверное, потому я вас и знаю… Что ж, очень приятно. Теперь снова в армии?
– Да. Знание французского языка. Желание повидать большой мир. Участие в общей мировой трагедии, – вдруг заговорил Небольсин казенными словами. – Сейчас вот из форта Мирабо передвигаем части на лагерь Майльи под Шалоном, откуда…
– На фронт! – досказал за него Иванов-6. – Понятно. Ну, а каково настроение ваших солдат? Не считают ли они, что это авантюра – посылать русских сражаться во французские окопы, когда своя земля трещит под ногами?
Небольсин, как опытный актер, остался невозмутим.
– Солдаты – отборные красавцы, молодцы, – ответил он. – Что же касается авантюризма, то… Простите, я не могу расценивать это как авантюру. Несут же в России охранную службу Мурманского побережья британские и французские корабли? Война Стран Согласия и требует согласного единения всех сил Антанты!
– А генерал Марашевский прислал вас ко мне…
– Для того, – ответил Небольсин, – чтобы выразить недоумение по поводу того прискорбного столкновения.
– Впервые слышу! – сказал Иванов-6. – Не может быть! Мне никто не докладывал.
– Однако же это так, – настаивал штабс-капитан.
– Впрочем, – согласился каперанг осторожно, – крейсер не стоит на месте. Портов много, а значит, и столкновения возможны. Драться с кем-то ведь надо! Дерутся же студенты с полицией…
– Генерал Марушевский, – корректно отметил Небольсин, – надеется, что наказанию подвергнутся виновные не только с нашей, армейской, стороны.
– А ваши солдаты уже наказаны?
– У нас дисциплина, и ни один проступок не остается безнаказанным. В условиях республиканской страны, где ни один наш жест не остается незамеченным, иначе быть не может.
– Хорошо, Виктор Константинович, – согласился командир «Аскольда». – Я разберусь в этом случае. И можете передать его превосходительству, что виновные понесут наказание…
Каперанг известил потом Быстроковского:
– Роман Иванович, узнать виновных, я думаю, будет нетрудно, ибо солдаты свои визитные карточки матросам тоже оставили. Так поставьте всех, кого морда выдаст, под ружье. Часа на четыре. С полной выкладкой. В ранцы – песок иль кирпичи. Я надеюсь, что военно-морской атташе в Париже останется нами доволен…
Потом, просматривая списки выявленных участников драки, Иванов-6 велел Быстроковскому:
– А теперь, Роман Иванович, распорядитесь, чтобы по этому списку выдавали каждому, кто будет стоять под ружьем, по две чарки водки. Они поймут, что я не осуждаю их за драку.
– Но тогда, – возразил старший офицер, – атташе Дмитриев в Париже или – хуже того – граф Игнатьев не будут довольны.
– Но они же должны понять, что я вынужден поддерживать в матросах боевой дух. Пусть лучше дают волю кулакам, но зато поберегут языки… от политики! Вы ведь знаете, сколько неприятностей приносит русскому флоту эта политика…
Люди не могли не чувствовать, что в России что-то происходит. И когда накипь гульбы схлынула с них, как вода с гладкой клеенки, они потянулись к живому слову…
А где взять-то его, это живое слово? Шестьсот рублей в год отпускало питерское Адмиралтейство матросам «Аскольда» на это живое слово. Деньги для приобретения литературы были в руках корабельного ревизора лейтенанта Корнилова. Куда он их дел, об этом лучше спросить у тех девочек, которые назывались одинаково, хотя цвет кожи их был различным. За два года войны в библиотеке крейсера хоть бы одна новая книжка появилась. А старые зачитали до дырок. Их было в крейсерской библиотеке всего двести. Любой грамотный матрос в полгода проглатывал библиотеку залпом, а потом… Конечно, от такой тоски пойдешь в кабак как миленький!
Теперь, на заходе в Тулон, Корнилов как-то извернулся с деньгами и выписал команде «Русское слово» (издание патриотическое). Получая же газеты из России, первым делом лейтенант запирался у себя в каюте, брал ножницы для стрижки ногтей и начинал инквизиторствовать – вырезал из газет думские речи.
Барон Фиттингоф фон Шелль как-то застал его за этим занятием и строго осудил:
– Володя, это ты нехорошо придумал. Это нечестно!
– А зачем нашим матросам читать либеральную болтовню? О том, что на фронте нехватка снарядов, о том, что в министерствах сидят предатели и шпионы, о том, что Распутин… Зачем?
– Дай, – ответил минер, – прочесть матросам хоть эту болтовню. Не имея даже думских речей, матросы начнут искать новые источники сведений из России. И смотри, как бы не потянуло их на нелегальщину… Россия – такая страна, из которой ножничками для ногтей правды не вырежешь!
– Отстань, баронесса… – сказал Корнилов.
Но даже из раскроенных газет чувствовалось: перелом в настроении русского общества обозначился, и сквозь зазывания к победе уже пробивались возгласы недовольства войной и властью. Цены на продукты в России (как писали тогда) росли в стремительном «crescendo». Внутри страны вспыхивали бунты и забастовки, а в окопах поселилось уныние, от которого еще злобнее грызли солдат фронтовые вши.
Как раз недавно, для поощрения команды, часть матросов отправили в Париж – пусть поглазеют. Но в Париже за каждым не уследишь. Куда он пошел – не проверишь. В кабак? Пожалуйста: пьянство даже поощрялось, как занятие бравое. Но там-то, именно в кабачках, и случались нечаянные встречи с русскими эмигрантами-революционерами. Русская колония в Париже буквально разодралась из-за матросов-аскольдовцев[2]. Крепкие моряцкие головы хорошо выдерживали разливы даровых абсентов, но зато шатались от наплыва программ и зазываний.
Иной час нарывались на оборонца, который, восхваляя матросскую доблесть, поднимал бокал:
– Война до победного конца! За Босфор и Дарданеллы!
Он, дурак, не понимал, что эти люди недавно вернулись из-под Дарданелл, и тогда они отворачивались грубо:
– Ты, видать, куманек, Дарданеллы эти самые в книжке у себя дома выглядел. А сколько там наших в парусину зашили…
Опасались и пораженцев. Многих избили насмерть – люто и зверино, бляхами, по кабакам и тавернам:
– Рази напрасно кровь проливали? Утрися, лярва…
Из мусора политических междоусобиц, раздиравших тогда русскую эмиграцию, трудно было извлечь зерно истины. И не всегда умели матросы, надолго оторванные от России, отличить правду притворную от настоящей. Из Парижа они вернулись задумчивые, в некотором смятении.
«Баковый вестник» на крейсере теперь вовсю «печатал» свежие новости, и частенько слышалось:
– А Левка-то что сказал? Левка не так говорит… Надобно у Левки про это дело справиться.
Дошло это и до кают-компании. Иванов-6 как-то спросил:
– Роман Иванович, мне стало известно, что на борту крейсера появляется некий Левка… Что вы знаете о нем?
– Я думаю, – ответил Быстроковский, – что с подобным вопросом лучше обратиться к отцу Антонию.
Аскольдовский поп сказал командиру:
– Левка от церкви отбился и ходит наши службы послушать. Молится исправно.
…Заканчивался ужин в палубе комендоров. Еще не убрали столы, как наказанные за драку похватали винтовки в ранцы с песком, поспешили на шкафут. Это наказание было тяжелым не потому, что тяжел сам по себе ранец. Стоять под ружьем матрос имел право только в свободное время. Другие поют и пляшут или дрыхнут, как сурки, а ты стой – дурак дураком, и песок тебя книзу тянет…
Павлухин вышел на палубу, когда шеренга людей уже выровнялась, вскинув винтовки на плечи. Застыли. Только глаза зыркали по сторонам, тоскливые. Невдалеке прохаживался вахтенный офицер лейтенант Корнилов.
– Эх, дураки вы, дураки, – пожалел Павлухин наказанных.
– Гальванер! – окрик Корнилова. – Не разговаривать, а то я тебя сейчас рядом с ними поставлю.
– Есть! Извините, господин лейтенант.
Павлухин был четок и подобран. Отличный матрос первой статьи. Карцера он не знал. И никогда не был застигнут «шкурами» курящим в неположенном месте. Павлухин курил всегда возле обреза на баке. Но, если бы начальство оказалось повнимательнее, оно бы заметило, что гальванер курит дважды в сутки (дымок пускает) всегда в одно и то же время. И почему-то всегда застает возле обреза шифровальщика Самокина.
Вот и сегодня – встретились. Здесь разговора не вышло.
– Дело, – сказал Самокин, одернув мундир. – Пройдемся, гальванный, тут один кабачок есть… Недалече!
Тут же, не выходя из гавани, забрели в дешевый матросский кабачок. Рыдала мандолина в руках итальянца, спасенного вчера с погибшего танкера. Шумная матросня с французских эсминцев резалась в карты. Пили вино женщины – со зрачками, которые расширены антропином, словно от ужаса. Чад стоял…
– Чего хмурый? – спросил Самокин.
– Устал. Визирную схему сегодня разбирали с Ландсбергом.
Самокин заказал бутылку вина и большого омара.
– Тяни, – сказал, взяв омара за одну клешню.
Павлухин за другую, и растащили омара на куски.
– Выпей… ешь… поговорим!
Долго пили и сосали омара молча. Потом Самокин раздраженно шлепнул клешню на стол.
– Натащили, – сказал, – всякой дряни… Бараньи головы! Ни хрена не смыслят, а тащут на крейсер всякую баланду, что числом поболее да подешевле. В головах – во: шурум-бурум!
И, оглядев дымный зал кабака, в упор поставил вопрос:
– Левка… ты его знаешь?
– Нет.
– Посмотри. Вылущи его, сколько можно. И мне потом расскажешь. Я знаю: команда тащит с берега нелегальщину. Прямо тюками прет. Литература – дрянь! А у некоторых появилось оружие. Организации в том смысле, как мы с тобой ее понимаем, – такой организации на «Аскольде» нет.
– А что есть? – спросил Павлухин.
– Список, – ответил Самокин. – А какой-то дурак вчера ляпнул, что взорвись «Аскольд» – и война сама по себе для нас, служащих на «Аскольде», кончится.
– Дураков еще много, – вздохнул Павлухин.
– Крейсеров на святой Руси тоже немало… В кубриках составили список того, что им представляется «организацией». Но это – шалтай-болтай. Любой войди и выйди. Как в нужник на углу улицы. А наша с тобой задача, слушай…
– Ну! – навострился Павлухин, весь во внимании.
– Здесь не Кронштадт – Тулон, – говорил ему Самокин. – Вдали от своих, без партии, мы – тьфу! Я ввязываться, сам понимаешь, не могу. Партия никогда не простит мне, если я буду разоблачен. Но попробуй ты сделать так, чтобы всё убрали. И литературу, и оружие. Преждевременное выступление – смерть. Да и никто не даст нам сейчас выступить – даже преждевременно. «Ванька с барышней» мужик с башкой. Не хотели жрать аденскую верблюжатину – пожалуйста, он открыл им консервы. Что они могут? Сказать, что не хотят каши, а хотят макароны… Он даст им макароны! Всё? Революция – поминай как звали?
Павлухин смеясь вытер руки о скатерть:
– Они даже макароны просить не могут. Кормят как на убой… Ты прав, Самокин, в Тулоне даже «мама» сказать не дадут. Я догадываюсь, что тут не обошлось без Шурки Перстнева. Если бы князь Кропоткин не был князем, то Шурка бы и мимо анархизма прошел, плюнув на сторону. А тут – князь, дело серьезное, Шурке-то нашему и приятно, что он с князем на одной ноге стоит.
Вышли к причалам. Вдали, среди леса мачт, высились стрельчатые салинги «Аскольда».
– Смотри! – сказал Самокин, взяв Павлухина за руку. Между ноками реи, вдоль антенны, пробежала веселая искра.
– У нас заработало радио… Пойдем!
Придя в свою каюту, Самокин сначала стянул мундир. Аккуратно повесил его, выровняв погоны, на спинке стульчика. А за переборкой, в соседней радиотелеграфной рубке, уже попискивал аппарат. Скоро звякнул звонок, Самокин откинул в борту узкую дверцу, туда просунулась рука, протягивая бланк с шифром.
Всё! Окошечко снова закрылось. Тайна в его руках.
Самокин был педантично обстоятелен. Раскрыл коробку с сигарами. Выложил из кармана спички. Тоненько заточил карандаши. И только потом грохнул на стол кодовую книгу в пудовом свинцовом переплете. Перед глазами кондукто́ра побежали, строясь в загадочные ряды, жучки таинственных сочетаний:
«…КЧЭ-213… ПТА-7… БРЩ-1089…»
Самокин был шифровальщик опытный, и через полчаса все было закончено: готовый текст лежал перед ним.
«Все ли?» Теперь-то все и начиналось…
Отбросив карандаш, кондукто́р захлопнул коды и крутанул себя назад на кресле-вертушке. Глядя в иллюминатор, где розовела вершина Монфарон, Самокин сказал:
– Доигрались, кошкины дети…
– Войдите, – разрешил Иванов-6.
– Ваше высокоблагородие, – доложил Самокин, – мною в двадцать сорок семь закончена расшифровка.
– Откуда, кондукто́р?
– Из посольства в Париже, подписана Извольским.
– О чем там?
Самокин поднес бланк расшифровки к лицу, словно желая еще раз ознакомиться с нею.
– Следует предупреждение от имени посла в Париже, что на крейсере ведется антивоенная пропаганда.
– Вы не ошиблись, кондукто́р, во время расшифровки?
– Никак нет, ваше высокоблагородие.
– И что далее?
– Далее сказано: изолировать от команды матросов, зараженных пораженческой пропагандой, которая питается соками немецкой тайной агентуры во Франции…
– У меня? На крейсере? – спросил Иванов-6, прикладывая к груди руки. – И чтобы… немецкая агентура? Извольский не знает, что у меня половина команды – георгиевские кавалеры! – Каперанг справился с волнением и закончил: – Хорошо, кондукто́р, благодарю вас. Положите текст на стол и можете идти…
– Есть идти! – Самокин затворил двери салона за собой столь осторожно, словно там оставался покойник…
А за переборкой снова пищал аппарат; в секретное окошечко передачи опять просунулась рука, и блеснул перстенек на пальце, дешевенький, но лица радиста не было видно. Только слышался его голос:
– Эй, Самокин, ты никуда не уходи… На ключе шифровка!
– Еще?
– Да.
– Откуда?
– Из питерского Адмиралтейства, берем ее через Эйфелеву башню. Так что не уходи, сейчас мы ее забланчим!
Пока шифровку перебеляли с ключа на бланк, Самокин нервничал. Он умел владеть собою, этот немолодой кондукто́р, но столбик пепла с сигары упал на узор японской циновки. Чистоплотный человек, Самокин не допустил бы этого, если бы так не волновался сейчас… Что там в новой шифровке?
В новой шифровке говорилось, что тайная полиция (русская и французская) обеспокоена создавшейся на крейсере революционной ситуацией, и спрашивалось – все ли сделано офицерами, чтобы предотвратить взрыв крейсера?..
Самокин вспотел. Схватил веер – фук-фук-фук.
– Что они там? – сказал. – С ума все посходили?..
Но к кому это относилось – к Адмиралтейству или же к матросским палубам «Аскольда», – было пока неясно.
Штрафной матрос второй статьи Иван Ряполов на цыпочках шел к трапу, неся в кончиках пальцев миску с борщом. А один палец, самый большой, даже купался в миске.
– Не дожрал, штрадалец? – спросил его Павлухин.
– Не мне, – ответил Ряполов. – Это к нам Левка пришел!
Павлухин не кинулся бежать со всех ног, чтобы посмотреть на Левку. Нет, гальванер остался спокоен. Павлухин еще не знал о предупреждающих шифровках; он сейчас стоял и раздумывал. Да… На крейсере уже завелись какие-то шуры-муры. Игра в молчанку. Шепоты. Намеки… Собрал себя в комок. «Ну что ж… пора!»
Даже не коснувшись ногами трапа, Павлухин скатился в глубину палубы. На одних только ладонях, по яркой латуни поручней – вшшшшик! А каблуки по железу – щелк, и гальванер уже в жилой палубе кубрика.
Левка же оказался… Никогда не думал Павлухин, что Левка окажется французским солдатом. Молодой парень. Зубы хорошие. Волосы черные. Взгляд открытый. Сидел он, раскинув локти по матросскому столу, и доедал борщ из миски.
Павлухин сделал шаг вперед, протянул ему руку.
– Здоруво, – сказал весело. – Здоруво… Левка!
Левка поднялся, всматриваясь в Павлухина:
– Привет тебе… товарищ.
– Павлухин, – назвал себя гальванер.
И тогда солдат вышел из-за стола, приударил каблуками:
– Виндинг-Гарин! Земляк и твой соотечественник, коему мать-родина обернулась злой мачехой…
– Солдатствуешь? – спросил Павлухин с улыбкой.
– По маленькой.
– Это что за форма?
– Иностранный легион, – пояснил Левка.
– А фамилия-то… как правильно? Виндинг или Гарин?
Левка даже не мигнул.
– Как хочешь, – сказал, – такая и правильно… В нашем легионе фамилии не спрашивают. И все мосты за спиной сгорели. Так что, приятель, если в замазку нагишом влипнешь, так вылетай к нам – примем с бутылкой и маршем…
– Ну-ну, – сказал ему Павлухин и потрепал по плечу. – Давай шамай. Да поделись с нашей серостью… Веришь ли, живем – как в сырой могилке, ни хрена не знаем.
Но подзадорив Левку, Павлухин расчетливо отошел в уголок. Оттуда позыркивал глазами, щипал ус, слушал. Слушал – и не мог уловить партийной сути этого черномазого парня в форме французского солдата. И, когда Левка встал, прощаясь, Павлухин снова похлопал его:
– Ну, ты заходи. Пошамать когда захошь – заходи. У нас этого дерьма-борща кипят котлы кипучие.
Вечером Павлухин стал осторожно выпытывать у матросов, где они прячут нелегальщину. Если узнавал, советовал:
– Выбрось!
– Да ты что? Очумел?
– Ты сам очумел… Выбрось!
Отозвал Шурку Перстнева в сторону:
– Шурка, ты парень-хват, я знаю. Где список?
– Печатают, – отмахнулся Шурка и забегал глазами.
– Верно, что печатать стали. Один напечатал, второй напечатал… Завтра в Адмиралтействе знать будут.
– Нету списка! – решительно заявил Шурка.
– Ну и дурак… – сказал ему Павлухии. И пошел дальше. А в спину ему заорал Перстнев:
– Стой!
Остановился гальванер:
– Чего тебе?
– А откуда ты про список наш снюхал? – спросил, подбегая.
– Писаря болтали…
– Врешь!
– А ты уничтожь список. Тогда и врать не придется.
– Да нету, – божился Шурка. – Нету ведь, говорю…
– Вот и хорошо, что нету, – закрепил разговор Павлухин. – Тебе, как внуку князя Кропоткина, все равно в кандалах брякать. Так позаботься, чтобы другие своим ходом ходили.
…На мачту корабля уже поднимается флаг «херы», что означает по «Своду сигналов империи» – на корабле идет богослужение (просим не тревожить). Отец Антоний, шелестя фиолетовой рясой, появляется в церковной палубе. И сразу, как по команде, начинается потеха.
– Которые тута верующие, стано-овись!.. Очи всех на тя, господи, уповахом… Пивинской, куда впялил-ся? Смотри сюды!
Офицеры вообще стараются не посещать корабельных богослужений, чтобы отмолиться за все грехи сразу в Андреевском соборе Кронштадта. Только один Женька Вальронд забегает изредка в церковную палубу. Ибо он еще молод, и душа его жаждет бесплатных публичных зрелищ. К тому же мичман тренируется на умении сдерживать в себе сатанинский хохот. Когда вокруг него вся команда уже лопается от натуги, лицо Вальронда еще хранит удивительное благолепие…
Именно-то этим он и привлекает внимание отца Антония.
– Ты што сюда пришел? – шепчет он мичману. – Посмеяться? Ты думаешь, мичманок, я тебя не вижу? Я тебя наскрозь вижу…
Вальронд, как монашек, с постным лицом меленько крестит себя по пуговицам. Рядом с ним – Ряполов, и мичман ему внушает:
– Мой дорогой, восчувствуем! Старайтесь прожить свою жизнь так, чтобы после вас оставалось одно благоухание…
Гальюнный долго соображает, и вот его ответ:
– Ешть, благовухание!
Отец Антоний шире обычного взмахивает кадилом:
– Я вот тебя сейчас как благо… ухну! А ну, второй статьи матрос Ряполов, пошел вон от греха подальше!
– Ешть, от греха подальше!
Буркалы отца Антония с желтизною вокруг мутных зрачков вперяются в мичмана: выдержит или не выдержит? Минута, вторая, третья… Неужели не прыснет смехом? Нет, не смеется. Уже натренировался.
– Которые тута верующие, – на всю палубу заводит батька, – те да пребудут. Которые тута неверующие – изыде!
Тут матросы, словно того и ждали, сломя голову кидаются по трапу. Наверху они дают волю себе… А в церковной палубе, один на один с батькой, остается Вальронд, которому не привыкать к «святости».
Мичман что-то достает из кармана штанов – остренькое и блестящее. Отец Антоний не сразу догадывается, что это штопор для отдраивания питейных сосудов.
Умильный голос Женьки Вальронда влезает в душу запойного священника, аки змий искушения в дупло райской яблоньки.
– Ваше преподобие, не хватить ли нам на сон грядущий по бутылочке вина церковного?
– С чего бы это? – задумывается отец Антоний.
– Да ведь мне, – смиренно произносит Вальронд, – подлец Володька Корнилов в буфете на долговую книжку уже не пишет…
Последний раз поют горны. Отбой. «Койки брать, всем спать, спать, спать». Гаснут огни, и загораются ночные фонари. Синие, как в покойницкой. Заступает собачья вахта: от ноль – ноль до ноль – четыре. «Собака» – самая проклятая вахта. И тишина над гаванью, только перезвон склянок в полночь: дин-дон, дин-дон…
В каюте боцмана долго щелкают конторские счеты, взятые им в долг до утра у писарей крейсера. Власий Труш в последнее время тоже ударился в политику. Восемьсот сорок банок с ананасами укладываются рядком в газетные статьи о голоде в России. Труш прикидывает в ночной тишине так и эдак. Ежели сразу по два рубля за банку? Сколько получится?.. Ведь недаром от самого Сингапура пер экую прорву… Спишь, бывало, в штормягу, а глаз сторожит, как бы банки не раскатились… «Хорошо бы, – думает теперь Труш, – пришел крейсер в Россию, а там у населения уже кишки склеились… Тогда бы и по пятерке: отдай и не греши. Это же тебе не картошка!»
Павлухину не спалось. Лежал он в своей подвесушке, смотрел на тараканов, падавших с подволока на спящих, и раздумывал. Сейчас можно ожидать любой провокации. А команда конспирации не ведает; надо как-то помочь людям, честным ребятам, чтобы они по горячности не загремели на каторгу. Левка тут крутится, темный человек, Шурка Перстнев баламутит… Так и жди!
Возле Павлухина, храпя в гамаке, качался Захаров – матрос и человек очень хороший, еще с Сибирской флотилии. Гальванер огляделся вокруг – кубрик спал. И, вытянув руку, на всякий случай прощупал подушку Захарова. А в подушке нащупал рукоять револьвера. Осторожно развязал тесемки. Вынул оружие… «Вот о чем говорил мне Самокин!»
Тихо спрыгнул, и вдруг – сверху – голос:
– Ты што, гнида, чужое берешь? А?
Павлухин, босой, в одних кальсонах, стоял перед Захаровым с револьвером в опущенной руке.
– Дурак, – зашептал, – ты еще благодарить меня будешь.
– Отдай! Я триста франков платил… В жисть не заработать!
Но револьвер, матово блеснув, уже вылетел в иллюминатор и навеки пропал в темных водах Petite Rade. Захаров кошкой бросился на Павлухина с потолка, рванул его за прическу. Павлухин от боли раздернул на нем тельняшку; вжик – так и разъехалась до самого пупка. Полуголые, они сцепились. Дрались под гамаками коек, задевая спящих кулаками. Кубрик обалдело проснулся, отовсюду галдели:
– Кончайте вы эту баланду… Среди ночи-то – чего делите?
– …Триста франков, – хрипел Захаров. – А ты, паскуда, за здорово живешь… На!
Избитые в кровь, подбирая руками подштанники, стояли два человека – вчерашние друзья. Их разнимали товарищи:
– Да будет вам. Второй час ночи… Нашли, когда порхать кулаками. Ложись, братва! Они больше не будут…
– Я лягу! – орал Захаров. – Я лягу! Но ты погоди, паразит гальванный, я тебе прицел разыграю… Ты у меня на свой дальномер раком будешь ползать!
– А ты мне еще спасибо скажешь, – отвечал Павлухин.
Как и водится, нашлась «шкура» – донесла, что дрались среди ночи, взбулгатили всю палубу. Хорошо, что у Захарова хватило ума не проговориться в пылу драки о причине поединка. И вот обоих потащили к старшему офицеру крейсера.
Быстроковский вызвал сначала Захарова:
– Георгиевский кавалер… ай-яй! Расскажи мне, почему среди ночи развел драку с этим гальванером?
– Из-за бабы, – ответил Захаров.
Вызвали потом и Павлухина, пришел.
– Георгиевский кавалер… ай-яй! Расскажи, за что тебя бил комендор Захаров?
– Из-за девки, – ответил Павлухин.
Оба не сговаривались. Но так уж получилось, что ответы их были почти одинаковы. Быстроковский же, как видно, особой разницы в природе девки и бабы вообще не признавал. Потому и отпустил обоих «кавалеров» с отеческим внушением.
В командном гальюне убирали в тот день, как всегда, два друга-приятеля – Пивинский и Ряполов.
– Прямо героический крейсер, – говорил Пивинский, а Ряполов его слушал. – Били мы японцев, били турок, били немцев… Теперь друг друга колошматить начали. Про солдат я уж и не говорю: на то она и армия, чтобы флот хлестал ее в рыло. Слушай, штрадалец, – спросил Пивинский, – не ты ли накапал старшому о драке в палубе?
– Што я тебе… шкура? – обиделся Ряполов.
– Шкура не шкура, а все мы шкурой обтянуты. И что ни говори папа с мамой, а шкуру свою беречь надо – во как! Лучше пускай чужая шкура трещит… А свою, брат, и погладить можно.
Тень упала от дверей, и, шагая через водостоки гальюна, к ним приблизился Власий Труш:
– Ряполов закончит. А ты – эй! – следуй, вонючка…
Боцман отвел Пивинского в нос крейсера и запер, как таракана, в узкую щель карцера. Не повернуться, не разогнуться.
– За што? – скулил оттуда Пивинский.
Тогда откинулся глазок, в дырку вставились толстые, выпяченные губы Труша:
– Кондер тебе таскать будем – лопнешь! Загляни под банку, там святцы лежат… А ты мне будешь нужен. Но все должны на крейсере знать, что сегодня ты сидел под арестом…
Банка – так зовется на флоте любая скамья. Пивинский заглянул под банку, выискивая святцы, и там блеснул ему чудесный шкалик. Такая красотища – просто ух!
– Это тебе для смелости, – пояснил Труш, наблюдая за радостью Пивинского. – Мы же не звери. И человека, коли он человек, то… Как его не понять? Всегда понимаю…
В этот день из ружейных станков, размещенных в коридоре кают-компании (подальше от команды), пропали две винтовки. Было дано знать в Пятую флотскую префектуру, и на «Аскольд» прибыл комиссар полиции. Комиссар долго слушал путаные соображения Иванова-6, молчал, наслаждаясь прекрасной сигарой из ящика каперанга. Наконец ему молчать надоело:
– Мсье Иванов, я вас понял. Эти винтовки мы уже нашли. Недалеко отсюда. На дворе заводского цеха. Но скажите мне, зачем обращаться к полиции, если вы сами знали, где спрятаны ваши винтовки? Это же – неловкий шантаж…
Иванов-6 выставил комиссара прочь. Он был опозорен.
Но каперанг действительно не знал, куда делись винтовки. Он в этой провокации не участвовал.
Глава пятая
Долго не ложились спать офицеры и команда. Все были возмущены глупой и наглой провокацией. В офицерских каютах крейсера прямо обвиняли в пропаже винтовок боцмана Труша, который действовал по указке… Федерсона!
– Нашему механисьёну, – говорил Женька Вальронд лейтенанту Корнилову, – очевидно, снится аксельбант флигель-адъютанта. Я уже давно к нему приглядываюсь…
– И что?
– И знаешь, Володя, с ним что-то неладное в лунные ночи. Но Федерсон плохо извещен: машинные типы во дворец не вхожи. «Царскосельский Суслик» не переносит запаха мазутного масла.
– Же-енька, – протянул кормовой плутонговый, – ты говоришь о его величестве как матрос, это нехорошо…
Между тем офицеры пришли к согласному убеждению, что матросы распустились, их надобно подтянуть. Слишком много воли дано им! Стоянку в Тулоне надо разумно использовать для внедрения железной дисциплины. А что делают унтер-офицеры? На всех кораблях они друзья и помощники кают-компании. Они цепные псы флотской логики. На «Аскольде» же они более близки к матросам, нежели к нам, к офицерам… – так рассуждали. А за ужином каперанг Иванов-6 произнес одну фразу, которая – через вестовых – дошла, конечно, и до матросских кубриков:
– Меня опозорили свои же офицеры. И перед кем? Перед французской полицией… Стыдно, господа, стыдно!
Утром, еще очень рано, когда зевающие вестовые перетирали хрусталь к завтраку, раздался звонок на расблоке. Электрическое веко закатилось на глазу лампочки. Как раз под табличкой с надписью: «Комкор» (командир корабля).
– Каперанг вызывает к себе… – И, взмахнув полотенцем, вестовой Васька Стеклов поднялся в командирский салон: – Ваше высокоблагородие, явился по вызову… Что прикажете?
Иванов-6, истерзанный сомнениями и бессонницей, сказал:
– Базиль! Завари для меня «адвокат» покрепче. К столу в кают-компанию я сегодня вообще спускаться не буду…
Стеклов бесом скатился по трапу, рассказывал в буфете:
– «Адвоката» просит. К столу не выйдет. Обиделся здорово…
Он заварил каперангу «адвокат», так назывался крепчайший чай. На темно-вишневой поверхности плавал, благоухая, ломтик лимона. И торчала из стакана ложечка с монограммой «Аскольда».
– Хорошо, – сказал Иванов-6, отхлебнув. – Ступай…
Потом кто-то долго царапался в двери салона.
– Кто там? Войдите…
Дверь открылась (неслышно), и в полутемном салоне выросла фигура матроса – незнакомого. В робе, застиранной. На груди его – номер, начинающийся с нуля. По номеру Иванов-6 уже знает, что матрос этот сер, как лапоть деревенский; ноль – это значит: у него нет разумной специальности, его дело на корабле самое грязное, ума не требующее.
– Ты кто? – спросил Иванов-6.
– Штрафной матрош второй штатьи Ряполов, ешть!
– Не ори. Еще все спят на крейсере… Знаешь ли ты, что сюда ни один матрос не имеет права входить?
– Так тошно – жнаю!
– Где тебе, сукину сыну, зубы выставили?
– Итальяшки… иж Мешшины.
– Вот как? С какого же времени ты у меня на крейсере?
– От шамых Дырданелл, ваше вышокоблагородие…
Иванов-6 еще раз хлебнул «адвоката» и устало вздохнул.
– Ну, – разрешил, – теперь можешь рассказывать.
Павлухина тряс за плечо Шурка Перстнев, перепуганный:
– Вставай, дурында… Скочи с койки!
Павлухин открыл глаза – прямо в лоб ему светили лампы с подволока. Качались койки, будто их швыряло штормом, а под гамаками уже строили полуголых матросов, расхаживали офицеры и боцманматы…
Павлухин стряхнул остатки сна.
– Хоп! – И спрыгнул вниз. – Что у вас тут?..
Фельдфебель Ищенко сразу запихнул его в шеренгу.
– Все в сборе, – отрапортовал он Быстроковскому.
Тут же стоял мичман Вальронд. Руки – по швам, глаза плутонгового – в смятении.
– Мичман, – окликнул его Быстроковский, – вы своих людей знаете лучше нас… Вот и приступайте с богом!
Вальронд шагнул к матросам.
– Ребята, – сказал он сорванно, дребезжа голосом, – на крейсер «Аскольд» проникли немецкие агенты. Прошу вас всех…
– Мичман! Не так надо, не так, – вмешался Быстроковский, беря дело в свои руки. – Внимание, слушай мою команду…
Людей развернули лицом к борту. Держа подштанники, вперились они в стальной борт, пробитый шляпками заклепок. Внимательно изучали в тоске путаницу проводов и патрубков. Там бежит электричество, там грохочет пар, там рвется по трубам вода. А за их спинами уже рьяно работали боцманматы, ученики Труша.
– Павлухин! Кру… хом!
Гальванер четко обернулся:
– Есть!
– Твои шмотки?
– Мои…
Возле ног Павлухина раскинули матросское барахло: прощупанный пальцами матрас, подушка, запас белья, две книжки по теории электричества, сборник биографий великих людей, открытки с видами Парижа, конверт с письмами от родных, кусок голубого мыла… ну и прочую ерунду.
– Я его знаю, – промямлил Вальронд, стыдясь. – Полухин хороший матрос, и фон Ландсберг готовит его на унтер-офицера…
Фельдфебель уже перетряхнул вещи, выпрямился:
– Ваше благородие, чисто!
– Павлухин, – велел Быстроковский, – на другой борт, бегом марш! Там и стой… замри.
Шлепая босыми пятками, Павлухин перескочил на другой борт. Замер, как велели, только зыркал глазами.
– Захаров! Кру… хом!
Обернулся Захаров, и не узнал его Павлухин: лицо синее от перепуга, глаза запали.
– Твоя хурда? – спросили его боцманматы.
– Моя… То есть, позвольте номер.
– Гляди: 2–56–43… твой номер?
– Так что, ваше благородие, моя хурда.
Павлухин думал: «Боится… Неужто не все выбросил?»
Трясли. Летели в сторону тетрадки с грустными виршами собственного сочинения про любовь… Через всю палубу глаза Захарова вклинились в глаза Павлухина – так, словно сейчас опять сцепятся в драке.
И вот выпрямились боцманматы:
– Чисто, ваше благородие.
Павлухин даже вспотел. Легкой рысцой, сияя лицом, к нему уже подбегал Захаров. Поворот – и замер рядом.
– Ну? – шепнул ему Павлухин. – Понял, сучья лапа?
– Спасибо… – долетел вздох облегчения.
Дошла очередь до погребного Бешенцова – баптиста. Старший офицер крейсера пустил по палубе, разметывая страницы, сборник прохановских «Гуслей». В злости рвал афонские книжицы, отпечатанные крамольными имябожцами.
– Несчастный сектант! Тебе – что? Больше других надобно? Ты что на меня, как на Христа, уставился? Я из тебя эту дурь выколочу, а глаза выкручу, как шурупы…
– И выколотили, и выкрутили, – отозвался Бешенцов.
– Ты на что намекаешь? Выверни карманы у робы…
На палубу звонко выпал дубль-ключ от носовых погребов. Тонны взрывчатки в руках этого человека с лютым взглядом, и Быстроковский невольно съежился.
– Можешь подобрать, – сказал и ногою придвинул к баптисту всю рвань «божественного»…
Вальронд стоял красный как рак. Мичман страдал за свой плутонг, за его людей – храбрых и сильных бойцов флота империи. Писали о них газеты – русские, британские, французские, бельгийские. А теперь, полураздетые, растерянные, они мечутся с борта на борт, и всё наружу – и рундуки, и души этих людей.
Женька Вальронд производил обыск поспешно и неловко, лишь бы отвязаться. С того конца палубы, где он перетряхивал вещи, чаще всего слышалось:
– Перебегай… Ты тоже беги… К борту, к борту!
Вальронд стоял внаклонку над вещами, разложенными в ряд; он стоял как раз спиною к шеренге матросов, еще ожидающих обыска. И вдруг мичман ощутил (так страшно, так бедово), как провис у него карман кителя. Тяжесть была такая, как будто в карман опустили ему булыжник с мостовой.
Никогда еще мичман не бывал так испуган, как сейчас. Ему было ясно: кто-то, невидимый из-за спины, спасая себя или товарища, переложил… револьвер. Кто? Но Вальронд еще больше боялся оглянуться, чтобы узнать дерзкого. Кто?..
– Перебегай, – сказал он, и кто-то перебежал…
Вляпался, как и ожидал того Павлухин, Шурка Перстнев.
– Твоя листовка? – радостно спросил Быстроковский.
Через плечо старшего офицера Вальронд успел прочесть несколько строчек: «…солдаты, не забудьте, что в лице каждого офицера, приветствуя которого, носит на руках своих темная, часто подкупленная толпа, вы славите свое вековое рабство. Не довольно ли крови, солдаты?..»
– Твоя? – снова спросил Быстроковский.
– Почему же она моя, – ответил Шурка, – если здесь про солдат сказано. А об матросах – ни звука!
– Ты мне тут придурка не выкобенивай… Где взял?
– Дали.
– Кто?
– Да когда в город ходил…
– Я тебя спрашиваю – кто дал?
– А я откуда знаю, ваше благородие? Барышня одна… собой ничего такая. «На, говорит, почитай, а потом я тебя поцелую!»
Быстроковский волком глядел на Шурку:
– Ну! И… поцеловала она тебя?
– Прочел, – сознался Шурка. – Мне-то что? Тут ведь о солдатах… Так что мне это совсем неинтересно читать было.
– Хорошо, – жестко произнес старший офицер. – Теперь я тебя целовать стану. Влеплю такой горячий поцелуйчик, что ты у меня только в окопах очухаешься…
Вальронд, пока там препирались, наспех перекидал оставшееся барахло. Выпрямился. И, стараясь встать к Быстроковскому не тем боком, где лежало оружие, отрапортовал:
– Роман Иванович, я закончил. Всё в порядке!
Придя в свою каюту, Женька вынул из кармана ловко сидевший в ладони браунинг. Открыл ящик стола, бросил туда оружие и задвинул ящик снова. Щелкнул ключик. «Кто?» Было ясно, что команда артиллеристов ему доверяла. Предать их он был бы не в силах. Да и к чему? В немецкую пропаганду на крейсере мичман не верил. Другие соображения руководили им…
Морской корпус его величества, славный громкими традициями русского флота, готовил прекрасных офицеров. Но от расчета траектории надо было вжиться – телом и нервами! – в броню: это труднее. Вальронд не забыл, каким растерянным щенком забился он тогда в угол башни. А пристрелочный уже подали с элеватора. А дальномер уже отрубил ему дистанцию. И ревун уже промычал… А он растерялся на «залпе». И тогда матросы, эти многоопытные воины, сделали из него бойца. Благодаря им он вылез из башни хозяином плутонга. Такие вещи не забываются. От этого и отношения Вальронда с прислугой орудия были доверительно добрыми. Матросы это понимали тоже, и вот… результат доверия: подкинули оружие, как своему…
А в палубе, после обыска, долго помалкивали матросы. И ходили, как барахольщики, подбирая свое белье и койки. Но вот откинулся люк и сверху спросили – тихонько:
– Эй, хлопанцы! У вас дым без огня был?
– С огоньком… Шурка Перстнев погорел. А у вас?
– Нашли… револьвер.
– У кого?
– Успели в рундук со швабрами кинуть. Чей – не дознались.
Итак, обыск был проведен только в двух палубах – носовом плутонге и кочегарном кубрике. Павлухин плотно увязал свою койку, вскинул на плечо, чтобы вынести наверх и поставить до вечера в сетки. Сказал он матросам, уже с трапа, так:
– Хорошая была побудка, день прямо табельный… Только знайте, это еще не обыск. Так не обыскивают! И потому еще раз говорю тем, у кого башка вихляется: если имеешь что – убери…
Рядом с ним ставил свою койку Шурка Перстнев, тихонький.
– Ух, и дал бы я тебе в ухо… – сказал Павлухин.
– За что?
– А так, чтобы тень на плетень не наводил. Себя гробишь – это плевать, твое дело, но вот ребят мутишь…
– Каждый за себя, – огрызнулся Шурка.
– Ври! – ответил Павлухин. – А где… список?
– Отстань, чего привязался? Говорю тебе – печатают…
На молитве плохо служил в это утро отец Антоний. Плохо пели и певчие – из добровольно верующих. Скверно ели матросы. Потом всех развели по работам. Однако разговаривать с французскими рабочими матросам запретили: мало ли еще какая зараза с языка на язык перескочит? И сразу же, именно с этого дня, между бортом русского крейсера и берегом Франции прошла глубокая трещина: французы стали косо посматривать на «немецких агентов»…
Зайдет аскольдовец в кабачок и попросит, бывало, пива.
– Ступай к немцам своим! – кричит на него трактирщица. – Мы не боши, чтобы пивом надуваться. Пусть тебе сам кайзер нальет.
– Тогда… вина. Прошу, мадам.
– Еще чего захотел! Дай тебе вина, так мне потом по миру идти надо… Знаем мы, как вы, русские, вино пьете…
Да, неуютно стало в Тулоне.
Над люком раскорякою, словно краб, встал рассыльный с вахты, высвистал руладу «Внимание все» и позвал:
– Павлухин!
– Есть, – отозвался голос из глуби крейсера.
– В писарскую тебя… Чтобы – пулей!
В писарскую добром не вызывают, и Павлухин мысленно перебрал в памяти: все ли было в порядке за последнее время? Кажется, все. Он направился в нос крейсера, конечно же бегом, как и положено матросу, ибо ходить не имеешь права. Хоть гуляешь, хоть в гальюн тебе надо – все равно, матрос, сверкай пятками.
В большой светлой каюте над верхним деком стучал «Ремингтон». Старший писарь, не оборачиваясь, тыкал пальцами в клавиши.
– Явился? Ну, с тебя бутылку.
– За что калым дерешь?
– С унтером тебя. Сейчас, вот видишь, печатаю на подпись командиру… Неужто не поставишь?
– Поставлю.
– Дуй в буфет.
– Дую…
Павлухин покрутился возле иллюминаторов буфетной:
– Эй, Васька! Бутылку свистни, потом расквитаемся…
Аскольдовский «базиль» был малый опытный: с того и жил, что воровал. Огляделся – нет ли кого вокруг, и скоро за пазухой Павлухина лежала бутылка. Вернулся гальванер с нею в писарскую, сказал весело:
– Давай штопор.
– Штопор тебе еще! – И писарь вышиб пробку ладонью. – Задрай двери на резину… Драболызнем, гори оно все к черту!
Драболызнули, и Павлухин вышел уже унтер-офицером.
Глянул под полубаком на часы: было время курнуть.
Самокин сказал ему:
– Стало неспокойно. Будем отныне встречаться через день. Если что – я сам найду тебя… Кстати, сегодня я шифровал телеграмму «Ваньки с барышней». О наших делишках.
– И что там за делишки у нас?
– Да неважные. Шкура – Ряполов…
– Штрадалец-то? Он мне с первого раза не приглянулся. На кой ляд, спрашивается, итальянцам сажать нашего брата, русского? Конечно, дело тут грязное… Стащил что-нибудь, а выдает себя за «штрадальца».
– Что с Левкой-то? – поинтересовался Самокин.
– Да куда-то провалился. Раньше все жрать ходил. Видать, в легионе его только марши играют. А жрать на сторону бегают.
– Придет, – сказал Самокин, озираясь. – Вон Труха сюда сыпет. Гаси и – отваливай. Я с этим ананасником один на один побеседую…
– А тебя с контрами? – спросил боцман Труш, намекнув на получение «контриков».
– Так точно. Унтер-офицер первой.
– Махнул, брат! Ну, с поздравкой тебя, Павлухин, – сказал Власий Труш, искренне пожимая руку бравого гальванера. – В нашем полку, как говорится, прибыло… Ну-ка, дыхни!
Труш понюхал – чем пахнет изо рта Павлухина.
– Все правильно, – сделал вывод. – Надо еще не так выпить. А так, чтобы тебя четыре человека посередке улицы тащили… В люди человек вышел! Надо, чтоб на всю жисть память осталась! А умирать будешь – приятно вспомнить…
Виндинг-Гарин появился через несколько дней. Болтался по крейсеру до вечера. Он был симпатичный парень – легко находил общий язык с матросами и даже с офицерами. Лейтенант Корнилов видел в нем что-то байроновское.
Вечером, когда офицеры ужинали в кают-компании, Левка появился в коридоре салона. Тихими шагами подкрался к дверям командирского помещения… Достал из-за пазухи конверт, который ему надо было просунуть под самую дверь Иванова-6. Но солдат Иностранного легиона не учел одного обстоятельства. Корабль – это тебе не изба, где взял да и протиснул письмишко под двери. Нет. Двери на крейсере водонепроницаемы, и высокий, подбитый резиной комингс в салоне мешал Левкиному замыслу: этот комингс плотно закрывал все щели.
В раздумье Левка обернулся и… чуть не вскрикнул.
В другом конце коридора, под яркой дощечкой с надписью: «Стой – не входи», высился жилистый кондукто́р с острыми старомодными усами и пронзительно наблюдал за Левкой.
– А командира – что, разве нету? – спросил Левка.
Кондукто́р – ни звука в ответ. Только смотрел. Но, чтобы выйти отсюда, никак не миновать этого господина в полуофицерском мундире. Еще даст разб по башке… Черт его знает, что он там про себя думает? Может, за вора принял?
Было боязно, но делать нечего. Левка как-то сразу сгорбился, медленно ступая по коврам. А на повороте вскрикнул: «Ой!» Это кондукто́р взял его за ворот в жуткой хватке, довел до выхода и ударом под зад выкинул на палубу…
– Где же Левка? – говорили матросы несколько дней спустя. – Чего-то Левки давно не видно?..
Получив пинкаря с крейсера, Виндинг-Гарин понял, что он разоблачен, и отправил свое письмо по почте. Иванов-6 получил его на пятый день после обыска двух командных палуб – носового плутонга и кочегарной.
Федерсона задержал у тамбура люка доктор Анапов:
– Гарольд Карлович, куда вы несете водомерную трубку?
– Каперанг просил занести.
– Вот заодно он просил у меня шпадель… Прихватите!
В одной руке – трубка из толстого стекла, в другой – хирургический шпадель. С таким снаряжением старший лейтенант Федерсон заявился в салон командира. Иванов-6 стоял возле стола, зажав, в загорелых руках глотку своего любимого удава.
– Принесли? – спросил он. – Весьма благодарен…
На развернутой газете лежали горками мелко крошенное сырое мясо, лук, фрукты. Иванов-6 попросил механика, чтобы он натискал эту смесь в водомерную трубку – поплотнее.
– Я вызвал вас вот по какому поводу. Сегодня мне доставили по почте письмо от одного русского подданного, живущего во Франции… От некоего Льва Виндинга-Гарина.
Шпаделем каперанг начинает раздвигать челюсти удава, и пасть рептилии отвратительна, словно клоака. Взяв трубку с едой, каперанг осторожно вводит ее по глотке удава прямо в желудок. При этом он спокойно продолжает беседу.
– Конечно, – говорил Иванов-6, – после доноса штрафного матроса Ряполова этот Виндинг-Гарин ничего нового сообщить не может. Но… Помогите мне, Гарольд Карлович!
Федерсон охотно вскакивает, сказав при этом:
– Я могу привлечь к пособничеству нам еще и Пивинского.
– Да нет же, – морщится каперанг, – я совсем о другом… Помогите мне забить все это в глотку. Берите шомпол… Так, осторожно, прошу вас. Теперь – пихайте, пихайте туда!
Шомполом, вдвинутым в трубку, мясо, лук и фрукты медленно проталкиваются внутрь удава, который на глазах офицеров быстро толстеет. Поправляется!..
– Виндинг-Гарин, – продолжает Иванов-6, беря со стола бутылку чудесного коньяку (он не скуп), – настоятельно требует свидания со мною. Но я не желаю встречаться с человеком, личность которого мне неизвестна…
Взболтнув бутылку, Иванов-6 наклоняет ее над трубкой. Рыжий коньяк заполняет ее доверху и медленно струится внутрь удава. Федерсону очень жалко коньяк – хамелеоны обходятся дешевле, тараканы ничего не стоят…
– А он буянить потом не станет?
– Нет, – отвечает каперанг. – Он у меня тихий…
Федерсон следит, как добротный «мартель» оседает в водомерной трубке, заполняя утробу питону, и думает. Механик понимает, что каперанг желает сохранить чистоту мундира строевого офицера флота. Это – каста! И спихнуть грязную работу на машинного офицера (не строевого)…
– Я уже снесся с начальником русской полиции в Париже, – произносит Иванов-6, – чтобы проверить личность доносителя…
Оба смотрят, как коньяк оседает в трубке. Все.
Каперанг вынимает из утробы стеклянную трубку. Берет – и очень ловко – удава за шею и забрасывает его далеко под кровать – отсыпаться и переваривать пищу.
– А вас, Гарольд Карлович, – заканчивает Иванов-6, начиная мыть руки над раковиной, – я убедительно прошу, именно вас, прошу встретиться с этим…
– Виндингом-Гариным?
– Да, именно с этим негодяем. Пожалуйста!
Федерсон не боится испачкать свой мундир.
– Я это сделаю… – отвечает он даже с вызовом.
Вечером Федерсон переоделся в статское и отправился в укромный ресторанчик на Страсбургском бульваре. На улицах было жарко, пыльно. В пламенных вихрях шелков и шарфов, выбрасывая кверху стройные ноги, кружилась на афишах смуглая женщина с толстыми губами – а внизу начертано:
- Сегодня танцую я —
- знаменитая Мата Хари!
В пустынном ресторане, где Федерсон должен был повидать Виндинга-Гарина, тихо играла музыка. Выбрав по карте дешевенький пинар, Федерсон тянул его через соломинку, терпеливо выжидая свидания.
Наконец один из гостей ресторана поднялся из-за стола, решительно пошел прямо на механика.
– Извините, – сказал он по-русски, – но я не подошел к вам раньше, просто опасаясь провокации.
Федерсон осмотрел молодого человека:
– Чем вы можете доказать свою личность и свое русское подданство? Есть ли при вас солдатская книжка?
По документам все было правильно: солдат Иностранного легиона, но подданный Российской империи. Федерсон успокоился.
– Ну-с, господин солдат, отпейте этого благородного пинара и поведайте нам о своих наблюдениях…
Левка рассказал, что на крейсере ведется антивоенная агитация («Кем?» – спросил Федерсон, но Левка не ответил), что матросы ждут транспорт с оружием и нелегальщиной, дабы потом, уже в море, перебить всех офицеров.
– И, – заключил Левка рассказ, – по получении сведений из Архангельска они приведут свои намерения в исполнение.
– Откуда-откуда? – спросил Федерсон, прищурясь.
– Из Архангельска, – твердо повторил Левка.
Вот тут-то Федерсон и ошалел: при чем здесь Архангельск?
Но в этот момент Левка добавил:
– Вы же там будете…
– Где?
– В этом… или Архангельске, или – на Мурмане!
– Молодой человек, откуда у вас такие сведения?
– Как откуда? Россия создает новый флот – Северный, началось строительство морской базы в бухте Иоканьга. Плавмастерская «Ксения» уже там. Эсминцы «Грозовой» и «Властный» давно бросили якоря в Кольском заливе, а с Дальнего Востока вышла на Мурман броненосцы «Пересвет» и «Чесма», откупленные нами из японского плена… Наконец, легендарный крейсер «Варяг» тоже будет скоро на Мурмане… Что? Разве не так?
– Но откуда вам стало известно, что наш крейсер «Аскольд» должен войти в состав этого флота? Честно говоря, меня знобит, как я подумаю об этом ужасе… Льды, холод – бррр!
Левка промолчал, лицо его было загадочным.
– Вы не до конца представились мне, – намекнул Федерсон.
– Что ж, – ответил Левка с усмешкой, – могу и до конца. Я служу при московском охранном отделении, которое и командировало меня во Францию для наблюдения за русскими эмигрантами.
– Позвольте, – придержал его Федерсон. – Может, это и так. Но команда крейсера «Аскольд» не состоит из русских эмигрантов. Как же вы оказались на «Аскольде», если исключить вашу сомнительную любовь к церковному пению?
Левка заказал вина. Не такой благородной дряни, какую ему предлагал скупердяй Федерсон, а настоящего вина. И расплатился как джентльмен.
– Так вот, слушайте. – Он придвинулся поближе к механику. – Я пришел на «Аскольд» по доброй воле. Когда я узнал, что пораженческая пропаганда на крейсере уже ведется, я пришел сам. Вы меня не звали, это верно! Вы провели обыск по точному адресу – у артиллеристов и кочегаров. Но вы плохо искали. К сожалению, сюда наших филеров из Москвы не свистнешь! Они бы нашли, уверяю вас… Ну, какие еще вопросы ко мне?
– Назовите людей.
– Могу. Только не записывайте. Терлеев, Дубня, Захаров, Лепков, Бешенцов, Бирюков, Шестаков…
Записать Федерсон не мог, но и запомнить трудно. В голове механика четко зафиксировались только четыре фамилии:
Шестаков… Бешенцов… Бирюков… Захаров… Это были матросы, уже изрядно послужившие, на хорошем счету у начальства. И, может быть, именно потому Федерсон так точно запомнил их фамилии. Он с удовольствием распил вино (свое и Левкино) и вежливо откланялся московскому агенту.
Он вернулся на крейсер, и здесь… Здесь случилось нечто неожиданное. Едва Федерсон открыл рот, чтобы доложить каперангу о разговоре с Виндингом-Гариным, как вдруг Иванов-6 поднял ладонь, задержав его речь.
– Не нужно! – сказал. – Ничего не нужно. Читайте, что ответили мне из Парижа на мой запрос…
Русская полиция в Париже (самая точная и деловая) ответила на запрос следующее: «Неизвестный, именующий себя Виндингом-Гариным, на службе в тайной русской агентуре никогда не состоял, являясь мелким авантюристом, и его показаниям верить не следует…»
– Верить не следует, – с удовольствием повторил Иванов-6. – Извините меня, Гарольд Карлович, что я обеспокоил вас этим неприятным поручением… Увы, не верить!
Но все дело в том, что Федерсон-то как раз и верил.
Еще как верил!
Глава шестая
Мало того! Этот сукин сын нашел себе единоверцев в лице старшего офицера крейсера и артиллерийского лейтенанта фон Ландсберга. В узком кругу они договорились:
– Господа, надобно довести это дело до конца…
Но, будучи офицерами строевыми, голубой крови и белой кости, Быстроковский и Ландсберг (подобно Иванову-6) свято берегли чистоту своих мундиров. Грязное дело сыска строевики Морского корпуса его величества препоручили опять-таки инженер-механику крейсера. И вот тут-то во всей своей мерзости и выступила на передний план событий фигура альбиноса с красными веками и с прозрачной кожей.
Гарольд Карлович – это надо признать – был вдохновенен.
– Господин мичман, потрудитесь встать.
Женька Вальронд с трудом разлепил глаза. Ах, какие чудесные сны показывала ему эта ночь! Было еще рано. Но за переборками, где-то под самой палубой, по всему крейсеру шла странная суетня, хлопали двери, стучали люковицы. А перед плутонговым стоял механик Федерсон.
– В чем дело? – спросил мичман, сладко потягиваясь. – Судя по ранней побудке, мы травим тараканов?
– Обыск!
– Что? – Вальронда так и выкинуло из койки.
– Да, голубчик. В прошлый раз мы плохо искали. В этом же обыске нам помогут добрые французы.
– Механисьён! – возмутился мичман. – Вы вольны обыскивать самих себя с любых точек зрения, даже в самом неудобном ракурсе. Но забираться в каюту офицера…
– Все офицеры, – сказал Федерсон, – покорились чувству долга. Покоритесь же и вы, мичман.
Французская полиция уже вовсю рыскала по крейсеру.
– Свинство! – кратко выразился Вальронд и, полуодетый, схватив со стола папиросы, выскочил в коридор кают-компании, где уже было полно офицеров, таких же, как и он, растерянных и униженных.
– Господа, как вы могли позволить? – спросил мичман.
– А что делать? – пожался в ответ Корнилов. – Не драться же нам с французами… Теперь только ворота растворяй пошире: беда на крейсер поперла!
Тут же, повизгивая, крутился и корниловский дог Бим – без хвоста. Между офицерами проталкивался плечом взолнованный Иванов-6, стараясь на ходу застегнуть мундир.
– Господа, господа, – говорил он потупясь. – Как раз балаган, только вашей ярмарки не хватало… Что вы здесь торгуетесь? Прошу разойтись по командам. В Париж из Петрограда уже выехал военно-морской следователь – подполковник Найденов, и скоро он прибудет в Тулон…
Это была новость. Каша, по-видимому, заваривалась крутая. На выходе из коридора кают-компании мичмана Вальронда задержал барон Фиттингоф фон Шелль.
– Женечка, – сказал минер с опаской, – виноват во всем Володька Корнилов! Я говорил ему, чтобы он не резал газеты…
– Да! Он перестарался и запорол нам всю выкройку. Нет хуже дураков, нежели дураки убежденные. Особенно, если дурак имеет чин лейтенанта, которого не заслуживает.
– Я все продумал, – сказал минер печально. – Этими обысками и подозрениями мы сами революционизируем команду… Верно?
Вальронд пожал плечами, и погоны вздернулись – крылышками.
– Что тебе сказать, баронесса, на это? Я всегда и всем говорил, что ты у нас… умная девочка!
Теперь обыскивали весь крейсер. А это значило – ни один отсек, ни одна машина, ни одна башня, ни один погреб (не говоря о кубриках) не минуют рук опытного сыщика. Команда стояла навытяжку вдоль верхнего дека – и не уйдет отсюда вниз, пока обыск не закончится.
Вальронд подошел к комендорам.
– На этот раз, – сказал, – я могу смотреть вам в глаза, ибо в мою каюту уже залезли. Боюсь, что филеры нескоро вылезут оттуда, ибо у меня много портретов нелегальных барышень…
Матросы весело посмеялись – в общем, настроение было ничего.
– Евгений Максимович, – раздался вдруг окрик Быстроковского, – с командой не разговаривать… Следуйте в башню!
В башне, под креслом вертикальной наводки, полиция обнаружила револьвер. Держа этот револьвер в руке, мичман вернулся к своим матросам:
– Мне велено узнать – чей это? Я надеюсь, что…
Он хотел сказать далее: «нам его кто-то подсунул», но тут честный Захаров шагнул вперед:
– Мой, ваше благородие.
Матросы переглянулись.
– Лыко… – сказал кто-то сдавленно.
– А ты, – спросил мичман, – придумал ли причину, по которой этот револьвер тебе был нужен?
– Чего уж тут… мой, – упрямо повторил Захаров.
– Ну, смотри, тебе виднее. – И Вальронд задумался, обеспокоенный.
Искали тщательно. Правда, выискали немало нелегальщины (весьма смутной политической окраски); разрозненные номера бурцевского «Былого», парижское «Наше слово»; был обнаружен еще один револьвер – в груде боцманского тряпья, но хозяин этого оружия, конечно, назвать себя не пожелал. К вечеру, когда люди уже измотались от напряжения, вдруг раздался торжествующий выкрик Корнилова:
– Нашли-и-и.
Быстроковский рысцой сорвался с места, побежал туда:
– Что нашли?
И долетел ответный вопль:
– Список!
– Сколько?
– Шестьдесят девять человек…
– Список… список нашли, – зашептались матросы. И тут Вальронд заметил, что Павлухин пристально глядит на Перстнева. Мичману стало как-то не по себе, и он тоже помчался туда, где нашли этот список.
– Позвольте глянуть. Роман Иванович, – сказал Вальронд, выискивая среди фамилий своих людей, из носового плутонга.
Да, они оказались здесь. Не было, правда, Павлухина.
– Вот она, тайная немецкая агентура, – говорила полиция. – Вот именно эти люди и хотели взорвать крейсер…
Вальронд вернулся обратно и плачуще сказал матросам:
– Ребята, в уме ли вы? Взрывать крейсер? Как можно?..
И за всех ответил один – Павлухин, оскорбленно:
– Ваше благородие! Неужели и вы поверили в эту басню? Да мы же старые комендоры и хорошо знаем, что «Аскольд» несет в погребах полный комплект боезапаса. Нам свои головы дороже, и мы не хотим лететь к черту заодно с крейсером…
Быстроковский лаял матросов матерно, его рука трясла список.
– Попались? – спрашивал он. – Попались, мать в вашу…
Очумевший от паники дог Бим лаял тоже, и лейтенант Корнилов тянул его за поводок.
– Мой Бим стоит вас всех! – кричал лейтенант.
– Унтер-офицер Павлухин, – вдруг подскочил Быстроковский к гальванеру, – я давно знаю тебя как исправного матроса… Отвечай: что значит этот список? А вы, Корнилов, уберите своего кобеля, пока я его за борт не сбросил…
Стало тихо. И в полной тишине произнес Павлухин:
– Команда крейсера собирала деньги на граммофон!
По шеренгам пошло шепотом: «Граммофон… говорить, что граммофон… подписка на граммофон». Но в граммофон не поверили, и обыск продолжался. Держа перед собой чертеж продольного разреза отсеков крейсера, комиссар префектуры щелкнул по схеме пальцем и сказал:
– Осталось вот только здесь, и… спокойной ночи!
Это «здесь» было каютой шифровальщика Самокина.
– Стойте! – задержал сыщиков Иванов-6. – Входить туда имею право только я, как командир крейсера. Только военно-морской министр. И только его величество – государь-император.
И, «поцеловав» секретный замок, филеры отчалили…
Павлухину накоротке удалось свидеться с Самокиным.
– Что же дальше? – спросил Павлухин.
– Если бы знать…
К ночи Иванов-6 постучался в каюту Самокина:
– Кондукто́р, это я… откройте. – И каперанг протянул текст своего рапорта в Адмиралтейство. – Пожалуйста, зашифруйте как можно точнее, и пусть радиовахта сразу передает.
– Есть! – ответил ему Самокин.
Донесение морскому министру Иванов-6 заканчивал так:
«Никаких волнений, неудовольствий или тревожного настроения в команде за все время обыска не замечалось; наоборот, команда, зная о возбуждении дела, чувствовала себя подавленно».
Самокин зашифровал этот текст как можно ближе к подлиннику, старательно отыскав в кодовых книгах такое сочетание ключа, которое точнее всего отвечало бы слову «подавленно». Он хотел предотвратить грозу, нависшую над командой крейсера. Будь это на Балтике, среди товарищей по партии, он бы, может, поступил иначе. Но сейчас кондукто́р понимал: боя не будет – будет избиение.
До приезда следователя из Парижа дело повел сам Федерсон, ретивый и настырный. Никто бы раньше не подумал, что в этом механике кроется такая черная страсть к политическому сыску, омраченная неистовым презрением к России и вообще к русским людям. Через каюту Федерсона, в которой извергался Везувий, рушилась Ниагара и замерзал в Альпах одинокий путник, прошли все шестьдесят девять человек, обозначенные в списке. Теперь как угорелые носились по трапам рассыльные, давали дудки, выкрикивали в распахнутые люки:
– Эй, Захаров… тута Захаров? Стегай к механику.
Два зеленых хамелеона трясутся в банке противными гребнями, стучат по стеклу длинными липкими языками. А сам Федерсон издевательски вежлив:
– Садитесь, комендор… Вы не станете отрицать, что револьвер, обнаруженный под креслом вертикальной наводки носового орудия, принадлежит именно вам?
– Нет, не стану. – Захаров глядит испуганно.
– Объясните, зачем он вам нужен?
– Ваше благородие кой годик служу… Не все же воевать. Кады-нибудь и вчистэю пойдем. А деревенька-то моя, Решетиловка, в лесу темном пропала… Почитай, на самой опушке стоит. Конокрады балуют. Опять же, кады и на гулянку пойдешь в соседнее Киково… Мало ли чего не бывает?
– Хорошо. Допускаю такой вариант. А вот расскажите нам, Захаров, какие пораженческие разговоры вы вели в жилой палубе?
– Не! – мотает головой матрос. – Таких не было…
Федерсон жмет электрическую грушу, висящую над головой.
– Пусть войдет, – говорит он рассыльному.
И входит матрос Ряполов.
– Ряполов, – напоминает ему Федерсон, – не забывайте, что вы тоже обозначены в этом списке подпольной организации. А потому – отвечайте честно… Допускал ли матрос Захаров высказывания антивоенного свойства?
– Так тошно!
– А что говорил? Вспомните… не волнуйтесь, Ряполов!
Ряполов, глядя на хамелеонов, вспоминает:
– Шкажу… Говорил так: «Табаним мы тут, табаним. От Рошии шовшем отбились. А на кой хрен воюем? Это Шашка ш Гришкой мутят народ…»
Федерсон машинально впивается в список:
– Ряполов! Кто такие Сашка с Гришкой? Из какой палубы?
Выясняется, что палуба эта – Зимний дворец, Сашка – императрица Александра Федоровна, а Гришка – известный варнак Распутин-Новых, и Федерсон задумчиво поправляет манжеты.
– Ну-с, так что, Захаров? Были такие высказывания?
Захаров встает – руки по швам отутюженных клешей:
– Какие, ваше благородие?
– Ну вот, вроде этого: «на кой хрен?» и так далее.
– Да таких-то матюгов я на дню сотни три-четыре выговариваю, рази ж все упомнишь? Ну да, – вдруг соглашается, – говорил. Потому, как сами посудите, кой уже годик… от дому совсем отбился… матушка без меня померла… баба моя гулящей стала!
– Позволите так и запротоколировать?
Захаров долго думает и машет рукой:
– Где наша не пропадала… Пишите!
Надсадно скребет перо по бумаге – словно режет по сердцу.
Федерсон зачитывает Захарову его показания.
– Так? Теперь подпишитесь.
– Ваше благородие… Ну да, не отрицаю, говорил: на кой хрен!.. А вы иначе пишете. Будто я кайзеру продался и на деньги германские поражал всех… Так я же не шкура, чтобы за деньги продаться!
– Послушайте, Захаров, вы ведь умный матрос. Между словами «на кой хрен воюем» и словами большевиков «долой войну!» совсем незначительная разница…
Федерсон глядит на большие руки матроса, перевитые узлами пульсирующих вен. Он думает о ночной тиши над деревней Решетиловкой, где живет гулящая баба, а по опушке леса гуляют в красных рубахах веселые конокрады… Представив себе эту картину, далеко неприглядную, механик со вздохом вычеркивает «германские деньги» и снова подсовывает протокол Захарову:
– Может, теперь подпишете?
Захаров долго мечет рукой над бумагой – подписывает.
– Вот и все, – говорит ему Федерсон облегченно.
Запаренным конем несется по палубам рассыльный:
– Шестаков из машинной команды… тебя к Механику!
Вскоре на «Аскольд» прибыл подполковник Найденов – умный, толковый следователь. Он никого не шантажировал, вызывал к себе в каюту изредка то одного, то другого, разговаривал просто, по-человечески. Подавленность в настроении команды (сразу, как только дело было вырвано из рук Федерсона) стала рассасываться.
В один из дней Найденов навестил Иванова-6.
– Господин каперанг, я следствие закончил…
– О батенька, преотлично! Позвольте, я кликну в салон и своего старшого, дабы обсудить выводы сообща…
В салоне три человека: Иванов-6, Быстроковский, Найденов.
– По моему глубокому убеждению, – говорил Найденов, – на крейсере даже подготовки к восстанию не было.
– Не было! – просиял каперанг. – Слышите, Роман Иванович?
Быстроковский суховато кивнул.
– Показания же обормота Виндинга-Гарина явно провокационные. Чего он хотел? Добиться авторитета в агентурных кругах. С тем чтобы, завоевав этот авторитет, впоследствии поступить на службу во французскую полицию. Перед матросами он выставил себя революционером, изгоем, несчастненьким, и команда ему доверилась… Это – отщепенец! Да, он русский подданный. Но, будучи солдатом Иностранного легиона, Виндинг-Гарин давно уже наполовину эмигрант…
– Конечно, – горячо заговорил Иванов-6. – Как не понять и матросов? Оторванные от родины, отбитые от своих семей, они охотно идут навстречу любому земляку. И попался вот этот негодяй!
– А Ряполов? – вдруг спросил Быстроковский. – А Пивинский? Разве их показания – показания «полуэмигрантов»?
– Согласен, – охотно поддакнул Найденов. – Но их показания о взрыве крейсера, который якобы готовится, никак не отражают настроения всей команды. Может, какой-то пьяный дурак и ляпнул так. Но общий импульс крейсера – боевой.
Иванов-6 от такой похвалы «Аскольду» готов был расцеловать следователя и даже вольненько потрепал его по коленке:
– Безусловно так! Благодарю вас, полковник[3].
Быстроковский, однако, заметил:
– Но, господин полковник, вы не можете не отметить в своем заключении признаки… Да! Именно признаки смуты!
– Признаки существуют, – согласился следователь. – Но, скажите мне, господин старший лейтенант, где в России сейчас этих признаков революции не существует? Они – всюду…
– Абсолютно так, – подтвердил Иванов-6. – А теперь расскажите нам, что будет далее?
Найденов подмедлил с ответом.
– Далее… Далее будет суд.
Иванов-6 встал – толстый, рыхлый, неуклюжий, словно чурбан. Его бульдожье лицо вдруг сморщилось как печеное яблоко.
– А вот суда, – сказал он, хихикнув, – суда-то и не будет!
– Помилуйте! – возмутился Быстроковский. – Для чего же тогда была проделана вся эта громоздкая работа?
– Не знаю… Но суда, заверяю вас, господа, не будет. Во всяком случае, пока я – командир крейсера. И я сейчас же телеграфирую в Париж графу Игнатьеву и каперангу Дмитриеву, нашему морскому атташе, чтобы суда над «Аскольдом» не было.
– Почему? – спросил Найденов невозмутимо.
– Потому что здесь не Кронштадт! Потому что здесь, во Франции, стране республиканской, существует свобода печати! Потому что я не желаю пораженческой окраски моих матросов! Потому что я не позволю пачкать честное русское имя…
Найденов подумал и улыбнулся:
– Что ж, по-своему, вы правы… Поддерживаю!
Связавшись с Парижем, командир крейсера нашел поддержку и у графа Игнатьева, и у каперанга Дмитриева. Было сообща решено: неблагонадежных матросов – по усмотрению самого командира – списать подальше от корабля: в окопы!
И вот перед Ивановым-6 лежит список – шестьдесят девять моряцких душ. Выбирай любого. Их надо вырвать с мясом и кровью из брони крейсера и пересадить в унавоженную войною землю. Рано утром Быстроковский по мятому лицу каперанга понял, что командир мучился всю ночь, занимаясь строгим отбором.
– И сколько же мы списываем? – спросил он.
– Никого не списываем. Двадцать девять человек я наметил было, но по зрелому размышлению… Никого не списываем!
– Почему? – удивился Быстроковский.
И получил честный ответ честного человека:
– Жалко…
Быстроковский был крут:
– Одного типа вы мне все-таки подарите, пожалуйста!
– Кого?
– Есть такой… Александр Перстнев! Я уже обещал ему при всех, что он сгниет в окопах.
– Ну… возьмите, – сказал Иванов-6 вздыхая и переправил писарям для приказа имя только одного человека.
Шурка Перстнев подлежал списанию в дивизию латышских стрелков – в окопы под Ригой, куда ссылали всех матросов «политически неблагонадежных»…
– А вы собираетесь обратно в Россию? – спросил Иванов-6 у следователя Найденова. – Ах, какой вы счастливец!
– Нет, – отвечал ему Найденов пасмурно. – Меня граф Игнатьев срочно просит прибыть в Марсель.
– А что там случилось?
– В корпусе Особого назначения бунт: солдаты убили подполковника Маврикия Краузе[4].
На прощание Шурка Перстнев сказал – загадочно:
– Я вот под Ригу сейчас укачу, а вы не думайте, что здесь ничего не осталось. Я-то, может, еще и выживу. А вам бабушка надвое сказала. Тут такие домовые живут, под броняжкой, что проснетесь когда-нибудь на том свете…
Впрочем, Рига ему только во сне показалась. Путь туда слишком долог. Через Францию, Англию, по Скандинавии – влетит он русской казне в копеечку. Не велик барин Шурка: подохнуть можно и во Франции, а потому он был зачислен в ряды корпуса Особого назначения, – далеко ездить за смертью не надо.
Генерал Марушевский был возмущен:
– У нас не погребная яма, чтобы сваливать сюда нечистоты. При формировании корпуса в России людей отбирали словно жемчуг. А теперь всю мерзость на нас спихивают. Хорошо! – решил Марушевский. – Отправьте этого матроса в самое опасное место, а именно – в команду штабс-капитана Виктора Небольсина.
…Самое опасное место – Мурмелон-ле-Гран – зацветает пышными маками, в которых лежат зловонные трупы и звонко стрекочут кузнечики.
Шурка добрался до позиций, присел в окопе. Невдалеке от него пожилой солдат долго целился, выстрелил: трах!
– Эй, дядя! – позвал его Шурка.
Но солдат взял гвоздь и камнем стал засобачивать его в приклад своей винтовки. Только сейчас Шурка заметил, что из приклада уже торчат восемь шляпок. И теперь, сгибаясь под ударами камня, с треском влезает в приклад девятый.
– Это ты к чему, дядя? – спросил Шурка, невольно заробев. Солдат поднял лицо – цвета земли; глаз вроде и не было.
– А к тому, что вот, когда десятку фрицев нащелкаю, тогда меня на день до Марселя пустят… И напьюсь я там, как свинья! Не мешай на выпивку хлопотать…
В офицерской землянке сидел за бамбуковым столиком штабс-капитан Небольсин и говорил угрюмому фельдфебелю:
– Не надо, Иван Василич, не надо. Она вернется…
– Да вернется ли? – спрашивал тот очумело и дико.
Над головой офицера нависал пехотный перископ, и Небольсин время от времени бросал взгляд в окуляр, приглядываясь к тому, что творилось на немецкой стороне. Лицо штабс-капитана, худое и усталое, невольно располагало к доверию.
– С «Аскольда»? – удивился Небольсин, прочитывая бумаги. – Так-так. Бывал я там, на вашем пароходе. Эсер? Большевик?
– Мы, – ответил Перстнев, – анархистами будем.
– О-о! – И посмотрел на матроса уже с интересом. – Анархизм вещь рискованная и требует высокого интеллекта. Что читал?
– Да я… так. Мы не читали. Мы разговаривали.
– Я признаю и такой метод – мышление в разговоре. Кстати, в анархизме – конечно не в обывательском, а классическом! – очень любопытно отношение к элементу сознания масс… Вы как к этому относитесь, уважаемый?
Шурка Перстнев хлопал глазами:
– Как отношусь? Хорошо отношусь… Мы не читали!
– А я вот читал. И князя Кропоткина, и над Прудоном сидел, и Штирнера проглотил. Ну и, конечно, Бакунина… Однако, как видишь, анархистом не стал… – Подумал немного, поскреб небритый подбородок красивой грязной рукой и сказал: – Думается, что ты тоже не анархист, а просто… дурак!
– Да нет, – обиделся Шурка, – мы понимаем. Вот чтобы власти не было… ходи, куда хочешь… налогов платить не надо.
– Бред! – ответил Небольсин. – Дай вам волю, так вы грабить пойдете. А цивилизованное государство без налогов существовать не может. Каждый обязан подкреплять отечество не только разумом, не только руками, но и копейкой своей… тоже!
– Вернется ли? – приуныл фельдфебель, глядя себе под ноги.
– Потерпи, Иван Василич, она вернется…
Штабс-капитан посуровел. Махнул рукой Шурке:
– Ладно. Черт с тобой! Не для того ты прислан в мой батальон, чтобы я просвещал тебя… Только не мусорь здесь словами! У меня – как при анархизме: набью морду и сдам в архив…
Шурка стоял навытяжку, хлопая глазами: хлоп-хлоп. Все было непривычно и непонятно в этом солдатском мире. Пахло землей, червями, тленом. И плакал, убивался навзрыд фельдфебель: вернется ли? вернется ли? Ну когда же вернется?..
Небольсин вскрыл жестянку ножом, сказал:
– Рядовой Перстнев, сядь и все слопай!
Это была ветчина с горошком. Но… пальцем, что ли?
– Эх вы, флотские! – с оттенком пренебрежения протянул Небольсин. – Даже ложки с собой не имеете.
Шурка не спорил и торопливо умял банку с помощью чужой вилки. Потом поверху прошел гул, и Небольсин поманил его.
– Вы ведь как? – сказал штабс-капитан. – Воюете с врагом, часто даже не видя его. Хочешь немца посмотреть? Живого? Теплого? На русском хлебе вскормленного? Вот он – смотри!
В зеркалах перископа Шурка увидел развороченную землю брустверов, а над ними полоскалось на ветру широкое полотнище:
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПЕРВАЯ РУССКАЯ БРИГАДА!
ВАМЪ НЕ ХВАТИЛО ЗЕМЛИ В РОССИИ,
ВСЕ ВЫ ПОГИБНЕТЕ НА ЗЕМЛЕ ФРАНЦИИ!
Но ни одного немца Перстнев так и не увидел.
– Ой, боюсь, что не вернется… – сказал фельдфебель.
Небольсин повертел пальцем возле виска, шепнул:
– Спятил вчера… после штыковой. Вот и понес ахинею. – И с убежденностью актера заговорил пылко, обнимая плечи старого фельдфебеля: – Иван Василич, сколько ждали… Подожди еще!
Тишину фронта разрубила тонкая строчка пулемета.
– Ну, иди, Перстнев, – сказал штабс-капитан. – Привыкай к новой жизни… Да разыщи ефрейтора Каковашина.
Ефрейтор Каковашин пригляделся к новому солдату.
– Э-э-э, – сказал, – вот ты, паразит, мне и попался! Кады спор в Тулоне сообща решали, чья жистянка лучше, не ты ли, сука, мне по черепушке бляхой от ремня врезал?
– Дело прошлое… – увильнул Шурка от прямого ответа.
Каковашин вручил ему грязную каскетку в чехле и винтовку. В прикладе было девять гвоздей, а десятый торчал наружу – полусогнутый, не до конца вколоченный.
– А где же этот… дядя, что стрелял из нее?
– Хватился, парень! Дядю твоего снайпер кокнул…
Вечером, когда закатилось за брустверы солнце, Небольсин решил спровадить из команды сумасшедшего фельдфебеля. Сопровождать его вызвался Каковашин.
– Эй, флотский! – окликнул он Шурку. – У тебя франки е?
– Е, – ответил Шурка.
– Тогда пошли. Заодно и к тетке Марго завернем…
И они пошли. Все через поле маков, в которых догнивали трупы людей и беззаботно трещали кузнечики. Брели сначала ходами траншей – мелких (французы копать их ленились). Печально посвистывали пули. Вот и деревня, полуразрушенная артиллерией. Бегают, поджав хвосты, собаки. И сидит на пепелище черная кошка с зелеными глазами-плошками.
– Брысь, ведьма! – шикнул на нее Перстнев, боязливо крестя себя. Буйный анархизм выходил из него сейчас, словно дурной пот – всеми порами Шуркиного тела.
– Потерпи, Василич, – говорил Каковашин, под руку ведя сумасшедшего. – Уж недолго тебе мучиться осталось. Сейчас вот и к тетке закатимся. У флотского франки-то шевелятся…
Трактир, однако, был закрыт. Над дверями болталась бумажка. Каковашин сорвал ее, протянул сумасшедшему:
– Ну-кась, Василич, ты грамотей славный… Прочти!
Сумасшедший внятно перевел с французского:
– «Кофейня госпожи Марго Фересьен закрыта на восемь дней, согласно приказу, за то, что владелица, несмотря на запрещение, продолжала торговать вином русским солдатам…» А мы вернемся ли? – спросил фельдфебель, пуская бумажку по ветру.
– У, сволота поганая! – бешено ругался Каковашин. – Загнали нас в эту Европу, чтоб она сдохла вся, а даже выпить негде. Пошли, Иван Василич, сдадим тебя по всей форме в бедлам, и ни о чем, сердешный ты мой, не печалься… Ты-то вернешься, тебе крепко повезло. А мы, видать, здесь пропадем…
Сдали сумасшедшего в лазарет и, печальные, возвращались на позицию. Хуже нет, когда человек настроит себя на выпивку, а выпивка сорвется. Это прямо беда! В глазах темно… В такие моменты сам себя не помнит, слову не перечь, все с глаз долой! И вот шагали они, даже не разговаривая. Молча. Озверело. В середине пути (уже возле деревни) Шурка остановился, швырнул с головы каскетку, всадил в землю винтовку, из которой торчал гвоздь.
– Иди, – сказал. – А я – стоп машина!
– Куда? – спросил Каковашин.
– Куда глаза глядят. Обрыдла мне жизнь. И в ваши червивые окопы не полезу… Пропадай все с треском!
– Это как понимать? – придвинулся Каковашин. – Мы, значица, в окопах сиди. А ты, анарха флотская, не желашь?
– Не желаю, – ответил Шурка, удаляясь.
– Стой! – гаркнул Каковашин, срывая с плеча винтовку.
Шурка уходил все дальше. Топтал багровые маки.
– Стой! Или… стрелю.
– Пошел ты… – донеслось в ответ.
– Я человек нервенный, – орал Каковашин, – я людей убивать привык… Мне и тебя не жаль, флотский! Христом-богом прошу – вернись, не заставь грех на душу брать.
– Лупи, коли ты привык, – ответил ему Шурка.
И выстрел грянул. Перстнев взмахнул руками – красные маки вспыхнули, потревоженные, и закрыли его навсегда. Каковашин взрыднул – коротко, как дети в конце своего плача. И долго слушал тишину. Лаяла собака из деревни. Вскинул винтовку.
– Ну и валяйся, – сказал. – Мы тута дохнем не пойми за што, а они там с жиру бесятся… Не понравилось? Ну и лежи теперича. Воняй во славу Франции! Тоже мне… барин нашелся.
Вот и все. Ночью из деревни вышли осторожные, с гибкими телами, мародеры. Они стащили с убитого сапоги, а Шуркины франки пропили ночью у тетки Марго Фересьен.
Шурка уже не вернется, как не вернутся на родину и другие.
А вот под Хайфой или в Дарданеллах, в вое снарядов и плеске волн, когда песок хамсина скривел на зубах, – там, кажется, как это ни странно, смерть была легче.
Глава седьмая
Понемногу все забылось в улеглось, как дурная муть. Дисциплина на крейсере построжала, учения и приборки не давали людям задумываться ни над чем, кроме насущного корабельного дела. Увольнения матросов на берег резко сократились. Казалось, жизнь «Аскольда» вошла в обычную колею.
Впрочем, не совсем. Матросы о чем-то шептались, но стоило появиться офицеру, как они дружно замолкали. Не успокоились. Что-то затевали. Оружие продолжали находить. И большинство в кают-компании верило, что на крейсере где-то спрятано оружие во множестве. С такой командой выходить в море опасно. Надо предупредить опасность. Еще здесь, в Тулоне. В море будет поздно.
А для чего существуют боцманматы? Ради чего у них отдельный гальюн и не миски, а – тарелки? И ложки, как у господ, с монограммами?..
Теперь на крейсере обнаружилось новое бедствие. Исправные трезвые служаки вдруг стали запивать так, что пропадали неделями. Полиция доставляла их на борт с ворохом протоколов: там дрался, там разгромил витрину, там свернул ларек, там… Таких разжаловали, и они с облегченным сердцем переселялись жить ниже – в матросский кубрик. Гальюн общий, нет тарелки, а есть миска. И гоняют тебя хуже собаки. Но зато не надо продавать своих товарищей. Так поступали честные унтер-офицеры. Отказаться от сыска они не могли, коли приказывают «шкурить». Но есть выход: десять бутылок вина на брата, на закуску понюхай ленточку от бескозырки, а потом… Что потом? Потом ты свободен от былых заслуг, но зато спишь с чистой совестью.
Кают-компания жила все эти дни в состоянии постоянного страха. На ремонт давно махнули рукой: какой там ремонт? Не дай бог выйти в море сейчас, когда команда ненадежна.
– Нас же убьют, – говорил фон Ландсберг. – Служишь, черт бы его побрал, служишь. А… что тебя ждет в награду? Нет, господа, еще раз надо проверить: довели мы дело до конца или нет? Если – нет, то в море никак нельзя выходить…
Был на исходе день 20 августа 1916 года. Кают-компания и жилые палубы давно закончили ужин. Незадолго до команды «Койки брать, спать!» мичман Вальронд, как всегда, проверял снарядные и зарядные погреба.
Вот и сегодня он, вместе с Бешенцовым, долго спускался в самую преисподнюю корабля. Трап за трапом, палуба за палубой – словно этажи высокого дома: все ниже и ниже по крутизне, до самого днища крейсера. Неслышно отворялись люки, хорошо смазанные. По мере спуска все осторожнее становились движения. А снизу уже доносился особый, специфический, запах погребов – запах пироксилина, манильской пеньки и масел.
Нога Вальронда нащупала пушистый ворс мата. Следом за ним мягко опустился в погреб матрос. Здесь постоянно (никогда не угасая) горел яркий свет, ровно гудела станция вентиляции. А в удобных стеллажах, словно бутылки в винном подвале, покоились настороженным сном чушки снарядов. Это – главный калибр. В соседних погребах – калибр послабее: против миноносцев и катеров.
Сама обстановка погребов располагала людей к вежливости и разговорам на полушепоте, как в храме. Бывали раньше случаи, что старые пороха возносили людей, как ангелов, прямо на небеса – только за то, что они чихнули. Теперь пикриновоаммиачные пороха Брюжера, Дезиньоля и Фонтеня не столь опасны. Но осторожность в таком деле никогда не мешает.
– Проверь, – тихо велел Вальронд, – не разложилось ли сало на снарядных станках. А я замерю влажность…
Мичман отметил температуру. Там, над палубой «Аскольда», дрожал горячий воздух ночного Тулона, и в погребах было слишком тепло. Вальронд сразу врубил дополнительный «виндзейль», чтобы поскорее вытянуло всю духоту, потом шагнул к гигрометру, замеряя показания влажности воздуха.
Гигрометр системы Соссюра (великого Соссюра!) висел перед ним на пружинах, чтобы никакая тряска боя и шторма не повредила ему, капризному прибору. Еще не глянув на барабан автомата, Женька подцепил кусочек желатиновой бумажки: нет, она не порозовела, что бывает при лишней влажности, а немного посинела, – показатель хороший.
Подошел Бешенцов, вытер о подол робы измазанные маслом пальцы.
– Господин мичман, – спросил, – а правда это, что в гигрометрах работает человеческий волос, как пружина?
Глаза Вальронда прищурены во внимании на шкалу показаний:
– Да. Правда. Причем не просто волос, а – женский!
– Вот те на!
– А разве ты не знал?
– Нет. А почему волос от бабы, ваше благородие?
– Он тоньше мужского и более… Как бы это тебе объяснить? Женский волос лучше мужского, потому что более нервно, если можно так выразиться, воспринимает влагу.
– Чудеса! – сказал Бешенцов, качая головой.
– Причем, – усмехнулся Вальронд, – волос годен только от рыжей женщины. Так что, дорогой, если тебе попадется рыжая стерва – сразу рви ее за патлы… Нам, бедным россиянам, все пригодится!
Аккуратно заполнил графу в «Погребном журнале», сказал:
– Пошли с богом… Все в порядке.
Обратный путь – такой же осторожный. Но, чем дальше от многотонных запасов взрывчатки, тем смелее становятся ноги. Можно и каблуком приударить. А на верхней палубе их охватила липкая темная духота, вдали пересыпал огни Тулон.
Бешенцов вскинул руку к бескозырке:
– Ой и душно… Спокойной ночи, ваше благородие.
– Спи и ты спокойно, Бешенцов… Действительно, душно.
В коридоре кают-компании, где висели ковры и старинное оружие абордажного боя, а в проходе стояли пирамиды с винтовками, мичману встретилась корабельная «баронесса».
– Из погребов? – спросил Фиттингоф.
– Да, вылез, аки домовой из подпола. А что?
– Локоть испачкал в масле.
Действительно, мазанул где-то нечаянно локтем по стеллажам, а нефтяное сало не отстираешь. Вальронд забежал в каюту, переменил китель и снова появился в кают-компании. Не присаживаясь, выпил в буфете вина на сон грядущий.
Быстроковский строго поглядел на него:
– Мичман! Я вот часто думаю: а что, если буфет крейсера раз и навсегда перевести в вашу каюту?
– Роман Иванович, – был ответ, – ваша скромная лавочка давно бы вылетела в трубу, если бы я не оставлял в ней свое мичманское жалованье… А разве меня видели когда-нибудь пьяным?
– Один раз видели, еще на Цейлоне, где вы были удивительно схожи с Аполлоном… полведерским!
– Древние римляне не стыдились наготы и аккуратно хаживали в бани Каракаллы. Однако, Роман Иванович, античный мир до сих пор считается классически образцовым, достойным подражания…
Вальронд еще немного покрутился между роялем и диваном, но собеседника больше не находилось, и, зевнув, он отправился спать. И крепко заснул – молодым и здоровым сном.
Ровно в три часа ночи крейсер «Аскольд» был потрясен…
ВЗРЫВ!
Взрыв произошел в погребах – под офицерскими каютами, и черный дым повалил из-под крышек люков. Хлопали двери. Из своего салона выскочил Иванов-6:
– Тревоги: пожарная… водяная… Затопить погреба!
Боевые вахты срывались с коек. Взлетали по трапам. Пропадали в распахнутых горловинах. Люди – в трещавших робах – молниями прочеркивали темноту. Надрывались телефоны, вспыхивали аварийные лампы. Разом свистали все переговорные трубы, вызывая и вызывая кого-то на разговор.
И наступила тишина – внезапная, как обрыв.
– Ну, господа, – сказал Иванов-6, – доложите…
…По шахте люка текли клубы дыма. Вальронд прыгнул – и сразу по пояс оказался в воде. Погреба успели затопить, и теперь они медленно отдавали воду обратно за борт. И стоял тут, задирая кверху бледное лицо, лейтенант фон Ландсберг.
– Женечка, – позвал он испуганно, – взрыв был здесь…
Вода дошла уже до колен, свистя в узких шпигатах. Вальронд развел руками полосы дыма перед собой, спросил:
– Что взорвалось?
– Патрон снаряда… унитарный.
Стремительно уходила прочь вода, и четыре бурлящие воронки по углам погреба указывали места водостоков. Глухо буркнув напоследок по фанам, вода совсем сбежала из погреба, и теперь офицеры стояли мокрые – на мокром мате, и раскаленные осколки, разбросанные взрывом, уже успели остыть. А на стеллажах лежали мокрые снаряды, и с подволока еще падали последние капли.
– Калибр? – спросил Вальронд.
– Семьдесят пять…
Перекрестились и полезли наверх. Быстроковский сразу поставил Вальронда в известность:
– Хозяин погреба, в котором произошел взрыв, матрос Бешенцов, эта божия коровка, обнаружен спящим на корме…
– Ну да. Душно. А что?
– Своя шкура дороже. Подальше от взрыва устроился…
Корнилов посмотрел на своего дога с обрубком хвоста:
– Подозрителен и трюмный Бирюков. Он все время хвастал, что «Сашка Бирюков себя покажет!» Любопытно, что он имел в виду?
Иванов-6 велел офицерам крейсера собраться в кают-компании. Они собрались, и каперанг сумрачно оглядел их лица, еще мятые после сна.
– Проверьте, – наказал, – чтобы ни одного вестового тут не было. Даже в буфете. Станьте кто-либо, господа, в дверях, чтобы нас не смогли подслушать…
Все почуяли, что разговор будет весьма опасного свойства.
– Господа, – начал командир «Аскольда», – итак, взрыв, о котором так много говорили и которого все ждали, сегодня произошел… В артпогребах злоумышленной рукой взорван зарядный патрон калибра семьдесят пять.
– Прошу прощения, – сразу заявил Быстроковский, – но следует уточнить: взрыв произведен под офицерскими помещениями.
– Вот именно, – охотно согласился Иванов-6, – под офицерскими помещениями!.. Но самое печальное, что взрыв этот (повторяю: под офицерскими помещениями) произведен самими же господами офицерами!
Гул возмущения прошел над рядами диванов. Словно паровоз, чадил громадной папиросой отец Антоний, щурился от яркого света люстр и абажуров доктор Анапов в туфлях на босу ногу.
Каперанг, пристально глядя на Вальронда, продолжал:
– Задача почти непосильная: как взорвать корабль, не взрывая его? И задумавший это достиг своей цели: взрыв есть, но офицерские помещения не пострадали.
– Это провокация со стороны матросов, – крикнул Федерсон.
– Провокация со стороны… офицеров! – закончил Иванов-6. – Ибо, чтобы вызвать взрыв такой силы в погребах, где лежат тонны тринитротолуола, нужен расчет математика. А наши матросы – да, они ловко стреляют. Но они, к счастью, незнакомы – нет! – незнакомы с теорией детонации почтенного доктора Бертелло. Знаниями высшей математики и сложных алгебраических уравнений, необходимых для этого расчета, обладаете вы – офицеры. И в первую очередь – артиллеристы нашего крейсера: фон Ландсберг, Корнилов, Вальронд…
Четко встали: фон Ландсберг, Корнилов, Вальронд.
Но при этом смотрел-то Иванов-6 именно на Вальронда, и мичман чувствовал, что лицо его невольно наполняется краской.
– Немцы… – слабенько вякнул Корнилов. – Это их агентура…
– Немцы, – ответил Иванов-6, – взрывали бы нас уже до конца. Наши кишки болтались бы сейчас на реях, словно флаги… Нет, это не немцы. К сожалению – нет! Это провокация, на которой кто-то из нас, господа, задумал сделать себе легкую карьеру. Кому из вас, молодежь, снится аксельбант флигель-адъютанта? Вам, лейтенант фон Ландсберг? Может, вам, мичман Вальронд? Или вам, лейтенант Корнилов?
Но смотрел Иванов-6 опять только на Вальронда – узкими от бешенства глазками. Наконец этот пристальный взгляд, устремленный, словно прожектор к цели, заметили почти все офицеры.
– У нас свои немцы, – закончил Иванов-6 устало и покинул кают-компанию.
Вальронд нагнал его уже на трапе.
– Я требую объяснения, – сказал мичман, глубоко дыша. – Вы оскорбили меня своим взглядом… В чем вы смеете меня подозревать? К чему эти намеки на подлый карьеризм?
Одна нога каперанга стояла уже на балясине трапа, а другая еще волокла по ковру шлепанец, всегда спадающий.
– Кто последним был в погребе? – спросил Иванов-6.
– Я.
– Этого достаточно – все! Больше я на вас, мичман, смотреть никогда не буду…
И он стал подниматься наверх – в салон, к своему удаву.
– В таком случае, – звонко выкрикнул Вальронд ему в спину, – я не могу долее оставаться на одном корабле с вами! Я сейчас же подаю рапорт о списании меня… хоть на тральщик! Хоть на поганую баржу! Куда угодно, только бы не с вами!
И с высоты трапа, через люк, – спокойный голос каперанга:
– Пожалуйста. Подавайте…
Ночью по каютам пили. Утром, еще раненько, отец Антоний вылез на шкафут. Не скрыл перед матросами своей радости.
– Слава-те богу! – сказал он. – Теперича-то вы попались на самый ноготь. Надавим раза́ хорошего, и только сок брызнет. Этот кабак давно пора прихлопнуть…
Словам похмельного батьки тогда не придали особого значения. Но они выражали скрытую радость кают-компании – отец Антоний сгоряча ляпнул то, что Федерсон, Быстроковский и фон Ландсберг обдумывали в тишине своих кают.
– Эй, молодой! – увидел священник мичмана Вальронда. – Ты куда это поспешаешь? Не здоровкаешься? Хмурый?
Женька, не ответив, проследовал в салон и выложил на стол перед командиром свой рапорт о списании с крейсера. Иванов-6 не удостоил мичмана даже взглядом.
– Господин мичман, – сказал ему каперанг, – я не знаю, вы или не вы взорвали патрон в погребе. Но… Можете забрать этот рапорт обратно. Не вы, а я расстаюсь с «Аскольдом».
Он замолк, сосредоточенный, и отверткой стал аккуратно откручивать от переборки портрет своей жены. Вальронду в этот момент стало очень жаль честного «Ваньку с барышней».
– Да, – продолжил каперанг, – меня убирают после этой дурацкой истории. Вот читайте – свежая радиограмма: на мое место назначен капитан первого ранга Кирилл Фастович Ветлинский… Прощайте, мичман!
Иванов-6 покинул крейсер, исчезая во флотской неизвестности вместе с любимым своим удавом. А на его место прибыл новый командир «Аскольда».
Всем врезалось в память первое появление Ветлинского в кают-компании крейсера. Он представился офицерам во всем парадном, под локтем – треуголка с плюмажем; медленно стянул – палец за пальцем – скрипящую лосину перчаток.
– Так вы утверждаете, господа, что вас взрывают? Попробуем разобраться в этом вопросе… Проездом через Париж я имел разговор с нашим послом Извольским, и мы пришли к согласному убеждению, что этого так оставить нельзя. Да, господа! Дело надобно довести до конца. После чего отправимся… на Мурман!
У нового командира, смуглого от загара после жизни в Севастополе, были выпуклые глаза с внутренним блеском и острый крючковатый нос – каперанг был похож чем-то на степного беркута.
– Абсолютно согласен, – продолжил Ветлинский, – и с теми господами офицерами, которые считают, что с имеющейся командой, во избежание рецидива потемкинщины, выходить в море, тем более в такой дальний путь – до Мурмана, опасно. В любом случае виновных следует выявить. Наказать. А часть команды раскассировать… К сведению, господа! Взамен арестованных на «Аскольде» из Кронштадта уже выехало к нам пополнение.
Федерсон посмотрел на Ландсберга, Ландсберг глянул на Быстроковского, и все трое воззрились на Ветлинского. Эту перекидку взглядами заметила почти вся кают-компания.
К приезду Ветлинского на «Аскольде» уже было арестовано более ста матросов. И состоялся суд. Краткий, военный…
Муза провокации парила над мачтами крейсера…
Вот когда пригодились доносы блатных паскудников Ряполова да Пивинского. «Задушим» – шептали матросы в ярости, и те боялись спать на палубах: их душила сама темнота ночи…
И на высокой ноте взлетал голос выездного прокурора: «…за создание революционной организации на корабле, в условиях военного времени, организации, которая, будучи подкуплена тайными немецкими агентами, пыталась произвести взрывание крейсера первого ранга «Аскольд», приговариваются к смертной казни через расстреляние матросы: Захаров Даниил, Бешенцов Федор, Бирюков Александр и Шестаков Георгий…»
– Да будет вам! – закричал Захаров. – Ищите немецких агентов у себя в кают-компании, а в кубриках Россию не продают!
– Господи, за што же мне это? – спросил Бешенцов.
– Сашка Бирюков хлебал вас всех… во такой ложкой!
А лицо Шестакова заливал предсмертный пот. Шестаков заплакал и ничего говорить не стал… Французские жандармы, обнажив палаши, увели навсегда с крейсера четырех осужденных.
Потом к борту «Аскольда» подтянули баржу и стали выкликать по списку – сто тринадцать матросских душ (почти целую роту). Каждый, кого называли, быстро пробегал по сходне над мутной водой рейда, прыгал в широкое горло люка. Баржу подхватили буксиры, потащили ее, чадя трубами, в Марсель, а оттуда лежали пути на родину, которая встретит героев с «Аскольда» тюрьмами, и казематами, да страшными плавучими арест-ротами[5]…
Озлобленность оставшихся на «Аскольде» часто переходила в уныние. Работа валилась из рук… В один из дней, когда мичман Вальронд пил в офицерском буфете, к нему подошел трюмный механик мичман Носков.
– Женька, – сказал он, – я не верю в этот приговор.
– Угу, – хмельно мотал головой Вальронд. – Это не приговор. Это черт знает что!.. Ведь ясно же как божий день, что силу этого взрыва не могли рассчитать матросы. «Ванька с барышней» прав: тут нужен тонкий алгебраический расчет детонации. Иначе бы мы давно разлетелись на сто кусков.
– А с чего ты пьешь? – спросил его трюмный.
– Мне завтра в караул, – ответил Вальронд не совсем-то логично. – Как говорят матросы, мне все… обрыдло! Однако же я неглуп, нет. Все понимаю. Знаешь – как?
- Умница – в артиллерии,
- Дурак – в кавалерии,
- Прощелыга – в пехоте,
- А пьяница – на флоте.
Я пью, милый трюмач, потому что я офицер флота. Но остаюсь при этом умен, как и положено артиллеристу… Ты меня понял?
Носков присел рядом с плутонговым.
– Слушай, Женька, перестань хлестать: сломаешься! Я вот часто думаю: если не свершать благородных поступков сейчас, пока мы с тобой молоды, то когда же их свершать?
– Никогда не поздно, Сереженька!
– Пошли к командиру. Мы должны постоять за матросов.
– Базиль! – позвал Вальронд вестового. – Оторви мне от «флага» его величества лоскут, который покраснее…
Вестовой его понял и налил только марсалы. Вальронд выпил, одернул мундир и стал трезвым: мичман умел пить – недаром его предки со времен Екатерины служили на русском флоте.
Вальронд элегантно обнял трюмного за талию.
– Мы молоды, и мы благородны… Идем! – сказал он.
Ветлинский внимательно выслушал «благородных» мичманов.
– Я вас отлично понимаю, – ответил он. – Но с чего вы взяли, что матросы будут расстреляны? Отнюдь. Матросов надобно попугать, как детей, которые расшалились. Приговор лишь фикция… Мне очень приятно, что вы столь ревниво относитесь к чести своего корабля. Но… совсем нет причин волноваться. И заступниками бунтовщиков пусть будут не мои офицеры…
Покидая салон, молодые люди облегченно вздохнули.
– Ну вот, трюмач, слава богу!
– А ты куда сейчас, Женечка?
– Туда, куда влечет меня мой жалкий жребий… в буфет!
– Тебе же завтра в караул.
– И потому я хочу вобрать в себя все то, чего нельзя получить, будучи караульным офицером…
Дверь шифровальной открылась, и с чайником в руке (через плечо полотенце) вышел Самокин, кивнул офицерам. Мичман Носков шутливо ударил его перстом по лбу:
– Во, голова! Она много знает. Да никогда не скажет.
– Ваша правда, господа мичмана. Такова моя служба. Все знать, чтобы другие не знали ничего такого, что я знаю…
Если бы Самокину была известна причина, по которой молодые мичмана приходили к командиру, он бы дал им понять, что Ветлинскому верить не следует. Через руки кондукто́ра все эти дни шелестели телеграммы. Сверхсекретные. Сверхсрочные. Между Тулоном и Парижем. Между «Аскольдом» и посольством.
Военно-морской атташе во Франции, каперанг Дмитриев, настоятельно требовал аннулировать приговор четырем матросам. И теперь между атташе и Ветлинским завязалась борьба – трещал телеграф за тонкой переборкой шифровальной каюты.
Телеграфная перепалка закончилась совсем неожиданно…
Спустившись вечером в церковную палубу, отец Антоний дольше обычного раздувал кадило. Раздул наконец, и сладкий аромат ладана повеял над головами притихших людей.
– Братцы, – вдруг мягко сказал отец Антоний, – ведь я сегодня последним словом божиим проводил осужденных. Все четверо расстреляны французами. И они сознались в содеянном…
– Сознались? – ахнула толпа матросов.
– Плакали. И убивались шибко перед кончиной… Помолимся же мы за их заблудшие душеньки…
Именно в этот вечер мичман Вальронд, потрясенный вероломством Ветлинского, заступил в караул. Спать – не раздеваясь, только ослабив ремень на брюках. Оружие – на столе, повязка «рцы» – на рукаве. Судовые электрики подключили к его каюте телефон с берега, и телефон сразу же стал названивать.
– Сколько человек у вас в карауле? – спросили французы.
– Взвод, – ответил Вальронд, и разговор на том закончился.
Мучительно долго не мог уснуть.
Разбудил звонок:
– Караулу прибыть на форт Мальбук… Время?
Вальронд зевая разглядел циферблат часов:
– Два тридцать семь.
– Форт откроет ворота ровно в три…
Мичман быстро вскочил:
– Свистать: караул – наверх!
Ежась от ночной сырости, строились матросы. Посверкивали иглы штыков. Звякали о железо трапов приклады винтовок.
– Унтер-офицер Павлухин, ведите караул за мной!
– Есть за вами…
Быстрым шагом рассекали ночной Тулон, уютно спящий в домах. Где-то вдали маяк Латуш-Тревиль давал резкие проблески в сторону моря. Узкими улицами шли мимо освещенных фабрик, которые работали и ночью. В окнах виднелись снующие у машин тонкие руки француженок. Пахло фруктами и винными ягодами. За казармами морских училищ караул звучно грохал бутсами по булыжнику.
– Ать-два… ать-два… – подсчитывал ногу Павлухин.
Перед аскольдовцами раздвинулись, ржаво скрипя, рыцарские ворота форта Мальбук, в лицо каждому так и ударило плесенью.
– Вам придется подождать, – сказал Вальронду дежурный офицер-француз. – Ваши матросы в бильярд играют?
– Не уверен. Но если прикажу, то будут играть.
– Тогда пусть пройдут в бильярдные комнаты, а вам я могу предложить кофе…
Со двора форта грянул плотный, насыщенный пулями залп.
– Ого! – сказал Вальронд вздрогнув. – Вы люди не мирные?
– Это нам, французам, удается с большим трудом. Нелегко быть мирной нацией, имея под боком соседа – Германию.
– Кого это сейчас пришлепнули?
– Так… одного… пойманного на шпионаже. Советую вам располагаться как дома. На выстрелы не обращайте внимания.
Сколько можно пить кофе? Это же не вино, и Женька Вальронд выключил электрический кофейник. За толстой стеной казематов сухо потрескивали бильярдные шары. Форт давил на плечи старинной кладкой, от сырости познабливало. Наконец – раздалось:
– Русскому караулу моряков – на полигон! Было еще темно. И в этой темноте Вальронд ощущал черноту бушлатов, холод штыков, тепло жарких человеческих тел. Шли.
Цок-цок – по булыгам. И мерно качались тонкие лезвия.
Полигон…
– Я ни черта не вижу, – сказал Вальронд.
– Сейчас рассветет, – ответили из темноты французы.
И верно: медленно розовел вершиною Монфарон. Над фортами, клубясь в углублениях дворов и бастионов, плавал туман.
Но вот туман распался на волокна, и тогда караул увидел четыре тени…
Четверо висели на столбах, привязанные к ним. Ноги навытяжку, руки назад, на головах мешки. А перед каждым – яма.
И только теперь стало ясно, что отец Антоний в церковной палубе врал… Что караул завлечен на форт обманом. Что четверо осужденных живы. Вот они, шевелятся в мешках…
– К но-о… хе! – скомандовал Павлухин, и еще раз брякнули прикладами, вглядываясь в рассвет.
А позади уже сходились перебежками, словно готовясь в атаку, террайеры (туземные стрелки).
– Что это значит? – закричал Вальронд, поворачиваясь к французам. – При чем здесь мы?.. Караул, кру-у…хом!
Развернулись – и увидели, что аннамиты уже выкатывают тяжелые пулеметы. Оттуда – ответ:
– Приговор прочитан, еще в тюрьме… Они готовы к смерти!
И тогда мешки зашевелились снова.
– Пожалейте… мы же свои! (голос Захарова).
Но его перебил голос другой – буйного Сашки Бирюкова:
– Лучше уж вы, чем союзники… Только скорее!
Бешенцов вдруг завел из-под мешка свою молитву:
- Сеется семя, как кончен день,
- Сеется семя, как ляжет тень…
А тело Шестакова уже провисло в мешке – беспамятное.
Павлухин шагнул назад, и восемь «шошей» разворотили под ним рыхлую землю. Он отскочил под пулями, крикнув:
– Господин мичман! Вы знали, куда нас ведете?
– Я знаю не больше вас… Со мною никто не считается!
Мешки двигались. Была жуткая минута.
Туман осел книзу, и когда к ним подошел французский офицер, то из тумана смотрела только его голова в высоком кепи, словно обрубленная точно по шее.
– Нам это надоело, – сказал он Вальронду. – Мы знаем русских за мужественных людей… Сверим часы. Если через три минуты вы не закончите, мои сенегальцы ждать не станут. Они – варвары, и могут быть лишние жертвы…
Дали понять точно. Прошла одна минута, вторая…
– Да что же вы, братцы? – кричал Бирюков извиваясь.
А караул плакал… Вальронд плакал вместе с матросами.
Стрельба продолжалась минут около пяти и затихла.
Мешки шевелились, столбы уже стали качаться над ямами.
– Сволочи! – кричал Захаров. – Стрелять разучились?
– Прикончите, – стонал Бирюков. – Сашка Бирюков вам все прощает… Сашка все понимает, он уж такой…
А из-под мешка баптиста сочились на восход слова:
- Сеется семя позора, греха,
- Сеется семя обиды и зла…
Шатаясь, почти падая, к Вальронду подошел Павлухин.
– Патроны, – сказал, – кончились… Амба!
– Сколько же выпустили?
– Все подсумки… А там – двести сорок.
Двести сорок – в божий свет… Мимо!
Черномазый террайер, сверкая белоснежной улыбкой, подтянул к караулу ящик с патронами и убежал обратно… Ящик опустел, как и подсумки до этого. Но мешки шевелились… Караул целил в небо. Прямо на розовый Монфарон. Мимо, мимо, мимо! Пусть добрая Франция отворит свои арсеналы – все пули сейчас мимо!
– Прочь! – кричали французы. – Убирайтесь к черту все…
И сенегальцы, склонив штыки, пошли вперед… Возвращались уже не строем, а гурьбой.
Кто-то из матросов нагнулся, подкинул на руке булыжник и сказал:
– А чего тут думать? – И дрызь – по стеклам витрины.
Не сговариваясь, облепили плечами фургон – и он полетел на панель, дружно перевернутый. Ларьки – в щепки. Упряжь ночных ломовиков – на куски… Вальронд не вмешивался, Павлухин тем более: пусть громят… гнев должен найти выход хоть в этом.
Так и шли до самой гавани, круша все направо и налево.
Придя к себе в каюту, мичман опустился на койку. Трещал телефон, но он не снимал трубки. Оглядел серые переборки, и его губы – распухшие от слез – прошептали:
– Боже! Ведь еще вчера я был счастлив…
Приговор матросам Ветлинский скрытно подписал 13 сентября. Казнь произошла в четыре сорок пять по местному времени 15 сентября.
Французы после расстрела торопливо настелили новый линолеум в палубах и стали нагло выживать крейсер из Тулона. Затихли молотки; кое-как собранные машины едва успели провернуть у стенки, и теперь говорили, что «Аскольд» будет доремонтирован англичанами. Линолеум (дрянь!) растрескался, матросы ходили, как по болоту, прилипая к нему каблуками. Крейсер выбежал на «пробную милю», Ветлинский сгоряча дал полный ход, и снова, как год назад, полетели на корме из бортов заклепки.
– Ничего себе! – говорили матросы. – Починили…
Ветлинский в кают-компании заявил:
– Надо смириться. Пойдем на докование к англичанам. У них в Девонпорте прекрасные доки и мастера…
Накануне выхода в море явился на крейсер, опираясь на костыли, сумрачный штабс-капитан. В петлице его мундира краснела ленточка ордена Почетного легиона – еще новенькая, чистая, прямо из магазина. Он достал из-под мундира конверт.
