Упреждение бесплатное чтение
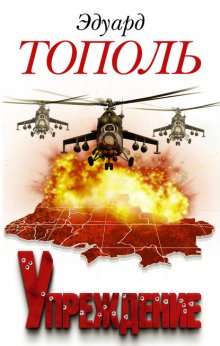
© Э.В. Тополь, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Ах, страшная страна Украина!
М. Булгаков. Белая гвардия
Россию надо любить.
Без нашей эмигрантской любви России – крышка. Там ее никто не любит.
В. Набоков. Машенька
Часть первая
2014
Ультиматум Сафонова
Приходилось ли вам просыпаться в такой выходной, когда можно никуда не спешить? Вот не нужно вскакивать, наспех одеваться и бежать по каким-то делам, а можно, не открывая глаз, просто лежать в теплом коконе дремы и предутренних снов. Приходилось? Во всем теле мягкая расслабленность, на плече невесомый груз волос и головы любимой, а на шее – ее дыхание…
Именно в этот райский момент неги и заслуженного отдохновения – буквально вчера я закончил наконец сценарий «Их было восемь», и теперь он, уже переплетенный, лежит на письменном столе, – именно в этот момент раздался телефонный звонок. Не музыка ремингтона, не какие-нибудь позывные в духе «Вставай, страна огромная!» или «Yellow Submarine», я давно простился с этими забавами айфонов, а резкий телефонный звонок, который я тут же предчувственно возненавидел, но и вспомнил, что сам виноват – почему перед сном оставил телефон в спальне и не выключил звук?
– Алло… – сонно-сухим голосом сказал я в трубку и ощутил, как Алена отстранилась от меня своим сдобно-горячим телом и демонстративно повернулась ко мне спиной.
– Антон? – спросил мужской голос.
– Да…
– Доброе утро. Это Сафонов Илья Валерьевич, друг твоего отца. Ты помнишь такого?
Я вспомнил. Из всех приятелей отца генерал Сафонов был в нашем доме, наверное, чуть ли не самым частым гостем, но я не помню, чтобы отец когда-нибудь называл его своим другом. Впрочем, после того, как в 1992-м у нас гигантскими тиражами вышли международные бестселлеры «Журналист для Брежнева» и «Красная площадь», где прототипом главного героя был мой покойный отец – следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР, у нашей семьи вдруг обнаружилось большое количество его друзей – сослуживцев и школьных приятелей. На первых порах некоторые из них даже опекали меня, помогли поступить во ВГИК. Но никакого Сафонова среди них не было, это я знаю точно. Тем не менее я сказал в трубку:
– Помню. Доброе утро.
– Вообще-то уже день, почти двенадцать, – усмехнулся голос. – Неужели вы еще спите?
«Вы»? Я насторожился, окончательно просыпаясь. Почему «вы», когда последние сорок лет он говорил со мной на «ты»?
– Нет, не сплю. Слушаю вас… – сказал я суше, чем обычно говорю с настоящими друзьями отца.
– Хочу пригласить тебя в ресторан. Есть небольшой разговор, но не по телефону. Как тебе «Village Kitchen»?
Второй звонок! Первым – «вы» – он обозначил свою осведомленность, что я сплю не один. А вторым – «Village Kitchen» – что знает ресторанчик на Малой Бронной, который мы с Аленой открыли в ее прошлый прилет. Но даже если этот Сафонов связан с ФСБ, то как, каким образом они могли там узнать про нынешний Аленин прилет, если она только что, всего в три утра, прилетела в мою постель из 2034 года? Неужели…
«Айфон, блин! – подумал я заполошно. – Они просто прослушивают мой айфон, а я, идиот, оставил его в спальне, рядом с кроватью, на тумбочке. И они слышали всё, всё…»
[Спокойно, читатель! Здесь нет опечатки, и это никакой не фантастический роман. В 2034 году люди научились путешествовать во времени. Вы же не будете отрицать, что рано или поздно это должно случиться? В 2034-м каждый сможет купить турпутевку в любой год нашей истории, в романе «Лобное место» об этом рассказано подробней, и я не собираюсь тут повторяться. Но если вы мне не верите, зайдите на сайт Принстонской физической лаборатории плазмы (www.pppl.gov) и прослушайте недавнюю, 10 января 2015 года, лекцию профессора Принстонского университета Майкла Гразино (Michael Grazino) «Consciousness and Social Brain» – он там как раз об этом и говорит.]
– Ну, хватит размышлять, Антон, – засмеялся голос Сафонова так, словно он услышал мои мысли и про айфон, и про его, Сафонова, работу в ФСБ. – В семь вечера жду тебя в «Village Kitchen». Можешь прийти со своей подругой. Пока.
И – гудки отбоя.
Я раздраженно посмотрел на экран айфона, там горела короткая надпись: «Анонимный абонент». Конечно, моим первым движением было тут же выключить его вообще, полностью. Что я и сделал, а потом вспомнил, что, даже выключенный, любой айфон остается вполне работающим подслушивающим устройством. Мысленно чертыхнувшись, я размахнулся и швырнул его через дверь в коридор.
Конечно, громкий стук упавшего айфона разбудил Алену.
– Что случилось? – спросила она, не поворачиваясь ко мне.
– Ничего, спи…
– А кто звонил?
– Неважно, спи… – Я просунул руку под ее теплую поясницу и властно привлек к себе. Я знал, что до ее возвращения в Будущее осталось три часа, разве мог я тратить это время на разговоры?
Все-таки следует объясниться.
Я работаю на «Мосфильме» сценаристом и редактором художественных фильмов и телесериалов. В июле 2014-го, в самый разгар войны в Новороссии, в наших съемочных павильонах появилось привидение, которое – после целого ряда при– и злоключений – оказалось двадцатилетней актрисой Машей Климовой, играющей роль диссидентки Натальи Горбаневской в фильме 2034 года «Их было восемь». Готовясь там к съемкам, она купила туристическую путевку в август 1968 года, когда Горбаневская и еще семь смельчаков вышли на Лобное место с плакатами против вторжения советских войск в Чехословакию. Телепортировавшись из 2034-го в двадцать пятое августа 1968-го и увидев своими глазами эту демонстрацию на Красной площади, Маша на обратном пути тормознула на «Мосфильме», чтобы повидать своего будущего отца Дмитрия Климова, бармена нашего студийного кафе, и свести его с гримершей Катей, своей будущей мамой. Но что-то случилось с Машиным телепортатором, какая-то мелкая поломка, и ей пришлось пару суток провести привидением в наших павильонах, где ее и засек мой друг кинооператор Серега Акимов. Чтобы помочь Маше выбраться из нашего времени, мне и Сереге понадобилось вместе с ней телепортироваться сначала в 2034-й, а потом еще с одной молодой актрисой, Аленой Зотовой, играющей в этом фильме следователя прокуратуры, смотаться в 1968-й на судебный процесс этих демонстрантов. Вот с этой Аленой, как вы уже поняли, у меня и случился роман, подробности которого изложены в романе «Лобное место».
Теперь, когда вы знаете предысторию (а еще бы лучше – прочли «Лобное место»), я могу рассказать вам о встрече с Сафоновым.
– Вас ждут? – спросили сразу два юных администратора ресторана «Village Kitchen» – маленькая брюнетка и высокий худой шатен.
Ресторан этот открылся с год назад, рядом на Малой Бронной и на Патриарших вальяжно процветают «Аист», «Академия», «Маргарита», «Донна Клара», «Павильон» и еще несколько знаменитых заведений, и потому каждый, кто входит в «Village», немедленно становится тут дорогим ВИП-гостем.
– Надеюсь, что ждут, – сказал я и, озираясь по сторонам, прошел в глубину небольшого зала, за которым был еще один.
Сафонов сидел именно там и, едва я вошел, словно бы мельком глянул на свои ручные часы. Но я знал, что опоздал лишь на полторы минуты, и не стал извиняться.
– Вот вы где! Добрый вечер…
– Привет! – Он, не вставая, подал мне руку. – Раздевайся, садись.
Я снял куртку-пуховик, бросил ее на соседнее сиденье и сел напротив Сафонова.
– А вы прекрасно выглядите!
Честное слово, это не было лестью. В свои семьдесят с гаком (и с большим гаком! он все-таки ровесник моего отца) генерал Сафонов выглядел пятидесятилетним пижоном и еще вполне успешным ловеласом – коротко стриженные и умело подкрашенные пепельные волосы, крупное, без морщин лицо, гладко выбритые щеки, короткие усики и ярко-голубые, как у Брэда Питта, глаза. Прибавьте к этому спортивную фигуру без всякого пивного живота, отличный темно-синий итальянский блейзер, тонкую гарусную голубую turtle-neck-«водолазку», скрывающую стареющую кожу на шее, а на столе два «скромных» телефона «Diamond Blackberry Viper» за десять штук зелеными и шестой айфон, – не зря к нам тут же подбежали сразу и юная хостес, и молодая статная официантка.
– Вы уже что-то выбрали? – чуть ли не разом спросили они у Сафонова, напрочь игнорируя мою плебейскую персону в поношенном свитере и джинсах.
– Сейчас, красавицы, минуту… – сказал он, открывая обширное меню.
– Может, какие-нибудь напитки? Аперитив? – не унимались они.
– Спасибо… – Сафонов поднял на меня смеющиеся глаза. – Что ты пьешь? Водку? Коньяк? Виски?
Я замялся. После прощальных лирических трудов с улетающей Аленой коньяк был бы в самый раз, но я не хотел напрягать генеральский бюджет.
– Не знаю… А вы что будете?
Сафонов повернулся к официантке:
– У вас есть грузинские вина?
Свержение Саакашвили вернуло в Москву грузинские вина, и они сразу же стали новой фишкой московских гурманов и визитной карточкой элитных ресторанов.
– Конечно, – сказала официантка. – «Мукузани», «Цинандали», «Саперави», «Телиани»…
– Настоящее «Телиани»? – встрепенулся Сафонов.
– У нас все настоящее, – улыбнулась она.
– Несите бутылку! – распорядился Сафонов и пояснил мне: – «Телиани» – это вино, которым в Ялте Сталин угощал Рузвельта и Черчилля.
Официантка и администраторша ушли, а Сафонов стал листать меню.
– А, так вот почему ты облюбовал это место! Фаршмак, гефилте фиш…
Тут официантка вернулась с высокой темной бутылкой, завернутой в белоснежную крахмальную салфетку. Отвернув край этой салфетки, она показала Сафонову кремовую этикетку с десятком медалей и темными буквами «ТЕЛИАНИ».
– Да! – уверенно сказал Сафонов. – Открывайте! Правда, с рыбой красное не очень идет, но ради такого случая…
– У нас не только еврейская кухня, – тут же сказала официантка. – У нас и кавказская…
– Но мы-то хотим гефилте фиш, – тонко усмехнулся Сафонов.
Я молчал. Я знал, сколько тут стоит фаршированная рыба, и мне было интересно, насколько раскошелится этот самоуверенный пижон в итальянском блейзере. Но он, похоже, и не собирался экономить – заказал гефилте фиш, фаршмак с картофельными драниками, оладьи из цукини, свежеприготовленный хумус и перец на углях с греческим сыром… «Похоже, нам предстоит длинный разговор», – подумал я и не ошибся: сделав заказ и отпустив официантку, Сафонов снова посмотрел мне в глаза:
– Ты знаешь, где я сейчас работаю?
– Ну… – замялся я. – Насколько я помню, вы профессор МГИМО…
– Правильно, формально я в МГИМО. Но главным образом я советник там! – И Сафонов поднял указательный палец правой руки. – Там, понимаешь?
– У Путина? – удивился я.
Сафонов нахмурился, ему явно не понравилось, что я вот так, вслух и в упор произнес имя президента.
– Ну, не совсем у него… – ответил он, доставая из кармана темно-вишневую курительную трубку и фирменный кисет с красивой вышивкой «STEVENSON CHERRY CAVENDISH». Но перехватив мой удивленный взгляд, вспомнил: – Блин, запретили курить! – Он спрятал трубку и кисет и положил передо мной свою визитную карточку. – Прошу…
Знаете, порой даже по визитной карточке можно судить о характере человека. Например, некоторые печатают свои карточки на черном фоне. Я таких людей сторонюсь – если им импонирует черный цвет, то мало ли что у них на душе. Другие делают свои визитки золотыми или с золотыми виньетками. Это пижоны и самохвалы. А достойные личности пишут просто: «Кончаловский Андрей Сергеевич». Плюс номер телефона и электронный адрес. И всё!
На визитной карточке Сафонова значилось:
САФОНОВ Илья Валерьевич
Генерал-майор юридической службы
Доктор юридических наук
Профессор МГИМО
Ст. советник Совета стратегической
безопасности РФ
Член редакционной коллегии ж-ла «ВВП»
Лауреат премии «Возрождение нации»
Тел.: +7 (495) 787-3434
E-mail: [email protected]
Мне захотелось съязвить, добавив: «Трижды холостяк Советского Союза», но тут официантка вернулась с тележкой, нагруженной блюдами, – фаршмак, фаршированная рыба в клюквенном соусе, оладьи из цукини…
Некоторое время мы практически молча накладывали в свои тарелки всего понемногу и пробовали вперемешку фаршмак с хумусом и драники с гефилте фиш. Но все было настолько вкусным, что Сафонов опять просветлел и поднял бокал:
– Ладно! Все вкусно! Или, как теперь говорят, «атмосфэрно». Давай за твои успехи!
– И за ваши, – сказал я.
– Согласен. Тем паче, – он усмехнулся, – они связаны.
И выпил.
Я тоже отпил из бокала, думая, каким образом его успехи могут быть связаны с моими. Впрочем, иначе зачем бы он стал приглашать меня в ресторан?
Но я молчал, доедал вкуснейшую фаршированную рыбу, которая просто таяла во рту. Сафонов, нужно сказать, тоже не отставал, но ел он не так, как я, а с каким-то дипломатическим, что ли, эстетством и изыском. То есть если я, орудуя вилкой, как совковым инструментом, просто поглощал пищу, то Сафонов маленькими красивыми руками словно дирижировал целым набором разнокалиберных вилок, вилочек и ножей и не ел, а вкушал каждое произведение местного повара. И только закончив с первой подачей блюд, промокнул губы салфеткой и поднял на меня глаза.
– О’кей, сэр! Я тебя поздравляю. Там прочли твой роман.
– Там? – Я вспомнил Булгакова. – Где там?
Он снова поднял указательный палец правой руки.
– Там – это значит там, понимаешь?
– Что? Сам прези…
– Тихо! – перебил он и даже оглянулся по сторонам, словно мы сидели не в московском ресторане, а где-нибудь в тылу гитлеровской Германии. – Что ты сразу?.. Ладно – карты на стол! Я работаю в Управлении «В» при Совете безопасности России. Слышал о таком?
– Ну, про Совет безопасности слышал. Но про Управление «В»…
– И хорошо, что не слышал. Теперь будешь знать. Управление «В» – это Управление всем. Вообще, всем и с прямым выходом на первое лицо. Ясно? А теперь к делу. Мы прочли твой роман…
Тут я не выдержал:
– Но он еще не вышел! Он только вчера ушел в типографию!
– Именно! – удовлетворенно сказал Сафонов. – И от нашего разговора зависит, выйдет ли он вообще или не выйдет никогда.
Вот теперь я окончательно узнал генерала Сафонова и вспомнил, за что не любил его с самого детства – именно за эти высокомерно категорические нотки в голосе. Даже когда он садился играть со мной, восьмилетним, в шахматы, он таким же тоном заранее объявлял, на каком ходу выиграет партию. И выигрывал, сволочь! Конечно, начиная игру, я понимал, что не смогу обыграть генерала, но чтобы проиграть ровно на том ходу, который он назначал до игры, – этим упредительным объявлением он еще до первого хода буквально уничтожал меня, пацана. Ладно, открою семейный секрет: в юности Сафонов был влюб-лен в мою мать, потому и захаживал к нам в гости под любым предлогом и без него, но мама ему отказала даже после того, как разошлась с отцом…
Однако с тех пор прошла уйма лет, теперь я уже не был восьмилетним мальчишкой и не собирался сдаваться ему за фаршмак и гефилте фиш. Я усмехнулся:
– А разве у нас есть цензура?
– Нет, конечно, – ответил он. – У нас нет ни цензуры, ни Цензурного комитета. У нас теперь каждый издатель сам себе цензор. И это оказалось эффективней.
Тут он был абсолютно прав. В СССР существовал цензурный орган «Главлит», и он, единственный, отвечал перед властью за все вольномыслие, которое порой, изредка, по недосмотру или случайно просачивалось в прессе, книгопечатании, кино и на телевидении. По всей стране в каждом издательстве и в каждой редакции сидел его величество Цензор, который бдительно выискивал даже те крохи антисоветчины, в которых никакой антисоветчины не было. Когда в одном из моих первых газетных опусов я упомянул, что на стройке вместе с ржавой арматурой валялись куски колючей проволоки, меня тут же вызвали к цензору, и он, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Молодой человек, вот у меня справочник всей продукции, выпускаемой в СССР. Колючей проволоки в нем нет, в нашей стране она не производится». Но был в этой системе и свой плюс. В «еще те», как говорится, времена все – ну, или почти все – были смелыми и старались «пробить цензуру», «вставить цензору фитиль». А если это не удавалось, если твою книгу запрещали или фильм «клали на полку», то ты, как жертва цензуры, становился героем в глазах своих друзей. А теперь нет Главлита и целой армии профессиональных цензоров. И если в прессе и книгоиздательстве еще сохранилось хоть какое-то вольномыслие («Эхо Москвы», «Новая газета», «Сноб»), то в главном новостном ящике страны – на ТВ цензорами стали редакторы и редакторши. Боясь за свои места, они теперь сами вместо молока дуют на воду и «как бы чего не вышло» перестраховываются даже там, где ты «ни словом, ни рылом» не копаешь ни под какую власть…
– Так вот, учти, – продолжал Сафонов. – Выйдет или не выйдет твой роман, зависит от нашего разговора.
«Шах! Сейчас будет шах! – вдруг испугался я, как пугался в детстве, когда видел, что его фигуры вдруг нависли над моим королем. – Но почему? Что им нужно от меня и моего романа?»
Впрочем, Сафонов не стал играть со мной в кошки-мышки. Он сказал:
– Понимаешь, пока твой роман проходил в издательстве редакторскую правку и верстку, никто не обращал внимания ни на него, ни на тебя. Ну, мало ли у нас издается всяческой фэнтези? Но когда к тебе буквально из ниоткуда, из ничего стала являться эта Алена…
«Соседи настучали, – тут же подумал я. – Соседи или консьерж. Конечно! Я же полный идиот – ни днем, ни вечером ко мне никто не приходит, а утром мы с ней вдвоем выходим из дома на прогулку. И на Патриарших прудах – разве не я, псих, гордо представил ее случайно встреченным киношникам: “Алена, моя любимая из Будущего”. “Из какого еще будущего?” – ревниво спросила плохая актриса и жена сценариста Виктора Туголиса. “А вот прочтете в моем новом романе!” – хвастливо ответил я. Дохвастался, блин! Они – кто “они”? – проследили за мистическими появлениями Алены в моей квартире, потом быстренько прочли роман, опросили мосфильмовскую охрану и руководство студии, убедились, что описанные в романе появления призрака на “Мосфильме” и похищения “Волги” из студийного музея вовсе не выдумка, а реальные факты, и…»
– То есть ты на самом деле побывал и в две тысячи тридцать четвертом, и в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом? – сказал Сафонов и снова достал из кармана трубку и кисет, положил на стол.
– Ну-у… – протянул я. – В шестьдесят восьмом я родился.
Сафонов как-то мельком, будто вскользь, усмехнулся:
– Спасибо. Это мы знаем…
Повторное «мы» мне окончательно не понравилось. Из него следовало, что Сафонов говорит со мной не от себя лично, а от некой группы, организации или даже всего Управления «В». При этой мысли у меня разом пропал аппетит, и даже прекрасная гусиная печень на углях с пикантным соусом фламбе из груши уже не шла в горло. В замешательстве я промочил его большим глотком «Телиани».
– Ну что ж, – сделал вывод Сафонов. – Действительно, рано или поздно человечество должно научиться путешествовать во времени, тут ты прав. Другое дело, кто именно будет путешествовать. Нет, не подумай, я тебя не укоряю. Я понимаю, что ты-то полетел не по своей воле. Но вообще…
Маленькой вилкой он подцепил кусочек горячей гусиной печени, обмакнул его в грушевый соус фламбе и отправил в рот. Это позволило мне вставить язвительное:
– Вы правы. В Будущее нужно выпускать только по рекомендации райкома партии «Единая Россия».
Он рассмеялся громко, на весь ресторан. А отсмеявшись, сказал:
– Лихо! Молодец! Сразу видно – талант, ничего не скажешь. Ладно, хватит ходить вокруг да около. У нас к тебе деловое и даже коммерческое предложение: ты летишь в Будущее не на пару часов, как в прошлый раз, а подольше, и возвращаешься с полным отчетом о том, что с нами будет через год, через пять, через десять. Понимаешь задачу?
Я онемел. Я смотрел на него во все глаза и, наверно, так тупо хлопал ресницами, что он засмеялся:
– Подожди! Не дрейфь! И я тебя не разыгрываю, слово офицера! Но ты же понимаешь, какая сейчас ситуация – «Крымнаш», санкции, Новороссия, рубль обвалился, экономика протухла. Пат! Нам нужно понять, куда двигаться. Назад нельзя, а вперед страшно. Николай Второй сунулся в Первую мировую и потерял империю. Брежнев сунулся в Афганистан и обрек весь Союз. Видишь, я с тобой откровенно. Помимо издания твоего романа – он пройдет, как простая фэнтези, – мы оплатим твою командировку и, самое главное, твой отчет. А если ты снимешь там видео – гонорар будет такой, в кино нет таких гонораров! Договорились?
Я понял, что на старости лет этот Сафонов сошел с ума, и сказал осторожно:
– Илья Валерьевич, а вы сами читали мой роман?
Он даже возмутился:
– Конечно, читал! Еще бы!
– А вы обратили внимание, там сказано: меня нет в Будущем?
– Обратил. Но это имеется в виду две тысячи тридцать четвертый год. А нам так далеко не надо. – Он стал набивать свою трубку пахучим табаком. – Как я уже сказал, нам нужно знать ближайшее будущее – через год, через пять, максимум десять. Тебе всего сорок шесть, ты же не собираешься завтра копыта отбросить…
– Спасибо. Не собираюсь.
– Вот за это и выпьем. – Он поднял бокал. – Как говорят грузины, ла хаим!
– Это евреи так говорят.
Он засмеялся:
– Правда? Ну, тебе видней. Но во всех случаях – за жизнь! – И он чокнулся с моим бокалом.
Не знаю, почему я проглотил его антисемитский намек и молча выпил. Может, потому, что еврейской крови у меня – всего одна восьмая, то есть еврейкой была одна из моих бабушек. Или я был слишком занят мыслями о том, что этот Сафонов просто псих, нужно как-то по-тихому от него отвязаться.
– Есть еще одно обстоятельство, Илья Валерьевич, – сказал я. – Алена была сегодня в последний раз.
– Неужели? Вы расстались? – Он сделал изумленное лицо. – Почему?
– Потому что она живет там, в две тысячи тридцать четвертом. А я здесь, я для нее человек из прошлого и не хочу ломать ей жизнь.
– Но у вас же любовь! Или нам показалось?
Опять это «нам»!
– Я не знаю, кто ваши «нам», – ответил я раздраженно. – Но раз вы знаете о наших встречах, сообщаю: я дописал сценарий «Их было восемь», Алена забрала его туда, в Будущее, и всё, больше она не прилетит.
– Ты так решил?
– Так мы решили. Оба, – заявил я твердо.
– Понятно… – протянул он, глядя куда-то мимо меня, в пространство. – Н-да… Это, конечно, осложняет ситуацию…
Кому он это сказал? Мне или тем, кто слушает наш разговор по двум его телефонам? Во всех случаях ясно, что, после того, как утром я выбросил свой айфон из спальни, они уже не могли слышать подробностей нашего с Аленой прощания.
– И ты не можешь ее вызвать? – спросил Сафонов и, чиркнув золотой зажигалкой, стал раскуривать свою трубку.
Я усмехнулся:
– Мой айфон способен на многое, но по нему нельзя позвонить в будущее.
Сафонов, однако, не обратил внимания на эту колкость.
– Жаль… – сказал он просто. И выпустил первое облако дыма. – И у вас нет никаких средств связи?
Я развел руками:
– Я не медиум.
– Понятно. Ну что ж… – Весь его дипломатический шарм исчез в мгновение ока, он сухо спросил: – Ты будешь десерт? Кофе?
– Нет, спасибо. Я сыт.
Пыхтя трубкой, он поднял руку:
– Девушка! Счет!
И заплатил кредитной карточкой, не оставив официантке чаевых, хотя она молча стерпела его пыхтящую трубку.
Чаевые оставил я.
Назавтра прямо с утра, то есть в одиннадцать (раньше на «Мосфильме» никто, кроме студийной администрации, на работу не приходит), едва я вошел в свой кабинет и сел за стол, как дверь распахнулась, и в кабинет влетел Тимур Закоев, хозяин кинокомпании «Тимур-фильм».
– Где ты был?! – закричал он вместо всякого «здрасти».
– А что случилось?
– Мы сгарели! Панимаешь? Сгарели!
– В каком смысле?
– Ва всех смыслах! Ва всех! Ты видишь, что делается с рублем?!!
– Он падает. И что? Ты разве не слышал министра финансов? Центробанк удержит его в новом коридоре.
– В новом грабу он его удержит! В грабу! – Схватившись за голову, Тимур забегал по кабинету. – Вай, Аллах! И что я наделал! Что я наделал!
– Остынь! Что ты наделал?
Тимур резко повернулся ко мне:
– Тебя послушал! Тебя! Купил эти сраные поля на Ярославском шоссе, как ты саветовал!
– И правильно сделал. Мы там построим декорации Красной площади, Елисейских Полей, Фридрих-штрассе…
– На какие деньги?! – снова вскричал он. – Ты же ничего не панимаешь в экономике! Это на бумаге у меня дагавор в рублях, а на самом деле в долларах, панимаешь? На бумаге три миллиона рублей за сто гектаров, а в натуре я им лимон должен! Зелеными – лимон! Панимаешь?
– Ну и что? Весной тебе твои дагестанские родичи дали два. В чем проблема?
– А в том, что дали под праценты! Под пятнадцать працентов, панимаешь? Но тагда доллар падал, и я всё в рубли перевел! А теперь я пришел в банк, чтобы абратно в доллары, а они гаварят: долларов нэт! Панимаешь?
– Как это нет? Что это за банк?
– Наш банк, наш! Кавказский трастовый банк.
Я ахнул:
– Какой-какой?
– Ты глухой? Кавказский трастовый…
– Тимур, ты сумасшедший. Траст – это по-английски доверие. Кавказский доверительный банк – это нонсенс!
– Но они давали семнадцать працентов гадавых! Семнадцать! Что мне делать? Меня зарежут! – И, схватившись за лысеющую голову, он снова забегал по кабинету. – Вай, Аллах! Вай!
Я вспомнил, что видел эту лысину на голове миллиардера Закоева в его роскошном кабинете в 2034 году, и сказал спокойно:
– Прекрати истерику, никто тебя не зарежет. Будь мужчиной.
Тимур с ходу подлетел к кулеру, налил себе пластиковый стакан ледяной воды, залпом выпил и сел к моему столу.
– Харашо, тебе скажу. Эти поля только на бумаге принадлежат колхозу имени «Четвертой пятилетки». А в натуре они принадлежат чеченцам. И если я до пятнадцатого ноября не отдам им лимон – всё, секир башка! Бери бумагу, пиши мое завещание!
– Вот что, Тимур. До пятнадцатого ноября три недели, завещание ты еще три раза успеешь написать. А сейчас… Я знаю один банк – маленький, но надежный. «Пальма-банк» напротив Дома кино. Дуй туда, скажешь менеджеру, что от меня, он мой читатель. Откроешь счет, перебросишь на него свои рубли из Кавказского банка, и они тебе обменяют на доллары.
– Ты думаешь? – с сомнением посмотрел на меня Тимур.
– Я не думаю, я знаю.
– Но сейчас даже у Центробанка нет долларов, – неожиданно сказал он без всякого акцента. – То есть, конечно, есть, но они никому не дают, даже банкам. И поэтому не рубль упал, а доллар взлетел, понимаешь?
– Неважно. Главное – вытащи свои деньги из Кавказского банка. Срочно вытащи. Иди!
Тимур тяжело вздохнул:
– Братан, если бы ты знал, сколько там денег…
– Сколько?
– Ну, ты же видел, как я их тратил. «Лексус»-шмексус, эти кабинеты, мебель…
– Казино? – спросил я в упор.
Он снова вздохнул:
– Ну немножко казино, караоке…
– Тёлки?
– Вах! – выдохнул он. И мечтательно вспомнил: – Если бы ты знал какие!
– Сколько же там осталось?
– Не спрашивай… – Тимур тяжело, по-стариковски поднялся. – Где, ты сказал, этот банк? Рядом с Домом кино?
Проводив Тимура, я подошел к окну, думая: боже мой, наша «Тимур-фильм» еще ничего не сделала, а уже на грани банкротства. Но ведь я был в Будущем и своими глазами видел двенадцать новеньких корпусов студии «Тимур-фильм», роскошные декорации мировых столиц и несколько сотен иностранных киношников, снимающих в этих декорациях свои блокбастеры. Значит, каким-то образом Тимур выпутается…
Теперь, со второго этажа, из окна моего, а в прошлом Ролана Быкова, кабинета я видел всю автостоянку перед главным и производственным корпусами «Мосфильма» и облетевший яблоневый сад. Было одиннадцать с чем-то утра, в такую рань, как я уже сказал, никто, кроме студийной администрации, на работу не является, и мне было хорошо видно, как в серой пелене октябрьского дождя со снегом по пустой практически парковке великий растратчик Тимур Закоев обреченно, на полусогнутых подошел к своему «Лексусу», сам открыл заднюю дверцу и, сутулясь, поднялся на заднее сиденье. Его водитель-тяжеловес включил двигатель, и машина по лужам покатила со студии…
Тут дверь у меня за спиной вновь распахнулась, это был Серега Акимов. Хотя на улице был противный октябрьский снег с дождем, на нем поверх черной футболки с надписью CANON был только легкий летний дождевик. Как я уже писал в «Лобном месте», Акимов, как и большинство кинооператоров, был гренадерского роста, косая сажень в плечах и выше меня на целую голову. Не сказав ни слова и не перешагнув порога, он призывно махнул мне рукой на выход. И поскольку на его лице было явно заговорщицкое выражение, я взял со стола айфон и послушно пошел к двери:
– В чем дело?
Но он приложил палец к губам, потом бесцеремонно отнял мой телефон, швырнул его на диван и за локоть вытащил меня из кабинета. Только после этого сказал:
– Запри дверь, и пойдем на лестницу. Нужно поговорить.
Я запер кабинет, и мы вышли на лестничный пролет, спустились к окну на площадке между вторым и первым этажами. Раньше здесь постоянно торчали курильщики, но теперь, слава богу, Назаров своим директорским приказом категорически запретил курить во всех студийных помещениях (кроме, конечно, себе в своем кабинете). Поэтому на лестничных площадках стало пусто, как, впрочем, почти везде на студии. Как сказал Станислав Говорухин, такое впечатление, будто на студии взорвалась атомная бомба. Цитирую неточно, неохота лезть в Интернет и искать его точное высказывание, тем паче, сказал он это давно, еще до того, как стал руководителем избирательного штаба президента. С тех пор он не позволяет себе никаких критических заявлений, но сути это не меняет – почти круглосуточная тишина в мосфильмовских коридорах лучше любых заявлений говорит о реальной ситуации в нашем кинематографе. А когда-то…
Впрочем, Акимов вызвал меня из кабинета вовсе не для обсуждения этой темы.
– Старик, – сказал он, – тебя уже таскали туда?
– Куда?
– Только не строй из себя целку! Да или нет?
Акимов мой друг со студенческих лет, и, кроме того, мы только что совершили путешествие в 2034-й, поэтому не было смысла темнить и уходить от прямого разговора.
– Ну, таскать не таскали, – улыбнулся я. – Но сделали предложение. А тебе тоже?
– Естественно, блин! Но я их послал!
– Почему? – спросил я, продолжая развлекаться.
– По кочану! В будущем я буду режиссером, как я могу там шпионить?
– Ты им так и сказал?
– Да, я сказал: если отправлюсь туда шпионом, меня потом могут вообще туда не впустить. На хрена мне это надо?
То есть Акимов всерьез воспринял это безумное предложение, всерьез на него ответил и теперь продолжал меня допрашивать:
– А ты что сказал? Или ты согласился?
– Я сказал, как есть. Мы с Аленой расстались, она сюда больше не прилетит, а без нее я туда попасть не могу. Вот и всё.
– Гений! – расстроился он. – Я до такого не допёр!
– А кто с тобой разговаривал? И где?
– Где! На Лубянке, где же еще?
Я изумился:
– Прямо в ФСБ?
– Нет, конечно. Рядом, в японском ресторане…
– И кто с тобой говорил?
– Какой-то генерал Сафонов. Или Сазонов, хрен его знает, я у него не проверял документы.
– Ну и что ты расстраиваешься? Мы отказались, и дело с концом.
– Ты думаешь, они отъемутся?
Тут, словно отвечая на его вопрос, мимо нас прошли вверх по лестнице двое плотных молодых мужчин явно не киношной внешности – в одинаковых темно-серых костюмах и бледно-серых рубашках с плохо, будто узелком, завязанными галстуками. Впрочем, дело было не столько в их костюмах, сколько в ботинках – это были совершенно одинаковые дешевые черные ботинки с армейского или ментовского склада.
Мы с Акимовым переглянулись и стали подниматься следом за ними, гадая про себя, на какой этаж они направляются.
Но они уверенно свернули на второй, прямо к моему двести пятому кабинету.
Я снова посмотрел на Акимова. Бежать? Но глупо бежать от сотрудников силовых структур. Да и что я такого сделал? Отказался отправиться в Будущее – это что, преступление? По какой статье?
Между тем эти двое остановились у двери моего кабинета, прочли небольшую табличку «ТИМУР-ФИЛЬМ. Главный редактор ПАШИН А.И.», затем с силой подергали ручку и постучали в дверь. Да, именно в такой последовательности – сначала властно подергали, но дверь была заперта, а потом постучали.
– Похоже, меня будут брать. Отвали… – тихо сказал я Акимову, но он, конечно, не мог оставить друга.
Я оглянулся, думая: «Эх, на миру и смерть красна! Не зря Наталья Горбаневская писала, что они, восемь смельчаков, вышедших на Лобное место, были счастливы, когда их там арестовали на глазах российских и иностранных туристов. Ведь они “сделали это”, и уже вечером об этой демонстрации говорили все западные радиостанции, то есть узнал весь мир».
Но здесь, на «Мосфильме», кроме нас четверых, на всем втором этаже производственного корпуса главной киностудии страны даже в 11.20 не было ни души! То есть, если бы не Акимов, меня тут можно было и придушить, как мышь в мышеловке…
Я сделал еще три шага вперед и сказал развязно:
– Здравствуйте! Вы ко мне?
Оба обернулись, смерили меня взглядами с головы до ног, и я тут же похолодел, вспомнив, где видел такие тускло-серые глаза, – в шестьдесят восьмом году у офицеров милиции возле Пролетарского суда и у гэбэшников в ресторане Дома кино. До чего же преемственны очи опричников!
– А вы Пашин Антон Игоревич? – спросил один из них, видимо старший.
– Так точно. Будете брать? – ответил я как бы шутя.
– Будем, – сказал он спокойно.
– Тогда одну минуту, – продолжал я развязно и повернулся к Акимову: – Вы можете идти. Позвоните мне завтра.
Акимов, однако, и с места не шевельнулся, а старший сунул руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда какую-то фотографию, бегло взглянул на нее и сказал Сереге:
– А вы Акимов Сергей Петрович. Задержитесь, вы нам тоже нужны.
Я подошел к двери, вставил ключ и распахнул ее настежь.
– Прошу! Заходите.
Но они не зашли. Старший буднично произнес:
– Пашин Антон Игоревич и Акимов Сергей Петрович, вы арестованы.
– Минутку! – ответил я, зажав свой внутренний страх. И достал из кармана темно-бордовые «корочки». – Я член Общественного совета Московской городской прокуратуры. Где обвинение? Где ордер на арест?
– Всё есть, – так же буднично ответил старший. – Вы оба обвиняетесь в двукратном похищении из мосфильмовского музея и нелегальном использовании раритетного автомобиля «Волга» ГАЗ-21. Пройдемте в машину. Сами пойдете или надеть наручники?
В своих мемуарах «Белые ночи» Менахем Бегин, бывший премьер-министр Израиля, в юности отсидевший срок в одном из наших заполярных лагерей, написал, что для закалки характера каждому приличному человеку нужно хотя бы полгода отсидеть в тюрьме или в лагере.
В моем случае дело до Заполярья не дошло, на закалку меня посадили в «заморозку» подмосковного СИЗО (все московские были переполнены). «Заморозка» – это такой бетонный пенал без отопления, но главная цель «заморозки» – вовсе не физическая закалка арестанта и его адаптация к холоду, а полная изоляция от внешнего мира – ни радио, ни газет, ни, конечно, телевидения и вообще никакого общения с кем бы то ни было, включая следователя. Бетонная тишина и холод, железная койка на день приковывается к стене, в углу параша, а в центре пенала маленький бетонный столбик для сидения в позе «Мыслителя» Родена. В стальной двери «намордник», или «кормушка», – окошко, через которое трижды в день дают баланду и кусок хлеба. То есть полный круглосуточный покой и расслабуха. Я вспомнил папку отца с надписью «САМОЕ ВАЖНОЕ», в которой он хранил записи о своих, как он считал, самых важных расследованиях. В одной из таких записей я прочел рассказ о гениальном скульпторе Исааке Иткинде, реабилитацией которого отец занимался в начале шестидесятых. В 1937-м Иткинда, уже знаменитого на весь мир (Шагал называл его «Ван Гогом в скульптуре»), бросили в Кресты, в одиночку, и несколько месяцев избивали, требуя признания, что он японский шпион. Но сломить не смогли, потому что по утрам ему через «кормушку» бросали кусок черного хлеба – паек на целый день. А Иткинд не ел этот хлеб, а, будучи скульптором, весь день лепил из него всякие фигурки. «Я лепил эти фигурки и был свободен!» – рассказывал Иткинд отцу, и эту фразу на тетрадной страничке в клеточку отец подчеркнул три раза.
Я вспомнил «метод Иткинда» и вообще еще многое из того, что на воле быстро забывается в текучке будничных дел. Память, я вам доложу, резко обостряется в тюремной одиночке. Особенно гастрономическая. Очень явственно, просто осязаемо вспоминаешь все, что по глупости недоел в хороших ресторанах. Например, ну как я мог на ужине с Сафоновым позволить официантке унести половину горячей гусиной печени с грушевым соусом фламбе?! А когда Сафонов предложил десерт и кофе – как я мог отказаться?
Кстати, о Сафонове. На девятый день (или десятый? в «заморозке» очень легко сбиться) пребывания в одиночке меня повели наконец к следователю. Но в его кабинете и на его, следователя, месте сидел сам Илья Валерьевич.
– Ну, садись, – куря трубку, показал он на место напротив себя. – Выглядишь неважно.
– Ну… – ответил я и сел. – Вашими же молитвами.
– А вот это ты зря, – сказал он укоризненно. – Я, чтобы ты знал, тут ни при чем. Я, наоборот, приложил все силы и связи, чтобы к тебе пробиться. Тебе, между прочим, шьют воровство госимущества в крупных размерах.
– Музейную «Волгу»?
– Вот именно, что музейную. Ей цены нет, в ней Смоктуновский и Ефремов снимались! А вы ее дважды угнали.
– Ага! – Я усмехнулся. – И есть доказательства?
– А то ж! Твои собственные показания в «Лобном месте».
Конечно, после десяти дней в «заморозке» не так-то просто с ходу входить в такие дискуссии – без душа всё тело саднит от жесткой шконки, плечи ломит, во рту горечь и пакость, а в затылке свинцовая каша. Но я приказал себе сосредоточиться, да, мысленно произнес сам себе: «Держи удар!» И, выпрямившись на стуле, сказал:
– «Лобное место» – это художественное произведение, выдумка автора. Так ведь и Достоевскому можно пришить убийство старухи.
Сафонов пару раз пыхнул трубкой:
– Ты хочешь сказать, вы с Акимовым не похищали «Волгу» и не летали в ней ни в будущее, ни в прошлое?
– В мечтах, может, и летали, но в действительности…
– А как же коврики? – И он подался всем телом вперед, даже навис своим новеньким генеральским мундиром над столом следователя. – А?
– Коврики? – растерялся я и запаниковал, чувствуя, что влип.
– Да! – торжествующе возгласил он. – Напольные «волговские» коврики, которые при обыске твоего кабинета нашли в твоем письменном столе! Охранник своими глазами видел, как ты опрокинул мусорную тумбу возле мосфильмовского музея, забрал вывалившиеся оттуда резиновые коврики и унес. А? Что скажешь?
Но пока он говорил, я взял себя в руки.
– И это преступление? – спросил я невинно. – Да, я нашел выброшенные кем-то коврики, поднял их, но даже не унес со студии, а сохранил в своем студийном кабинете, чтобы постелить, например, у лифта в производственном корпусе. – И я расслабленно откинулся на стуле. – Понимаете, Илья Валерьевич, я десять дней просидел в одиночке, у меня было время проанализировать ситуацию. У вас нет ни одного вещественного доказательства похищения мной и Акимовым этой замечательной «Волги», на которой мы якобы летали в Будущее. Никто нас в ней не видел, и никаких отпечатков наших пальцев на ней нет и не было! Да, по «Мосфильму» ходили слухи о каких-то привидениях и об исчезновении этой «Волги». И сам Стороженко, начальник студийной охраны, написал по этому поводу рапорт в дирекцию, а директор студии попросил меня, как автора детективных романов, провести расследование. Этот рапорт и дал толчок моей фантазии сочинить роман. Но разве можно судить за написание романа?
– О, еще как можно! – усмехнулся Сафонов и откинулся на стуле к стене, на которой висел в рамке стандартный портрет президента. – Тебе привести примеры из русской истории?
– Не нужно, я их знаю. Но сейчас уже другое время.
– А история та же, – тонко пошутил Сафонов. – Ладно, хватит препираться. Алена тебя не посещала?
Я удивился:
– В каком смысле?
– В каком, в каком! – передразнил он. – В том самом, в каком она посещала до ареста. Прилетала она в твою камеру?
Я замер, глядя на него во все глаза. Неужели они засадили меня в СИЗО только для того, чтобы…
Сафонов, конечно, прочел мои мысли.
– Ага, дошло! – сказал он с улыбкой и подсосал докуренную трубку. – Твой друг, к сожалению, не такой умный.
– То есть?
– А то и есть. Пока ты анализировал ситуацию, Акимов бился головой о железную дверь, кричал, что он лауреат трех «Золотых орлов», и требовал Никиту Сергеевича Михалкова.
Я живо представил себе Серегу в узком бетонном пенале такой же, как у меня, камеры-«заморозки». Конечно, ему, крупному мужику богатырского роста, в этом бетонном мешке еще труднее, чем мне.
– Ну, вообще-то, – сказал я Сафонову, – мы оба члены Союза кинематографистов. Михалков, как Секретарь союза, обязан нас защищать. У меня, например, нет своего адвоката. У Акимова тоже.
– А я вас не устрою?
– Вы?! – изумился я. – Вы же нас упекли!
– Ну и что? – спокойно спросил Сафонов и выбил трубку в железную пепельницу, привинченную к столу. – Тогда в ресторане ты, наверное, подумал, что я псих, сошел с ума. Но теперь ты видишь, насколько это серьезно. И нам с вами нужен постоянный контакт. Поэтому смотри: я доктор юридических наук, генерал-майор юридической службы. Таких адвокатов на всю Москву не больше трех человек. Если вы согласитесь, я смогу посещать вас в любое время по вашему первому требованию.
– То есть нам тут сидеть, пока за Акимовым не прилетит его Маша или за мной Алена? Я правильно вас понимаю?
Он улыбнулся:
– Ну, если они вас действительно любят…
– Но как они узнают, что мы в тюрьме?! – воскликнул я в полном отчаянии, осознав, в какой мы ловушке. Не знаю, как Акимов простился с Машей, но я-то действительно сказал Алене во время ее последнего визита: «Всё, дорогая! Не ломай свою жизнь и забудь меня! Отрежь, выбрось из памяти, как сон, как могилу на заброшенном кладбище! И больше не прилетай сюда. Тебе это ясно? Я исчез в твоем прошлом!»
– Узнают! Мы над этим работаем, – вдруг сказал Сафонов и, щелкнув замками, открыл свой тонкий кожаный «дипломат». – Еще как узнают! Смотри…
С этими словами он выложил из «дипломата» пачку газет – «МК», «Комсомольскую правду», «Известия», даже «Новую газету». В каждой из них были красным фломастером обведены или подчеркнуты заметки и сообщения с броскими заголовками:
«НА “МОСФИЛЬМЕ” АРЕСТОВАНЫ ЗНАМЕНИТЫЙ КИНООПЕРАТОР СЕРГЕЙ АКИМОВ И СЦЕНАРИСТ АНТОН ПАШИН!»
«СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ АРЕСТОВАННЫХ АКИМОВА И ПАШИНА!»
«СОРОК ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ПОДПИСАЛИ ПИСЬМО В ЗАЩИТУ АКИМОВА И ПАШИНА»
«АРЕСТОВАННЫЙ РОМАН “ЛОБНОЕ МЕСТО” АНТОНА ПАШИНА ВЫДВИНУТ НА ПРЕМИЮ “БОЛЬШОЙ БУКЕР”»
– Ты когда-нибудь видел такое в наших газетах? – усмехнулся Сафонов. – Думаешь, легко было это организовать? Смотри, какая у вас реклама! И еще радио постоянно это передает – «Эхо Москвы», «Бизнес-ФМ», «Коммерсант-ФМ»!
Я даже вскочил от отчаяния:
– Илья Валерьевич! Вы… Вы… Но послушайте, это же глупо! Почему они должны там читать наши газеты? Вы слушаете радио двадцатилетней давности?
– Я знал, что ты так скажешь, – ответил он спокойно и стал прочищать свою трубку тоненьким шомполом с ершиком. – Сядь, пожалуйста. Сядь и слушай! Ты читал «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте?
– Ну, в детстве читал. При чем тут?..
– А при том, что это бестселлер покруче твоего «Лобного места». Хотя там весь финал держится на том, что бедная Джейн Эйр вдруг за тысячу километров слышит призыв своего искалеченного возлюбленного: «Джейн! Джейн!» – и мчится к нему, сломя голову. И уже более полутора столетия все поколения читателей даже не сомневаются в этой истории. Так вот, дорогой, если телепатия властна над расстоянием, она властна и над временем. Ваши Маша и Алена обязаны услышать, что вы в тюрьме! Иначе какая же это любовь?
Я молчал. Целый ворох мыслей кружился в моей голове, и я не знал, с чего начать. А он, насладившись эффектом, сказал уже совсем другим тоном, прозаическим:
– Ну, а помимо телепатии, я просто верю в технику. В айфонах будущего наверняка есть автоматический поиск любой информации, нужной их владельцам. Это несложно сделать, я удивляюсь, почему в наших айфонах еще нет такой программы. Так вот, если ваши пассии к вам неравнодушны, они наверняка получают всю информацию, связанную с вашими именами. То есть как только в «МК», например, появился заголовок «Арестован сценарист Антон Пашин», он тут же всплыл на экране айфона твоей Алены. Если, конечно, она тебя любит… – И Сафонов с усмешкой посмотрел мне в глаза.
Но я не стал дебатировать этот вопрос. Я сказал:
– Илья Валерьевич, а вы действительно любили мою мать? По-настоящему?
– Да, любил, – ответил он спокойно. – И знал, что когда-нибудь ты меня спросишь об этом.
– Значит, любовь существует?
– А разве в своих романах ты это опровергаешь?
– И на этой вере в любовь основан весь ваш проект?
– Какой проект?
– Что Маша и Алена прилетят нас спасать, и мы улетим с ними в Будущее.
– Да, на этом и основан, – вдруг подтвердил он. – Но улетите только для того, чтобы выполнить наше задание. И запомни: когда они вытащат вас отсюда – не знаю, как? сквозь эти стены? – вы все равно не сможете нас надуть и эмигрировать в это Будущее, остаться там. Потому что у вас есть тут заложники: у тебя – твой сын, а у Акимова – мать и дочь. Ты меня хорошо понял или тебе повторить задание?
И он стал складывать газеты в свой «дипломат». Но тут я вдруг заметил еще один крупный заголовок «АВИАКАТАСТРОФА ВО ВНУКОВЕ» и взял эту газету.
Погиб глава нефтегазовой корпорации «Total» Кристоф де МаржериВыйдя после ночного совещания по иностранным инвестициям у премьер-министра Дмитрия Медведева, де Маржери приехал во Внуково-3 и сел в свой личный «Фалькон», чтобы улететь в Париж. Но на взлете самолет наткнулся на снегоуборочную машину и взорвался…
Я посмотрел на Сафонова. Он беспомощно развел руками:
– Да… Это какой-то рок – сначала голландский «Боинг», сбитый над Новороссией, а вчера наш почти единственный крупный инвестор и противник западных санкций… Теперь ты понимаешь, насколько нам важно знать, что ждет нас в Будущем?
Сразу после этого разговора нас с Акимовым перевели в общую камеру № 72. Возможно, потому, что она – наверное – оборудована скрытыми видеокамерами и микрофонами, и им проще следить за нами обоими в одной камере, чем в разных. А мы обрадовались встрече и обнялись так, словно не виделись век. Рыжий сорокалетний увалень, сидевший на верхней шконке, даже сказал:
– Ну, вы даете! Вы что, педики?
– Еще слово, блин, – тут же врезал ему Акимов, – и ты у меня сам педиком станешь! Ты понял, сука?
– Я только спросил… – струсил рыжий.
Это сразу поставило всё на свои места. Честно говоря, при аресте я больше всего побаивался именно общей камеры, поскольку на воле был наслышан о тюремных нравах – про всяких там «петухов» и прочие прелести зэковских социальных лестниц. Но выяснилось, что я ошибся дважды. Во-первых, в присутствии Сереги Акимова я был как за каменной стеной, а во-вторых, наша 72-я камера оказалась самым что ни на есть высокоинтеллектуальным клубом! Во всяком случае, нигде, даже, я думаю, в телевизионной программе «Что? Где? Когда?» вы не найдете, чтобы в пространстве двадцати квадратных метров, на четырех вмурованных в пол двухэтажных шконках вольно разместились сразу два доктора физико-математических наук, четыре высококлассных бизнесмена, один лауреат трех «Золотых орлов» и один не самый плохой писатель.
– Антон Пашин? – сказал рыжий, как только мы с Серегой представились сокамерникам. – Мне кажется, я в нашей библиотеке видел книгу с такой фамилией. Это вы написали «Московская полночь»?
Так я сразу стал знаменитым в нашем СИЗО, даже охранники по очереди открывали дверной «намордник», чтобы посмотреть на «живого» писателя. Но всех сокамерников я представлять вам не буду, я же не пишу «Архипелаг СИЗО» и не хочу отнимать славу у Ольги Романовой, которая ведет лагерную тему в «Новой газете». Поэтому бегло скажу, что один доктор физико-математических наук попал на шконку потому, что на улице его избили и ограбили трое пацанов, из которых один оказался сыном майора полиции, – ну, и чтобы спасти этого урода от суда, его жертве подкинули наркотики и спрятали в СИЗО. Второй доктор наук, Иван Сильвестрович N., заведовал какой-то крутой физической лабораторией, но его ученик написал донос, будто Иван Сильвестрович продал американцам результаты своих исследований, и тут же занял его место завлаба. Трех бизнесменов обвиняли в крупных хищениях, но лишь для того, говорили они, чтобы отнять их бизнесы, а самым интересным нашим сокамерником был четвертый бизнесмен – как раз тот рыжий увалень, который спросил, не являемся ли мы педиками. У него оказалась неожиданная для тюрьмы фамилия – Гольдман, а еще неожиданнее – статья, по которой он сюда попал.
– Я тут главная достопримечательность! – заявил он мне, представляясь. – Первый еврей со статьей «хулиганство» за всю историю этой тюрьмы. Конечно, здесь сидят еще несколько евреев, так мне перед ними просто неловко. Одного обвиняют в краже десятков миллионов долларов, другой отмыл несколько миллиардов рублей, третий якобы украл всю сургутскую нефть. Крупные личности. А я всего лишь стекло разбил. В общем, позор еврейского народа. А все дело в том, что год назад я – отец троих детей, меценат и один из ведущих специалистов в области лазерной техники – имел неосторожность легально, с договором на пять лет, арендовать офис у одного олигарха. Сделал там евроремонт, завез дорогую мебель, компьютеры, вселил своих сотрудников. А дальше читайте в газете…
И с этими словами Гольдман вручил мне газету «Голос Пресни», где я прочел:
«2 марта офис компании “Лазеры Гольдмана” захватили бандиты. Захват был сделан по заказу крупного олигарха. В течение двух недель никто из сотрудников не мог зайти в помещение, хотя там оставалось оборудование компании и личные вещи. Местная полиция приезжала к помещению каждый день и требовала открыть дверь. Но им не открывали. Полицейские вздыхали: “Ну что мы можем сделать?” – и уезжали. Через месяц бандиты попытались вывезти часть мебели и сломать всё, что сложно было вывезти. Владелец компании Борис Гольдман приехал к офису, набрал 02, описал ситуацию и сказал, что бандиты уехали. После чего выбил стекло в одном из окон, зашел в свой пустой офис и вызвал по 02 следственно-оперативную группу. Группа приехала и проработала три часа в полностью разгромленном помещении, а Гольдман написал заявление о краже. Через десять дней Гольдмана арестовали. Вместо дела о краже под тем же номером лежало дело о его злостном хулиганстве. Не дав Гольдману ни с кем связаться, его вначале арестовали на 48 часов, а потом на два месяца и отправили в тюрьму. Адвокаты смогли попасть к нему только через двенадцать дней. Сейчас за разбитое стекло Гольдман сидит в подмосковном СИЗО…»
– Я дал вам эту газету, чтобы вы не подумали, что я трепло и фанфарон, – заявил мне Гольдман. – Ну, и чтобы вы поняли, что я персонаж для вашего следующего романа. Конечно, тут для вас полно персонажей, но я самый лучший. Потому что отсюда, из СИЗО, я веду войну с богатейшим олигархом! Представляете, как это интересно!
И он, действительно, был самым ярким персонажем не только в нашей камере, а во всем СИЗО! Ночами он по мобильному телефону разговаривал со своими адвокатами и журналистами, давал интервью и, не боясь никакой прослушки, обзывал своих оппонентов, следователей и судей ублюдками, продажными тварями и дебилами.
– За разбитое окно в своем собственном офисе мне по статье «хулиганство» дали два месяца, максимальный срок, а держат уже полгода! – говорил он. – В июне предлагали выйти по амнистии, но я отказался – если я ни в чем не виноват, почему я должен писать прошение о помиловании? С тех пор меня каждый месяц возят в суд, там я произношу пламенную речь, камня на камне не оставляю на моем обвинительном заключении и спрашиваю у судьи: «Вам всё ясно?» – «Да», – говорит эта тварь, рассматривая маникюр на своих ногтях, и продлевает мне заключение еще на месяц. То есть вы же понимаете – олигарх заказал меня бандитам, а бандиты заказали судье. Но больше шести месяцев никого нельзя держать в СИЗО, и они уже не знают, что делать. Выпустить меня боятся – я устрою международный процесс и сдеру с этого олигарха миллион долларов за моральный ущерб. А убить поздно – обо мне уже в Интернете море информации. Так знаете, что они придумали? Вчера втихую свозили меня в психушку на обследование, чтобы упрятать туда навсегда. Понимаете? Чем вам не сюжет? Мы с вами напишем такой роман – «Граф Монте-Кристо» отдыхает!
Конечно, мобильные телефоны запрещены в СИЗО, но отдельные охранники за отдельное «спасибо»… – ну, вы понимаете. Впрочем, мобильник был у Гольдмана почти легально – ради этого он волонтерствовал в тюремной библиотеке, где составлял компьютерную картотеку книг. При этом легко делился им со всеми сокамерниками…
– А я вам говорю, что Донбасс – это надолго. Ни войны, ни мира. Если не подбрасывать дровишек в Донбасский костер, у нас с Украиной начнется война за Крым.
– Но вы должны признать, что Крым мы забрали красиво. За два дня, без единого выстрела, Запад и пикнуть не успел…
– Красиво? Вы называете это красиво? Когда у соседа горит дом, вытащить из его сарая козу и сказать «она моя» – это красиво?
– Но это же наша коза!
– Которую вы ему когда-то сами подарили!
– Я? Я не дарил. Это Хрущев!
– По этой логике завтра вы скажете: я не отнимал, это Путин!
– Нет! Когда Хрущев дарил, вся страна молчала, а теперь вся страна аплодирует!
– Это потому, что теперь облапошить даже родную мать стало у нас делом чести, доблести и геройства! А уж соседа…
– Что ты гонишь?! Мы никого не грабим. Мы возвращаем свое и возрождаем Русский мир!
– Мир возрождаем войной? Украинцы, чтобы ты знал, все куркули, они за свою козу душу вынут. И Запад никогда не смирится. Ангела Меркель…
– Меркель? Вот уж чья бы корова мычала, а Меркель молчала! Вся Германия войнами создана! Бисмарк отнял у Дании и Франции немецкие области и присоединил к Пруссии…
– Минутку! Вы же не будете отрицать, что в девяносто четвертом Украина сдала все свое ядерное оружие под гарантии России и США о неприкосновенности ее границ? А мы эти гарантии нарушили.
– Гарантии первыми нарушили американцы. Они вышли из договора о безопасности Европы и стали строить ракетные базы у наших границ.
– Допустим. Так нужно было им и объявить войну, американцам! При чем тут украинцы?
– При том, что они хотят в Европу и в НАТО! Вот при чем!
– И за это их нужно убивать? А если мы захотим в Европу, нам казахи войну объявят?
– Мы не хотим в Европу…
– Неужели? Мы хотим в Азию? Ты себя кем считаешь – европейцем или азиатом? А? Пушкин кем был? Тургенев? Толстой? Неужели азиатами? Если я скажу, что ты настоящий азиат, ты же мне в морду дашь! А если что настоящий европеец, растаешь от комплимента.
– А как же Блок? «Да, скифы – мы, да, азиаты – мы с раскосыми и жадными очами!»
– Что-то я не вижу раскосости в ваших глазах, сэр. Жадность вижу, а раскосость… Вот из-за жадности вы и схватили соседскую козу.
– Неправда! Крымчане сами проголосовали за присоединение…
– А «вежливые люди» – это кто? Инопланетяне?
Пока на шконках в одной половине камеры часами шли такие дебаты, Гольдман в другой половине обсуждал с нашими докторами наук проекты создания самолета, летящего в лазерном потоке, ракеты, летящей без всякого топлива, а с помощью точечных лазерных импульсов, левитатора на лазерной подушке и еще каких-то футуристических машин и приборов.
– Американцы в ближайшие тридцать лет собираются сделать в космосе установку, которая будет аккумулировать энергию Солнца, – говорил он. – Но на данный момент у них нет технологий, чтобы передать эту энергию на Землю. Я решил подсуетиться и поработать в этом направлении, создав основанный на лазере проект идеального передатчика энергии с космического аккумулятора. План у меня следующий…
Дальше шел поток научных терминов, который я запомнить не мог, зато легко вспомнил мемуары Льва Гумилева, сына расстрелянного чекистами поэта Николая Гумилева, который вот так же на тюремных нарах вдруг закричал: «Эврика!», открыв свою теорию пассионарности. Единственной разницей между Львом Гумилевым и Борисом Гольдманом было, я думаю, то, что Гумилев был пессимистом-антисемитом, а Гольдман – оптимистом из романов Шолом Алейхема, Исаака Бабеля и Исаака Башевиса-Зингера. При этом я должен осторожно заметить: историю этого оптимиста я знаю только от него самого, но не имел, как вы понимаете, счастья узнать ее от второй стороны, от олигарха. А как поет БГ: «Я не знаю никого, кто не прав»…
Кстати (или не очень кстати), о еврейской теме, которая, как вы понимаете, всегда возникает в компании, где есть хоть один еврей. А в нашей камере их (нас) было даже больше: стопроцентный Гольдман и одна восьмушка, то есть ваш покорный слуга.
– А я за то, чтобы Путин был пожизненным президентом! – неожиданно заявил Гольдман во время очередных «камерных» дебатов.
Все уставились на него в полном изумлении, а он самодовольно улыбнулся:
– Объясняю. На Руси с девятьсот двадцать второго года существует государственный антисемитизм. В девятьсот двадцать первом году в Киеве поселились первые сто евреев-хазар, открыли на Подоле свои лавки, а уже через год киевский князь ввел штраф – десять гривен должны были платить те киевляне, чьи бабы по ночам бегали к этим жидам. С тех пор все князья, цари и генеральные секретари были антисемиты, ввели «черту оседлости» и «процентную норму», а Сталин вообще планировал погромы, чтобы выселить нас в Биробиджан. Даже глубоко почитаемый мной Александр Исаевич вставил сюда свой пятак – сидя на Олимпе всенародного поклонения, написал юдофобскую книжку «Двести лет вместе». И только Владимир Владимирович железной рукой пресек этот антисемитизм сверху. Сегодня впервые за тысячу лет в России нет государственного юдофобства. Это, конечно, не значит, что его нет вообще. Нет, он тлеет, я уверен, в плебейских массах, как огонь в шатурских болотах. И как только Путин уйдет, пожар обязательно возникнет. Кого-то же надо будет обвинить в наших бедах. А во всех русских бедах всегда виноваты все, кроме русских. Немцы, поляки, литовцы, американцы и, конечно, евреи. И тут будет то же самое – «Бей жидов, спасай Россию!». Поэтому я хочу, чтобы Путин был всегда! Следующий будет только хуже.
После такого яркого выступления все, конечно, повернулись ко мне в ожидании комментариев. Но я сказал:
– Уважаемые господа зэки, жертвы путинского, как вы себя называете, режима! Ваши схоластические дебаты мне уже остое… извините, осточертели. Если вас так занимает еврейская тема, то могу рассказать об одном уникальном еврее. Хотите?
– Хотим! – заявили сразу два доктора физико-математических наук, три бизнесмена, один лауреат трех «Золотых орлов» и один адепт В.В. Путина. При этом он включил электрический чайник и со своей полки в общей тумбочке выложил на столик у окна все свои припасы, оставшиеся от передачи с воли, – две пачки овсяного печенья, брикет халвы и пакет сухофруктов.
Я сказал:
– В тысяча девятьсот сорок четвертом году по Алма-Ате стали ходить слухи о каком-то полудиком старике – не то гноме, не то колдуне, который живет на окраине города, в землянке, питается корнями, выкорчевывает лесные пни и из этих пней делает удивительные фигуры. Дети, которые в это военное время безнадзорно шныряли по пустырям и городским пригородам, рассказывали, что эти деревянные фигуры по-настоящему плачут и по-настоящему смеются… Слухи эти через какое-то время стали такими упорными, что руководители Казахского художественного фонда решили посмотреть на эти «живые фигуры из пней». Несколько художников поехали на окраину Алма-Аты, на Головной арык. Потом, в семидесятые, эта улица стала проспектом Абая, а тогда здесь пасся скот. Художники долго бродили по пустырю и наконец увидели то, что искали. В глиняном холме узкий, как кротовий, лаз вел в глубину не то норы, не то землянки. Возле этого лаза валялись пни и куски дерева, еще только тронутые резцом деревообработчика. Но художники – люди профессиональные – уже по этим первым наметкам поняли, что сейчас перед ними откроется нечто незаурядное. Они подошли к лазу в землянку. Оттуда доносилось легкое постукивание молотка по резцу. Кто-то из художников нагнулся, крикнул в нору: «Эй!» Маленький седой семидесятитрехлетний старик выполз из землянки. Он плохо слышал и ужасно неграмотно говорил по-русски – у него был чудовищный еврейский акцент. Но когда он назвал художникам свою фамилию, они вздрогнули. Перед ними стоял Исаак Иткинд – скульптор, который еще десять лет назад был в СССР так же знаменит, как Коненков и Эрьзя. О нем писали газеты, с ним дружили Максим Горький, Алексей Толстой, Маяковский, Есенин, Мейерхольд, Качалов, его опекали Луначарский и Киров. Они считали его ровней Донателло, Тициану, Гойе. Выставки его скульптур были событием в культурной жизни довоенной России. А теперь Иткинд, чье имя для этих художников стало хрестоматийным еще в их студенческие годы, жил в какой-то кротовьей норе, голодал, питался корнями и… создавал скульптуры.
– Почему? Как вы здесь оказались? – спросили художники.
– Меня арестовали в тридцать седьмом году и сослали сначала в Сибирь, потом сюда, в Казахстан. Теперь выпустили из лагеря, потому что я для них уже очень старый. Но выпустили без права возвращения в Москву. Они сказали, что мне дали пожизненную ссылку…
– За что вас посадили?
– За то, что я враг народа, японский шпион. Я продал Японии секреты Балтийского военного флота, – ответил Иткинд и спросил с непередаваемой еврейской интонацией: – Ви можете в это поверить?
Конечно, они не могли поверить в то, что этот всемирно знаменитый скульптор, этот гениальный гном с чудовищным еврейским акцентом – японский шпион и что он хоть что-то смыслит в военных секретах Балтийского флота. Но в 1944 году в СССР к людям, объявленным сталинским режимом «врагами народа», относились как к прокаженным. Поэтому в жизни ссыльного «врага народа» и «японского шпиона» Исаака Иткинда ничего не изменилось. Разве что один из тех художников – Николай Мухин – осмелился все же влезть в его нору и вытащил из землянки большую деревянную скульптуру. Это был эскиз «Смеющегося старика» – скульптуры, которая через два десятка лет станет одной из самых знаменитых работ Иткинда.
– Мы заберем ее в музей нашего фонда, можно? – спросили художники Иткинда.
Иткинд разрешил, они погрузили скульптуру в машину и увезли, чувствуя себя почти героями, – ведь они взяли в музей скульптуру у «врага народа»! «Иткинд, – рассказывал впоследствии Николай Мухин, – стоял у входа в землянку и махал нам вслед рукой». Он прожил в этой землянке еще двенадцать – вы слышите: двенадцать! – лет. Лишь изредка и тайком навещал его Мухин, снабжал кое-какими деньгами… Затем была смерть Сталина, Двадцатый съезд партии, реабилитация миллионов «врагов народа». Иткинда к тому времени снова забыли напрочь. Да и кто станет годами заботиться о сосланном старике, когда вокруг такое творится – послевоенная разруха, затем новая волна арестов 1948 года. Даже только за общение с ссыльным «врагом народа» могли дать десять лет лагерей. Как он жил эти годы, чем, и жил ли он вообще – этого никто не знал и не интересовался… Поэтому, когда зимой 1956 года в Алма-Атинский государственный театр пришел бездомный маленький восьмидесятипятилетний старик, никто не опознал в нем знаменитого скульптора. В 1956 году таких оборванных стариков, только что выпущенных из сибирских и казахских лагерей, были тысячи. Часть из них рвалась из Сибири в свои родные Москву, Ленинград, Киев – к детям, к женам, к родственникам. Но еще тысячи уже никуда не спешили: у них не осталось в живых никого из родных, их забыли, бросили или предали в свое время жены и дети. Такие бродили вокруг бывших мест своего заключения или ссылки и искали тут работу. И все они, по их словам, были до ареста знамениты. В Алма-Ате их было в тот, 1956 год наводнение. Из карагандинских шахт, из медных рудников Джезказгана, из лагерей Актюбинска… Маленький, оборванный, обросший седыми космами и бородой, похожий на гнома старик упросил директора Алма-Атинского театра взять его на работу размалевывать задники декораций. И директор театра принял его на должность маляра с окладом шестьдесят рублей в месяц и даже предоставил ему «жилье» – топчан под театральной лестницей, где обычно грелась у печки театральная вахтерша Соня Ефимовна… Два года старик лазил на театральные стремянки, размалевывал задники декораций для спектаклей по эскизам местного художника. А в свободное от работы время бродил по окрестностям Алма-Аты и на попутных грузовиках и самосвалах приволакивал в театральный подвал огромные пни и коряги. Вскоре все алма-атинские водители грузовиков знали, что в городском театре есть какой-то старый чудак, который за деревянную корягу или пень дает на бутылку водки. Само собой, пни и коряги стали прибывать в театр чуть не со всего Казахстана. И по ночам Исаак Иткинд спускался в подвал и, вооружившись резцом, молотком и стамеской, принимался за работу. Никто не мешал ему, никто, кроме вахтерши Сони Ефимовны, не слышал стука его молотка по резцу. И только через два года новый молодой художник театра заглянул в подвал и ахнул: здесь стояли два десятка уникальных деревянных скульптур, сделанных наверняка крупным, если не великим мастером. Художник спросил у старика, как его фамилия, и вспомнил, что слышал эту фамилию в художественном институте на лекциях по истории советского изобразительного искусства. Конечно! Это же была знаменитая в тридцатые годы тройка скульпторов по дереву – Коненков, Эрьзя и Иткинд. Коненков жив, он стал академиком, Эрьзя умер, а Иткинд… Так в Казахстане «опять» нашли Исаака Иткинда. Молодые художники Алма-Аты потянулись в театральный подвал поглазеть на воскресшую из мертвых знаменитость. Поэт Олжас Сулейменов и еще несколько известных писателей и художников стали хлопотать, чтобы старика приняли в Союз художников, мой отец, который работал тогда следователем Прокуратуры, добился его реабилитации, а затем… затем к Иткинду пришла слава. Правда, слава местного масштаба. То было время освоения целинных земель. Хрущев объявил, что через двадцать лет СССР догонит и перегонит Америку по производству зерна, молока и мяса на душу населения. Особую роль в этой гонке он отвел освоению диких целинных земель Казахстана. Туда были брошены несколько миллионов молодых рабочих и миллиарды рублей. По замыслу Хрущева целинные земли Казахстана должны были накормить Россию хлебом. И поэтому здесь, как грибы, стали расти новые города и поселки – Целиноград, Павлодар, Семипалатинск. Хрущев не скупился на деньги для этих городов, в них возникали даже свои музеи и художественные галереи. Составителями коллекций и выставок для этих музеев были молодые искусствоведы, выпускники Московского и Ленинградского художественных институтов. Они-то, узнав о воскресшем Иткинде, и скупали у него скульптуры для своих музеев. Затем Иткинда приняли в Союз художников Казахстана, он стал лауреатом премии Ленинского комсомола Казахской республики и – даже! – получил двухкомнатную квартиру на окраине Алма-Аты. Конечно, эта борьба казахской интеллигенции за Иткинда имела свой подтекст. Мол, русские в Москве погубили великого скульптора, а мы, казахи, спасаем его для истории! И они, действительно, его спасли, они его буквально вытащили из-под черной лестницы, наградили и переселили в человеческую квартиру. Более того, они добились того, что городской военный комиссариат разрешил Иткинду устроить мастерскую в подвале-бомбоубежище того дома, где он получил квартиру. И они сняли о нем двадцатиминутный документальный фильм «Прикосновение вечности». Я видел этот фильм во ВГИКе на лекциях Паолы Волковой по истории изобразительного искусства. На экране девяностошестилетний, коренастый, полутораметрового роста, с огромной седой бородой старичок, похожий на Саваофа или рождественского гнома, деловито расхаживал среди огромных деревянных и гипсовых скульптур, работал резцом, и глаза его блестели живым, молодым озорством. А диктор рассказывал в это время, что скульптуры Иткинда стоят в музеях Франции, Германии, США и… в запасниках Русского музея в Ленинграде и Музея изобразительных искусств в Москве. При этом кинокамера перекочевала в музейный запасник, и тут возникла самая потрясающая деталь этого фильма. Мы увидели двухметровую деревянную скульптуру Александра Пушкина – это был юный, тонкий, стройный, вдохновенный и, я бы сказал, сияющий Саша Пушкин на взлете своего гения. Вся скульптура была – порыв, свежесть, жизнь, поэзия. А ниже, на постаменте, камера на секунду остановилась на короткой надписи: «Скульптор Исаак Иткинд. 1871–1938». И – всё. Диктор не сказал ни слова. Камера мягко ушла с этой надписи и снова показала нам Иткинда в Алма-Ате, но после этого уже весь фильм был освещен для нас смыслом этой короткой надписи: для всех музеев мира жизнь гениального Иткинда оборвалась в сталинских лагерях в 1938 году. А дальше я вам по памяти перескажу то, что прочел в записках своего отца, который был в Алма-Ате у Иткинда за пару лет до его смерти в 1969 году. Отец писал, что в «городе яблок» полным-полно удивительно красивых девушек с белой кожей и раскосыми черными глазами, этакие Евы-марсианки от смешанных браков казахов с русскими… В Союзе казахских художников ему сказали, что Иткинд болен, простужен и живет у черта на рогах – на окраине Алма-Аты в квартире без телефона. Но, увидев его «корочки» следователя Генпрокуратуры, поручили молоденькой секретарше Союза Наденьке отвезти отца к Иткинду. И на такси они покатили в заснеженные алма-атинские Черемушки. По дороге Надя сказала, что надо бы купить бутылку сладкого вина – Иткинду хотя и девяносто шесть лет, но рюмку сладкого вина он выпьет с удовольствием. И вообще, добавила Надя, старик любит, когда к нему приезжают с вином и молоденькими девушками.
– Два месяца назад, – продолжала она, – Иткинд попал в больницу с воспалением легких. Я приехала навестить его и помогла медсестре отвезти его на кровати из палаты в рентгенкабинет. У него была температура 39,2°, но – представьте себе! – когда он открыл глаза и увидел, что его кровать катят две молоденькие девушки, что-то зашевелилось под простыней – там, знаете, ниже живота…
Конечно, отец остановил такси у магазина, купил бутылку вина, а потом они еще минут двадцать ехали по заваленным снегом алма-атинским улицам… И вот они у Иткинда. В холодной двухкомнатной квартире на кровати у окна лежал совсем даже не седобородый Саваоф, а безбородый, с редкой седой шевелюрой старичок, очень похожий не то на беса, не то на домового с картины Врубеля «Пан». Это и был Иткинд. Его ворчливая и неряшливо одетая жена – та самая бывшая вахтерша театра Соня Ефимовна, – недружелюбно косясь на молоденькую Наденьку, поставила чай… Но Иткинд, увидев Наденьку, словно воспарил над постелью. Его глаза тут же засветились, помолодели, морщинки на круглом, как печеное яблоко, лице заиграли. Он взял Надю за руку, усадил возле себя на кровать и сказал ей все с тем же сильным, неизжитым еврейским акцентом:
– Вчера мне привезли прекрасное дерево! Ой, какое дерево! Ой! Идем, я покажу, оно на улице под снегом. Если ты будешь мне позировать, я сделаю из него скульптуру «Весна»! Идем! Идем!
И, несмотря на протесты, встал, надел ватник и брюки, сунул ноги в валенки и повел их во двор. Там он буквально с вожделением ходил по снегу вокруг толстенной пятиметровой деревянной коряги, приговаривая:
– Ви видите? Нет, ви только посмотрите, какое замечательное дерево! Ой, какое дерево! Надя, ты будешь мне позировать? Это будет «Весна», настоящая! Ой, какую я сделаю «Весну»! Ой, какую!
Затем он повел их в подвал-бомбоубежище, и отец увидел там метровую, из гипса, голову Максима Горького; тридцатилетнего, из дерева, Александра Пушкина; десяток разнокалиберных деревянных девичьих торсов с единым названием «Весна» – воздушных, словно летящих, и… почти метровую гипсовую голову Ленина. Тут мой отец не удержался, спросил:
– Вы лепите Ленина?! ВЫ?! После того, что почти тридцать лет отсидели?
– Да, – сказал Иткинд. – Но у меня еще не получается так, как я хочу…
Пригубив вино и остро, молодо поглядывая на смазливую Наденьку, Иткинд стал рассказывать отцу свою жизнь. Он родился 9 апреля 1871 года в местечке Сморгонь Виленской губернии. Его отец был раввином, и Исаак, конечно, пошел по стопам отца – он окончил ешиву, стал, как и отец, раввином, но когда ему исполнилось двадцать шесть лет, ему в руки случайно попала книга о знаменитом в то время скульпторе Марке Антокольском. В этой книге были иллюстрации и среди них – фотографии известных горельефов Антокольского: «Еврей-портной» и «Вечерний труд старика». Иткинд тут же узнал в этих стариках своих местечковых знакомых – точно такой же портной был у них в Сморгони, и точно так же другой старик, высунувшись в окно, щурился при вечернем свете, чтобы в лучах закатного солнца продеть нитку в иголку… Эта книга, которую он читал по слогам, поскольку она была издана на русском, не давала покоя Исааку. Оказалось, что знаменитый Антокольский, который потрясал публику такими мощными скульптурами, как «Иван Грозный», «Спиноза» и «Христос перед судом народа», этот Антокольский – тоже еврей, больше того, земляк Иткинда, из Вильно. Молодой раввин не находил себе места… А в это время в Сморгони завершалась очередная местечковая драма: местный богач Пиня, владелец скобяного магазина, выдал наконец замуж свою единственную дочь горбунью Броню.
– О, это была очень длинная история, – рассказывал Иткинд. – Никто не хотел жениться на Броне – такая была уродка. Она была меньше меня ростом и горбунья, вы можете себе представить? Пиня давал за нее очень большое приданое, но даже приказчики в магазине Пини, которые могли за грош продать черту душу, и те отказывались от Брони. Но был у нас в Сморгони грузчик Хацель. Богатырь, как говорят русские. Он поднимал два куля с мукой. Бревно в десять пудов взваливал на плечо и один тащил куда надо. Но – шлимазл. Вы знаете, что такое шлимазл? Дети кричали ему на улице: «Ханцель! Я тебе дам две копейки! Сделай коня!» И Ханцель, который зарабатывал в два раза больше других грузчиков, становился на четвереньки, дети залезали ему на спину, и он катал их по местечку, как конь. Не из-за денег. А потому, что никому не мог отказать. Он был больше чем добрый, он был шлимазл. И вот когда все местечковые женихи отказались от Брони, ее отец пришел к Ханцелю. И Ханцель не отказал Пине. И была свадьба. И молодые шли по местечку – огромный, два метра ростом, Ханцель и маленькая горбунья Броня. Я видел, как они шли по улице. Я не знал, смеяться мне или плакать. Я сидел и ни о чем не думал. Просто мял в руках глину и опомнился только тогда, когда на столе передо мной оказались фигурки этих молодых – Ханцеля и Брони. После этого я совсем потерял голову. Я бросил синагогу и уехал в Вильно. Я хотел учиться на скульптора, но нашел себе только работу ученика переплетчика. Через два года я вернулся домой, но наши хасиды уже считали меня почти гоем – ведь я бросил религию, я потерял Бога. Больше того, я лепил из глины людей, а это запрещено еврейской религией, никто не имеет права делать то, что делал Бог… Вы не устали?
