Церковная старина в современной России бесплатное чтение
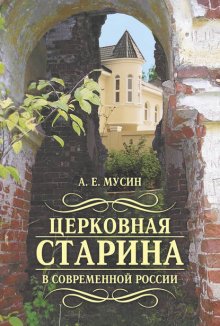
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Введение
«Эта история начиналась как благородный порыв, разворачивалась как классический детектив, оборачивалась пошлым фарсом и грозит завершиться национальной драмой, потому что это история о том, что общество, Церковь и государство способны сделать с российской культурой в угоду политической конъюнктуре, личным амбициям и ложно понятому религиозному возрождению. Сегодня живые свидетели происходящего готовы умолкнуть под тяжестью «административного ресурса», почитая «худой мир» паче «доброй ссоры». Настало время прислушаться к голосу камня…».
Такими словами начиналась книга «Вопиющие камни», увидевшая свет в 2006 г.[1] Эпиграфом к ней были взяты Евангельские слова: «И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: «Учитель! Запрети ученикам Твоим», но Он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19: 39–40). Со времени появления той книги прошло несколько лет. Некоторые политические деятели успели выказать свое отношение к лицам, «шакалящим» у «западных посольств» в надежде на «иностранные гранты». Это обстоятельство дает мне дополнительные основания вновь поблагодарить Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров за поддержку исследования, которое легло в основу первой книги, и за ее издание.
Как и в большинстве случаев со всеми прочими «иностранными грантами», полученными моими соотечественниками, вложенные в работу средства и ее результаты остались в России, так или иначе обогатив общественную жизнь и экономику моей страны. Изменили ли они что-либо к лучшему – не знаю. В Отечестве сменился Президент, а в Церкви – патриарх. Однако встающая с колен страна по-прежнему не обращает внимания на мелочи вроде памятников культуры, что хрустят под этими самыми коленями. Болезнь российского общества, описанная в книге «Вопиющие камни», приобрела хронический рецидивирующий характер. Более того, в обществе притупилась острота восприятия существующей ситуации как конфликтной: то, что раньше ощущалось как скандал, ныне становится нормой. «Приватизация» святынь и памятников, их «передача», превращаются в «сдачу» как остаток внутренней политики. Сегодня это вызывает протесты лишь единиц – даже среди тех, кто должен считаться культурной и интеллектуальной элитой России. Впрочем, и эти протесты начисто лишаются гражданского пафоса и приобретают форму корпоративной жалобы, рассчитанной на то, что распоряжающаяся культурой власть не забудет жалобщиков и учтет их интересы при дележке памятников. Коррупция в деле охраны культурного и археологического наследия охватывает все более широкие слои населения, не исключая и академические учреждения. Если в общественную жизнь возвратилась «эпоха застоя», то культурная апатия в обществе должна быть охарактеризована словами из православного молитвослова как «окамененное нечувствие». Камни по-прежнему вопиют, что и стало причиной повторного обращения к теме взаимоотношений общества, Государства и Церкви в деле сохранения и использования памятников религиозной культуры, а также предметом честного анализа, который, естественным образом дополняя и уточняя описанное ранее, составляет – с упором на современность – нерв настоящей книги.
Написав о наступившей эпохе «окамененного нечувствия», я к радости своей осознаю, что это вполне так. Вышла книга философа и богослова Владимира Мартынова «Пестрые прутья Иакова: Частный взгляд на картину всеобщего праздника жизни» (Москва, 2008), где с болью говорится о разрушаемой старой Москве, в том числе Москве церковной. На местах формируются инициативные группы людей, которым не безразлично, в какой стране они живут и что за история была у этой страны. 1 ноября 2006 г. было создано общественное движение за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город». Хорошо известны его акции против уничтожения исторической застройки центра Северной столицы и попыток строительства пресловутого «Охта-центр», уничтожающего не только «небесную линию» города, но и «подземный Петербург» – его археологические памятники, поскольку городские власти и федеральные органы охраны объектов культурного наследия разрешили возвести «газоскреб» на месте хорошо сохранившихся средневековых крепостей. 7 февраля 2009 г. в Москве на основе ряда общественных организаций сформировалось движение «Архнадзор». Целью движения является объединение людей доброй воли, направление их усилий на выявление исторических памятников и содействие постановке выявленных объектов под охрану государства, на борьбу против уничтожения памятников и историко-архитектурных ландшафтов Москвы, на общественный мониторинг охраны и использования памятников и популяризацию ценностей культурного наследия столицы. В Интернете и на бумаге публикуются мартирологи уничтоженных памятников и аналитические записки, где дается оценка происходящему и предлагаются пути преодоления негативных тенденций. MAPS уже дважды выпустило международный отчет «Московское архитектурное наследие: точка невозврата»: в 2007 и в 2009 г.[2], причем второй выпуск включает также разрушенные памятники Петербурга и специальный, пусть и небольшой раздел, посвященный церковной архитектуре.
Впрочем, в поле зрения этих движений, которые ставят перед собой достаточно широкие задачи (в первую очередь – сохранение уникального архитектурного облика исторических городов России), памятники церковной архитектуры попадают достаточно редко. В этой специфической области продолжают действовать Общественный комитет в защиту историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» и возникший 18 апреля 2007 г. Общественный комитет спасения Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Как бы то ни было, жизнь жительствует…
Называя свою первую книгу «Вопиющие камни», я писал, что образ камня в Библии многозначен. Действительно, он может быть прочным основанием, местом пророческого видения, орудием казни, лже-алтарем, на котором приносится «бесовская жертва». Камни могут кричать. Если раньше наиболее убедительным мне казался образ мученичества памятников, их страдания и свидетельства одновременно, то сегодня камни мало-помалу превращаются в место, где церковная старина в современной России приносится в жертву ложно понятым национальным интересам.
Предыстория спора о памятниках церковной старины, а, по сути дела, о российской памяти, связанная с трагическим опытом российской истории в XX столетии, казалось бы, не оставляет сомнений в единственно возможном решении этой проблемы. Необходимо вернуть святыни и собственность тем, у кого все это было отнято властью, открыто провозгласившей своей целью уничтожение религии и религиозного. Но кто сегодня эти «те»? Общинная и приходская жизнь, выросшая из многовековой русской традиции, ныне разрушена. Сегодня на место общин пришло руководство патриархии, епархиальная бюрократия, приходские и монастырские настоятели и их ближайшее окружение – «трудовые коллективы» религиозных организаций. На долю прихожан осталось лишь «удовлетворение религиозных потребностей». Ответственности за переданную им материальную и культурную ценность граждане России не несут. Они исключены из этой сферы теми, кому государство передает в пользование или в собственность культурные ценности – под видом имущества. Феномен отчуждения большинства населения от политической жизни, характерный для современной России, в полной мере находит свое отражение, а быть может оправдание и причину, в церковной жизни РПЦ.
Действительно, вопросы культурного правопреемства оказываются более запутанными, чем кажется на первый взгляд. Основной спор о наследстве идет не между «официальным» и «альтернативным Православием», не между конкретными религиозными организациями: приходами и монастырями, чья собственность на богослужебное имущество не подвергалась сомнению в Российской империи. Внешне спор идет в основном между отделенной от государства Русской Православной Церковью, чьи интересы зачастую поддерживаются государством, и государственными учреждениями культуры, судьба которых тому же государству подчас демонстративно безразлична. Правильному пониманию ситуации способствует осознание той роли, которую российская власть отводит Церкви и культуре, духовенству и интеллигенции в формировании «национальной идеи» и построении «суверенной демократии».
Первые лица московской патриархии и Российского государства постоянно повторяют, что в обществе нет конфликта между Церковью и культурой, а есть противостояние конкретных личностей справедливым требованиям Церкви. Обе стороны, вовлеченные в это противостояние, подробно описаны в соответствующих СМИ. Эти портреты, иногда верные, иногда карикатурные, прочно вошли в массовое сознание. Столь же неизменны и аргументы, привычно используемые противоборствующими сторонами в доказательство своей правоты, что порождает сомнения не только в правильности самих аргументов, но и в правильности определения конфликтующих сторон.
Традиционно считается, что одна сторона – это «церковники», преимущественно епископат и активисты московской патриархии, действующие именем Церкви и от имени «православных верующих» России. Последние, по мнению патриарха, составляют 80 % населения страны. Они требуют полномасштабной реституции некогда утраченных имущественных прав Русской Православной Церкви по состоянию на 1917 г. В этой ситуации памятники культуры играют «служебную роль». Они становятся наиболее востребованной частью церковной недвижимости или средством психологического давления на общество, поскольку пребывание икон и реликвий в музейных собраниях, а не в литургическом быту, именуется «оскорблением чувств верующих».
Одним из серьезных аргументов в пользу передачи культурных ценностей патриархии становится утверждение, что государство в лице учреждений культуры не может (в силу финансовых и организационных причин) достойно содержать памятники церковной старины. К тому же музейная практика, пропитанная антирелигиозными предрассудками, доставшимися ей в наследство от советского прошлого, не способна правильно показать и объяснить церковную культуру. Общественности также предлагается принять во внимание волю создателей и дарителей произведений христианского искусства, полагавших некогда, что их творения и собственность будут находиться в пользовании Церкви до скончания веков. На стороне требовательной иерархии – значительная часть прихожан, государственные чиновники различных уровней и ветвей власти, общественные деятели и бизнес-элита, спекулирующие на религиозной теме, и одновременно – почти полное равнодушие к проблеме со стороны российского общества.
По другую сторону баррикад – «музейщики» и представители творческой интеллигенции, связанные преимущественно со сферой культуры: искусствоведы, реставраторы, историки, краеведы, журналисты. Они поражены жесткостью выдвигаемых «церковниками» требований и жестокостью их исполнения. Эта группа выступает в интересах самих памятников истории и культуры, действуя на основе «цеховой солидарности», от имени общественности и со ссылками на современное законодательство. При этом считается, что восстановление справедливости по отношению к одним не должно сопровождаться нарушением ее по отношению к другим.
Противники передачи религиозным организациям культурных ценностей утверждают, что Церковь сегодня претендует на то, что позавчера ей не принадлежало. Православная Греко-российская Кафолическая Церковь как «ведомство православного исповедания» рассматривается ими в качестве государственной структуры. В этих условиях на место «церковной собственности», которую нужно возвращать, приходит «государственная собственность», которой учреждения культуры сегодня распоряжаются как общенародным достоянием. Опять же: московская патриархия не может рассматриваться как единственный правопреемник Синодальной Церкви. На ту же самую роль могут претендовать не только другие религиозные организации, именующие себя православными, но и «неверующая» часть современного общества. Эти люди, как законные наследники своих православных предков, обладают определенными правами на использование и восприятие памятников культуры в соответствии со своими светскими убеждениями. Все сказанное не предполагает обязательного возвращения религиозным организациям предметов культа, «переросших» свое литургическое значение и превратившихся в произведения искусства.
Деятели культуры указывают на отсутствие у патриархии должного опыта и средств для консервации и реставрации памятников, а также на низкий культурный и нравственный уровень духовенства, в руки которого попадают святыни. Передача памятников религиозным организациям не только несет в себе угрозу их сохранности и свертывает возможность ознакомления с ними широких слоев населения, но также препятствует их исследованию и изучению специалистами. Такое «хозяйствование» приводит к существенному искажению и даже разрушению объектов культурного наследия, переданных монастырям и приходам. Передача памятников Церкви зачастую происходит за счет расформирования и реорганизации музейных структур и коллекций, что ведет к утрате культурного потенциала России и разрушению системы охраны памятников, к личным и коллективным драмам сотрудников музеев. На стороне «музейщиков» – постоянно нарушаемое законодательство страны, действительные финансовые и организационные проблемы, связанные с содержанием памятников религиозными организациями, «группа поддержки» из числа чиновников Министерства культуры, определенные круги гуманитарной и технической интеллигенции, зачастую настроенные антирелигиозно или антиклерикально, и редкие выступления местных жителей, малочисленных общественных организаций и политических движений.
При этом и «музейщики» и «церковники» упрекают друг друга в корыстных интересах, проистекающих из бесконтрольного обладания памятниками и музейными коллекциями. Здесь и использование «денежных потоков» от туризма и экскурсий, и возможность получения бюджетного финансирования, и злоупотребление экспонатами из «желтого» и «белого» металлов, и самые банальные морально-материальные дивиденды, получаемые от эксплуатации «имиджевых» памятников, ассоциируемых с национальной историей России.
Такой подход к разворачивающемуся конфликту сводит все к противостоянию двух профессиональных групп, рассчитывающих каждая на свой лад эксплуатировать памятники культуры, и их «целевых аудиторий» – мирян и общественности. Высокие слова о сохранении культурных ценностей в этих условиях превращаются в дополнительные аргументы, направленные на защиту клановых интересов. Общество продолжает воспринимать происходящее как склоку между «церковниками» и «музейщиками», ведя статистику уже случившимся конфликтам и прогнозируя новые проблемы. Летом 2004 г. в газете «Коммерсантъ» был опубликован список 19 музеев-заповедников России, где противостояние существует, назревает или уже улажено различными способами. В декабре того же года «Газета. Ru» подсчитала, что в стране имеют место 144 конфликтные ситуации между религиозными организациями и пользователями церковной недвижимости.
Угроза потенциальных конфликтов напрямую связана с динамикой передачи религиозным организациям памятников старины, обусловленной религиозно-культурной политикой государства. Только за период 1988–1990 гг. приходам Русской церкви на всей территории бывшего Союза было передано почти 5000 храмов, причем за первые 9 месяцев 1990 г. – 1830, и 1179 из них нуждались в немедленной реставрации. К началу 2006 г. в пользовании у Русской церкви, согласно данным Росохранкультуры, находилось 5692 памятника. По данным премьер-министра РФ Владимира Путина, в 2005–2009 гг. РПЦ было передано дополнительно еще около 100 храмов и монастырей. Однако эта статистика касается лишь храмовых и монастырских зданий и не учитывает богослужебной утвари и икон, перемещаемых из музейных запасников в приходские ризницы.
Разница между количеством учтенных проблем и общим числом переданных памятников церковной старины не должна внушать неоправданного оптимизма. Ситуация в целом характеризуется как «отложенный конфликт», который еще не везде вышел наружу. К тому же статистика, ставшая известной широкой общественности, касается преимущественно самого процесса и эксцесса возвращения: именно этот этап всегда воспринимается наиболее болезненно и предполагает включение фактора общественного мнения, провоцируемого информационной войной. Судьба памятников, уже переданных патриархии, интересует общественность гораздо меньше.
В конечном итоге, степень информированности общества о конфликтных ситуациях зависит от организационных возможностей спорящих сторон и культурной значимости предмета спора. Конфликты вокруг рублевской «Троицы», Владимирской иконы Божией Матери, церкви Покрова Богородицы в Филях, Троице-Сергиевой Лавры, Рязанского кремля и Ипатьевского монастыря стали символами эпохи в силу международной известности этих памятников. Обществу остались неизвестны или безразличны драматические истории провинциальных музеев и судьбы сельских церквей, как это произошло с храмом св. архангела Михаила в с. Сижно Сланцевского района Ленинградской области, где в середине 1990-х гг. настоятель снес «ненужную» ему апсиду XVI в.
Конфликты за право владения исторической памятью заслонили гораздо более существенные проблемы, связанные с обликом и состоянием самих памятников. В итоге даже государство было вынуждено признать, что ситуация с охраной и реставрацией памятников старины, переданных государством религиозным организациям, оказывается неудовлетворительной. 21 февраля 2006 г., т. е. через 15 лет после начала массового возвращения памятников старины Русской церкви, на заседании Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации первым пунктом повестки дня был поднят вопрос «О проблемах сохранения объектов культурного наследия религиозного назначения». Именно сохранение исторического облика памятников культуры, возвращаемых архиереям и церковным общинам, или же, говоря языком закона, сбережение «исторических черт, подлежащих охране», оказалось в определенный момент главной головной болью Церкви. К числу проблем здесь относятся не случайные изменения, вызванные небрежением, отсутствием знаний и средств или реставрационной ошибкой, а сознательные искажения и разрушения, вызванные преднамеренным вторжением в памятник и целенаправленным изменением его облика.
Главной – но не единственной. Речь идет не только о сохранности, но и о доступности памятников старины для осмотра и изучения, которые теперь стали зависеть от недоброжелательного «фейс-контроля», или, попросту говоря, от «отношения к религии» в правовом и бытовом смысле этого термина. Стоящие на монастырских воротах и при храмовых дверях охранники и послушники сами решают (в состоянии вседозволенности и «административного восторга»!), кто достоин созерцать «красоту церковную», а кто – нет. Дарованное Христом Церкви право «вязать и решить» на этом примитивном уровне превращается в право «пущать и не пущать». Реставратор Алексей Клименко рассказал, как в январе 2009 г. хамоватый охранник не пустил его в Пафнутьево-Боровский монастырь в Калужской области, потребовав предварительно получить благословение настоятеля. 10 ноября 2008 г. председатель правительства РФ Владимир Путин безвозмездно передал этот монастырь, как и другие 5 объектов религиозного назначения в Калужской области, в собственность местной епархии…
Трудности ждут человека, пожелавшего посетить некрополь Донского монастыря в Москве. После пересечения врат церковных неподготовленного посетителя повсеместно ждут постоянные одергивания и поучения, навязывание собственного, зачастую примитивного и обскурантистского мнения, а иногда и просто откровенная недоброжелательность. При посещении вполне культурной общины храма Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, которую возглавляет интеллигентный протоиерей Константин Смирнов, приходящего встречает объявление, извещающее его, что храм – это дом молитвы, а «не место проведения светских экскурсий». Очевидно, предполагается, что человеку, не умеющему молиться, посетить храм, где отпевали А. С. Пушкина, уже непозволительно.
Вся эта «культура по благословению» не имеет ничего общего с надлежащей открытостью Церкви окружающему миру, с нашим правом на приобщение к нашему же прошлому. Многословные «Правила поведения» («туда нельзя!», «сюда нельзя!»), висящие на воротах некоторых храмов и монастырей, также не имеют ничего общего с традициями христианского гостеприимства, элементарной этикой или же предусмотренным законом соглашением о режиме посещения памятника культуры между пользователем и органами охраны объектов культурного наследия. Подобные инструкции – из репертуара ГУЛАГа, они направлены на создание комфортных условий для местного «трудового коллектива» (современной ВОХРы) и на унижение приходящей в храм личности, которую превращают таким образом в ЗК.
Из других «домов молитвы» неугодных персонажей просто выгоняют вон. В начале 2009 г. обществу стало известно, что из Оптиной пустыни толпа прихожанок выгнала паломника-африканца; до того аналогичной участи подверглись делегации из православных Греции и Сербии. Ну а если не выгонят, то попытаются получить мзду. Летом 2009 г. я получил откровение: за вход в Александро-Невскую лавру в Петербурге с иностранцев взимают деньги! Естественно, ни ценника, ни билетов не существует. Наметанный глаз охранника выхватывает из толпы очевидных чужеземцев, которым тут же сообщается: «У нас вход для иностранцев платный». На вопрос: «Что же вы делаете?», люди спокойно отвечают: «Исполняем благословение наместника лавры епископа Назария». По информации от петербургских экскурсоводов, подобная «традиция» существует в Никольском и Преображенском соборах, а также в других местах. Такого позора в Петербурге с его традиционным гостеприимством еще не бывало… Похоже, что доступ к культурным ценностям начинает зависеть не только от отношения к религии, но и от гражданства, что тянет уже на нарушение Конституции РФ. Впрочем, у лавры есть пример для подражания: существенная разница в ценах на билеты – для граждан РФ и иностранцев, введенная многими российскими музеями.
Сегодня уже очевидно, что сторонами конфликта являются властная элита в России (равно и церковная и государственная) и российское общество. Попытка свести этот конфликт к противоречиям между современной культурой, присущей российскому обществу, и традиционными ценностями, носителем которых якобы является РПЦ, поддерживаемая государством, оказывается бесперспективной. Подобный союз иерархии и бюрократии в противостоянии обществу имеет функциональную основу. Высшее духовенство по отношению к мирянам и верховная власть по отношению к обществу действуют совершенно одинаково: прихожане и граждане исключаются из активной церковной и политической жизни, превращаясь в объект управления, их мнение не учитывается при принятии решений. Уничтожение общинной и общественной жизни должно быть «поставлено в заслугу» современной российской гражданской и церковной истории. Попытки РПЦ организовать «внутреннюю миссию» в России с целью евангелизации общества обречены на провал, поскольку исходят из ложной посылки, что большинство населения является православным («по культуре» или «по крещению») и в силу этого автоматически принадлежит к Церкви, а значит – к нему применимы методы, характерные для внутренних отношений в религиозной общине. При этом общество и составляющие его люди рассматриваются исключительно как объект миссионерского воздействия, но отнюдь не как равноправные собеседники в честном диалоге, исключительно в рамках которого сегодня и возможен разговор о Евангелии и религиозных ценностях. Если общество потенциально (в интересах будущего России) заинтересовано в развитии своей гражданственности и налаживании диалога как с РПЦ, так и с чиновной бюрократией, то бюрократии и московской патриархии такой диалог не нужен вовсе, поскольку его результатом неминуемо станет подчинение государства гражданскому обществу и установление контроля общины за деятельностью духовенства всех уровней. К тому же руководство патриархии привыкло получать все необходимое – в виде имущества и привилегий непосредственно из рук власти, а не на основе общественного договора, ценность которого отрицается и в теории и на практике.
Происходит то, что справедливо было названо вариантом «олигархической приватизации». Характерно, что даже в официальных документах речь идет не о реституции, но о целевой приватизации памятников культуры религиозного назначения религиозными организациями. В результате государственная собственность оказывается в корпоративном, а по сути – в частном владении руководителей этих корпораций. Характерно, что сами они, не производя никаких материальных расходов на подобное приобретение, обязаны щедротам верховной власти лишь подчеркнутой лояльностью. В результате происходящей приватизации памятников культуры общество лишается возможности узнать о собственном прошлом, поскольку теряет право использования памятников прошлого и возможность их самостоятельной интерпретации.
В цивилизованном обществе смена собственника или пользователя памятника культуры никак не должна повлиять ни на его судьбу, ни на его место в общественной жизни: это вопрос технический. Однако особенности современного существования РПЦ в России и менталитет, присущий подавляющему большинству ее клира и мирян, заставляют решать в первую очередь именно этот технический вопрос.
В условиях отсутствия диалога между Церковью и обществом, пренебрежения общественным мнением, правовыми и научными нормами в обращении с памятниками культуры со стороны большей части приходских и монастырских настоятелей и епархиальных архиереев и неспособности и нежелании государства наладить эффективный контроль над деятельностью собственника или пользователя памятника, что в свою очередь порождает вседозволенность, ситуация с культурным наследием начинает приобретать драматический характер.
Вопросы собственности или пользования ею оказываются лишь служебным инструментом для решения стоящей перед обществом задачи сбережения исторической памяти. На деле за проблемой памятников стоит проблема культурной и церковной традиции, проблема восприятия исторического прошлого в соответствии с теми его следами и останками, что сохранились до нашего времени. По сути позиция, оправдывающая разрушение и изменение церковной старины тем, что у современной Церкви сегодня другие вкусы и потребности, ничем не лучше агрессивного подхода бизнес-элиты и местных властей, обосновывающих разрушение исторических городов тем, что этим городам «надо развиваться». А ведь именно останки старины, называемые значимым для Церкви словом «реликвии», гарантируют нам правильность понимания истории, тогда как стремление осовременить памятник, приспособить к низменным вкусам и потребностям сегодняшнего дня, как и желание контролировать доступ к памятнику и свободу его понимания, закрывает для нас эту возможность. История начинает восприниматься по аналогии с современностью. Человек не чувствует разницы между настоящим и прошедшим, теряет ощущение особенностей исторического христианства по сравнению с синодально-советским периодом в истории Церкви.
Это не надуманная проблема, свойственная лишь тонким ценителям старины и интеллектуальной элите. Это проблема массового восприятия и, если угодно, вопрос церковной традиции и Священного Предания. В контексте известной антиномии Писания и Предания здесь уместно вспомнить Евангельскую историю о «Слове Божием» и «предании человеческом». В ней Христос предупреждает христиан об относительности всех исторических наслоений в Церкви по отношению к изначальному Евангельскому учению (Мф. 15:6; 7:8—13). Для этого в Церкви и остается Священное Писание, с помощью которого всегда можно установить, насколько современные предания отклонились от «единожды переданной» веры. В отношении памятников культуры происходит своеобразный сдвиг: сохранившееся в материальных останках Предание и становится тем «мерилом праведным», которое позволяет нам оценить содержание и значение современных церковных практик с точки зрения истории Церкви. Культурное наследие здесь становится «писанием» камней и красок, позволяющим по достоинству оценить предания современных «человеков». Попытка подчинить старину современности сродни стремлению лишить Церковь важного навигационного инструмента в ее плавании по житейскому морю. Профессиональный термин «приспособление», относящийся к объектам культурного наследия, приобретает в жизни современной Церкви зловещее звучание, отражая приспособление Предания к прихотям и похотям века сего.
Однако назвать и описать проблемы – еще не значит объяснить их. Важно понять, почему Русская Церковь, некогда в лице своих мирян и духовенства создавшая памятники и святыни, сегодня оказывается не заинтересованной в том, чтобы их сохранить. Материал для этой книги я стал собирать с самого начала 1990-х гг. За это время подверглись трансформации не только частные оценки, но и видение ситуации в целом. Впрочем, менялись не только мои взгляды. Менялись российское общество и сама Русская Церковь. В начале XXI в. стало особенно ощутимо, что церковная атмосфера преобразилась почти до неузнаваемости. От вполне партнерских и равноправных отношений с общественностью, от уважительного отношения к человеку в Церкви руководство московской патриархии при очевидной поддержке государственной власти перешло к политике прямого давления на общество. Образно говоря, вместо того чтобы занять собственное и достойное место в обществе, патриархия сама попыталась расставить все по своим местам и всех поставить на место.
При всей текучести бытия один приоритет оставался неизменяемым в моем видении ситуации: главным действующим лицом этой истории были и остаются не люди, но памятники, делающие людей людьми. Показная забота о человеке и пренебрежение судьбой камней приводят к тому, что вслед за камнями начинают пренебрегать людьми. В этом смысле у камней и у книг похожая судьба: их уничтожение предшествует геноциду. Судьба памятников, формирующих человеческую память, волновала меня именно потому, что они поверяют нас на человечность.
В настоящей книге, основываясь на хронологическом и региональном подходах к материалу, с помощью системного и комплексного анализа проблемы я попытался дать объективный анализ происходящему в сфере русского культурного наследия, связанного с православной традицией, за последние 20 лет.
Исследование предполагало:
• выявление позитивных и негативных тенденций в области взаимоотношений общества, государства и учреждений культуры с религиозными организациями;
• определение конкретных причин вариантов развития, систематизацию типовых конфликтных ситуаций, возникающих в сфере использования культурного наследия между общественностью и учреждениями культуры, с одной стороны, и религиозными организациями – с другой;
• роль фактора личных отношений в этих конфликтах;
• поиск механизма разрешения возникающих конфликтов и средств его реализации.
Одним из приоритетов исследования было обобщение опыта совместной работы Императорской археологической комиссии, археологических обществ и церковно-археологических учреждений в деле охраны памятников церковной старины в период 1840–1917 гг. с целью его адаптации к современным условиям. В рамках исследования было важно выявить ту роль, которую общественность и общественные организации играли и играют в сбережении памятников церковной старины вчера и сегодня. Однако главной целью оставался не просто анализ причин локальных конфликтов и проблем. За этими частностями надлежало увидеть более глобальные процессы, связанные с политическим, общественным, культурным и религиозным развитием России и Российской Церкви. Именно преломление этих процессов в сфере культурной и исторической памяти Российского Православия и являются настоящими причинами происходящей драмы. Исследование разворачивается на двух уровнях – макроисторическом и микроисторическом. Описание и анализ событий общероссийского уровня здесь предшествуют изучению и оценке ситуации в конкретной «болевой точке» взаимоотношений Церкви и культуры.
Я надеюсь, что непредвзятое прочтение этой книги будет, в конечном счете, способствовать стабилизации общественных отношений, укреплению гражданского мира, созданию безопасных условий для культурного развития общества и формированию согласованного подхода различных социальных, профессиональных и религиозных групп к проблеме сохранения культурного наследия. Говоря об объективности результатов проделанной работы, я не отрицаю, что некоторые оценки в ней будут носить личный характер. Но, вслед за доктором церковной истории профессором Василием Васильевичем Болотовым (1854–1900), я не считаю, что субъективность в исторической науке – это плохо. Более того, я считаю, что один из парадоксов исторической науки заключается в том, что объективность понимания истории обуславливается субъективностью историка. Попытка лишить историю личных оценок всегда приводила лишь к ее обезличиванию.
Главной сложностью при написании книги стало не столько отсутствие предшествующей историографии, сколько практическая недоступность официальной информации текущих федеральных архивов и отсутствие государственной статистики утрат и конфликтов. Состояние делопроизводства в этой области оставляет желать лучшего. Известно, что во время «административной реформы» 2004 г. материалы Государственного реестра объектов культурного наследия РФ оказались попросту забыты в старом сейфе и не были своевременно перевезены в новое помещение Роскультуры.
В результате основными источниками для написания этой книги послужили:
• публикации официальных государственных, ведомственных и церковных документов, касающихся сохранения культурного наследия и взаимоотношений государства и общества с религиозными организациями в сфере охраны памятников культуры;
• материалы центральных и областных архивов, текущих архивов органов охраны памятников, учреждений науки и культуры, Федерального научно-методического совета и религиозных организаций;
• публикации в печатных средствах массовой информации и Интернете, раскрывающие хронику конфликтов и взаимоотношений, позиции и аргументацию сторон;
• архивы и издания дореволюционных археологических организаций и церковно-археологических учреждений;
• личный архив автора 1990–2009 гг., где представлены копии труднодоступных документов и записи бесед автора с представителями духовенства, приходскими активистами, чиновниками и специалистами в области реставрации и охраны памятников, музейщиками, непосредственными участниками описываемых событий.
Очень часто от музейного «генералитета» и связанной с патриархией интеллигенции можно услышать мнение, что все описанные проблемы есть не что иное, как «болезнь роста». Не надо требовать от религиозных организаций соблюдения научного подхода к реставрации и уважения к памятникам, не стоит публично обсуждать конфликтные ситуации, и через несколько лет все придет в норму само собой. Им вторят чиновники: не стоит драматизировать ситуацию, во всем виновата пресса. За обрисованной позицией скрывается убогая философия, порожденная равнодушием и беспомощностью, и рассчитанная на бесконфликтное существование. Мне не известны в российской истории серьезные проблемы, которые решались бы самостоятельно. Молчание обычно воспринимается как слабость и провоцирует новые требования и новую вседозволенность. Пока все будет «приходить в норму», само понятие нормы может раствориться в новоделах и исчезнуть в руинах.
Говоря о тех проблемах сбережения культурного наследия, которые порождает возвращение Русской Церкви ее памятников и святынь, мы всегда рискуем впасть в крайность. На их фоне ежедневный подвиг честных, добрых и умных священников и их паствы кажется незаметным. Есть в России приходы, где прихожане и настоятель искренне заботятся о своем храме как о воплощенном Священном Предании, устанавливают неконфликтные отношения и с органами охраны памятников, и с местными музейщиками. Существуют и духовные школы, где специалисты-реставраторы учат церковную молодежь такому обращению с памятниками старины, которое сочетает в себе канонические нормы и научные требования. Но мы сейчас говорим о Русской Церкви в целом, где ситуация определяется и простым большинством ее членов, и официальной политикой церковного руководства. Все достижения растворяются в таком явлении как «система». Считаю одинаково непозволительным для историка говорить как об отдельных недостатках церковной жизни на фоне благодушной лубочной картинки. Поэтому все будет рассказываться и осмысляться своим чередом.
Еще во время работы над первой книгой меня поразила одна вещь. Люди, с которыми мне пришлось беседовать, просили не упоминать их имен, не публиковать подробностей. Но пока мы не научимся говорить о своих проблемах открыто, проблемы будут сильнее нас. Увиденная мною атмосфера страха перед правдой и перед Церковью стала еще одним поводом для написания работы. Я не могу назвать всех, кто помог мне в работе над этой книгой, поэтому просто благодарю всех, кто это делал…
В массовом сознании спор между церковью и культурой разворачивается в таких понятиях, как владение, пользование и распоряжение. Современная полемика о церковной собственности демонстрирует один очевидный парадокс. Утверждение, что у ведомства православного исповедания не могло быть «своей» собственности, исходит из той же интеллектуальной среды, которая еще недавно убедительно доказывала, что Православная Церковь в истории России была крупнейшим коллективным феодалом и капиталистом. Этот парадокс продиктован психологической подменой понятий: отрицается не столько наличие собственности у института Церкви, сколько сегодняшние права на эту собственность. Поклонение «идолу происхождения» совершенно не гарантирует понимание сущности современного явления. Но все же стоит обратиться к истории церковной собственности…
Глава I
Анамнезис: история болезни
В истории церковной собственности существует ряд тонкостей, недооцененных как сторонниками, так и противниками передачи Церкви ее бывшего имущества. Проблемы имущественного права не были в истории Российской Греко-Кафолической Церкви и Российского государства столь злободневны, чтобы получить четкое каноническое решение. Необходимо учесть и то, что церковное право слагалось в отсутствие такого фундаментального понятия современной общественной и юридической жизни, как «памятник культуры». Византийская Церковь так и не создала, в отличие от западного христианства, систематического свода канонического права с тематическими разделами и согласованием противоречивых норм, возникших в разное время в разных условиях. Особенности многочисленных переводов с греческого на славянский и появление новых канонов в меняющейся культурно-исторической среде делали необходимым их толкование применительно к изменившимся условиям. Этим активно занимались византийские церковные юристы XI–XIV вв., но совсем не интересовались древнерусские. В результате уже с эпохи Нового времени многие правила стали пониматься в разительном противоречии с их изначальным смыслом.
За это время принципиально изменились как представление общества о Церкви, так и сам церковный строй, за которым скрывается представление Церкви о себе самой. Под Церковью стали понимать «профессиональных верующих» – архиереев, духовенство, монашество, церковную бюрократию, тогда как Церковь всегда была общиной, зачастую совпадающей с обществом. Эта общинность, основанная на балансе интересов епископата, клира и мирян, и была единственно возможным выразителем мнения всей Церкви в том, что касалось вопросов пользования и распоряжения церковной собственностью. Баланс церковных интересов в истории достигался сложной системой «сдержек и противовесов». Они не гарантировали избавление от внутрицерковных проблем, но предполагали их скорое и правое решение. Подчиненность общины епископу не превращалась в жесткое администрирование сверху, поскольку подотчетность епископа общине исключала возможность самоуправства, противопоставляя ему ответственное самоуправление.
В истории древней Церкви связь между самой общиной и епископатом была более тесной и непосредственной, чем в начале III тысячелетия, что превращало Церковь в «интерактивную систему». Архиерейские соборы, которыми и были все Вселенские и Поместные соборы древности, становились выразителями мнения всей Церкви, прежде всего в силу выборности епископата и органичности связи его представителей с общинами. В XX в. участие духовенства и мирян в Соборе стало необходимым для полноты такого выражения в условиях создания «командно-административной системы» управления Поместной Церковью и всевластия синодальной бюрократии.
Немного истории. В 286 г. император Диоклетиан проводит административную реформу Империи, разделяя ее на четко определенные провинции, диоцезы и префектуры. Епископский округ, парикия, простиравшийся на территорию полиса и его округи – хоры и состоявший из многих общин, являлся епархией в современном значении этого термина. Парикии на территории гражданской провинции входили в митрополию, епископ главного города которой именовался митрополитом. Более высокой формой церковного объединения были патриархаты, соответствующие в гражданском отношении диоцезам и префектурам и включавшие в себя несколько митрополий. Все это обуславливает появление к началу IV в. особой формы церковной жизни, содержанием которой был соборный строй в границах митрополии. Его основой было избрание епископа конкретного города клиром и мирянами и проверка обоснованности этого избрания епископами соседних городов. Главной задачей присутствия соседних епископов при избрании было определение достоинств кандидата. Василий Болотов писал по этому поводу: «Если собор узнавал, что обойден достойнейший, то допрашивал, почему так. Приходилось указывать не свои пожелания, а действительные причины. Выборы находились под строгим контролем: этот контроль должен был сдерживать дрянненькие инстинкты человеческой натуры». По сути, избрание архиерея в древней Церкви происходило по принципу двухпалатного парламента. Нижняя палата, представленная народом и клиром, выдвигала кандидатуру, а собор областных епископов мог либо принять ее, либо наложить вето.
Начиная с V в. права церковного народа в этом избрании постепенно ограничивались. При императоре Юстиниане (527–565) право народа в области избрания епископата было ликвидировано. Новелла 123 этого императора предоставляет клиру и почетным гражданам право предлагать митрополиту области на выбор трех кандидатов в епископы. Впоследствии VII Вселенский собор (787) 3-м правилом устранил из порядка избрания архиерея как представителей власти, так и церковный народ: избрание епископов – дело самих епископов. Этот акт, направленный против злоупотреблений при избрании архиерея, вместе с тем закрепил практику отчуждения епископа от жизни общины. Церковная община получала пастыря, о котором не знала ровным счетом ничего. Кризис отношений епископа и общины совпал с кризисом соборного строя в целом. Известно, что митрополит избирался на соборе епископами всей митрополии. Он играл роль апелляционного судьи, и ему можно было подать жалобу на действия своего епископа. При этом входящие в митрополию епископы не являлись викариями митрополита, то есть подчиненными ему помощниками, а были самостоятельными архиереями, подотчетными митрополиту и собору лишь в ограниченном ряде вопросов. Этот провинциальный собор, по сути, контролировал митрополита, и поэтому глава митрополии не был заинтересован в его регулярном созыве. Епископы тоже чувствовали ограничение собственной власти соборным строем, поскольку обязаны были согласовывать свои действия с собратьями по епископату. Они начинали более тяготеть к патриарху, чем к своему митрополиту, и по чисто финансовым причинам: лучше платить «десятину» и делать приношения одному, чем двоим или троим.
Концентрация власти в руках епископата и отстранение клира и мирян от участия в его формировании не могли не сказаться на внутренней жизни Церкви: духовная жизнь клира во многом свелась к требоисправлению, а участью мирян стала благочестивая личная жизнь. Потерялось ощущение персональной ответственности за судьбы Церкви, и это не могло не сказаться на положении Церкви в обществе и на отношении к ней общества в целом. Наступила эпоха апатии и отчуждения, когда люди Церкви стали «ленивы и нелюбопытны». Именно с изменившимся пониманием Церкви и связано то непонимание содержания церковной собственности, которое присуще современному обществу. Сегодня сторонники реституции церковного имущества предлагают видеть в нем исключительно жертву, возникшую в результате добровольного отчуждения частной собственности в пользу Церкви ради получения нематериальных благ[3]. В этом качестве собственность Церкви находится вне привычных экономических и социальных отношений как принадлежащая Богу (теория «наивного богохульства») и бедным (теория «неприкрытого ханжества»). При этом предполагается, что собственность принадлежит всей Церкви вообще в лице Русской Православной церкви, а непосредственным распорядителем этого имущества является ее руководство – московская патриархия или епархиальное управление.
Характерно, что на протяжении 1988–2009 г. эволюция нормотворчества в московской патриархии совершалась именно в этом направлении. 10 октября 2009 г. выработанная за 20 лет идеология собственности получила окончательную кодификацию в новой редакции типового устава прихода РПЦ, один из пунктов которого окончательно лишает приходскую общину права распоряжения своим имуществом при сохранении номинальной ответственности за него.
Единственное, что позволяется приходу, – совершение имущественных сделок в пользу «религиозной организации «Русская Православная Церковь» или «религиозной организации «Московская Патриархия Русской Православной Церкви», да и то лишь на основании указа епархиального архиерея или распоряжения Священного Синода. Новый устав не только ставит общину в полную зависимость от местного епископа, поскольку полнота властных полномочий в сфере управления приходом теперь принадлежит правящему архиерею (а не приходскому собранию), но и лишает смысла сам процесс возвращения имущества и культурных ценностей религиозным организациям, поскольку, как мы увидим ниже, в церковном праве существование собственности вне общины немыслимо. Создаваемая веками в Православной Церкви «система сдержек и противовесов», направленных на обуздание «человеческого фактора», о котором так любит упоминать патриарх Кирилл (Гундяев), ныне полностью разрушена во имя торжества этого фактора в лице епископской вседозволенности. Подобное разрушение не может быть оправдано страхом патриархии перед «мутной стихией народного православия» с его антисоциальными стереотипами, суевериями и внутренней агрессивностью. Иерархия на то и существует, дабы сдерживать «дионисийское начало».
Нельзя не заметить, что существующая в отношении церковной собственности теория пожертвования стремится объяснить лишь правомочность претензий современных религиозных институтов на экспроприированное после октябрьского переворота церковное имущество. Она не учитывает ни сложности качественного состава церковной собственности, ни ее многоцелевого характера, ни фактора непосредственного правопреемства, ни роли и ответственности конкретных христиан, общин и институтов, связанных с пользованием и распоряжением этой собственностью. С одной стороны, такое мнение представляется удивительной примитивизацией идеи новозаветной жертвы по ветхозаветному образцу, где пожертвованное попадало в полное распоряжение храмового священства. С другой стороны, присущие этой теории представления о церковном имуществе как об «общецерковной собственности» переносят нас из области восточно-христианской традиции в сферу права Римско-католической церкви эпохи Средневековья.
Традиционно в христианском богословии жертва рассматривалась не как отчуждение, а как посвящение собственности Богу, что предполагало личную и корпоративную ответственность за ее правильное и целесообразное использование. На этой ответственности в Византии и на Руси было построено пусть не до конца сформулированное, но все же вполне определенное ктиторское право со всеми особенностями его наследования [4] Это право представляло собой скорее ряд обязательств, предусматривающих выход ктитории из состояния абсолютного права частной собственности [5]. Естественно, что права жертвователей и общины многократно оспаривались клиром в истории. Однако смысл и судьба церковной собственности могут быть поняты исключительно на основе соединения учения о целевом характере церковного имущества и его общинной принадлежности.
В наиболее полном виде представление о церковной собственности как о целевом имуществе было сформулировано епископом Никодимом (Милошем). Это имущество всегда было связано с осуществлением разнообразных и широко понимаемых интересов Церкви [6]. Такое понимание требует коллегиально-соборного решения при распоряжении имуществом, обременяет его определенными ограничениями-сервитутами, допускает отчуждение вещных прав и не предполагает абсолютизации права собственности, связанного с «властью исключительно и независимо от посторонних лиц владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно». Следовательно, мы вправе заключить, что характер надлежащего распоряжения церковным имуществом определяется и контролируется самим церковным народом в соответствии с исторически понимаемой пользой Церкви. Вследствие этого нельзя настаивать на единообразном и неизменном характере употребления церковного имущества, в том числе и предметов литургического характера, во все времена существования христианства. Каждая эпоха ставит перед Церковью новые задачи, а Церковь предлагает новые формы имущественного служения…
В подтверждение наших положений обратимся к истории формирования церковной собственности в Византии и на Руси, отметив при этом как факт изначальности существования церковного имущества, так и особенности его формирования[7]. Очевидно, возникновение христианских общин в Империи в ряде случаев должно было приводить к образованию общего, «кафолического», собственно церковного имущества. Владение общинным имуществом слагалось на основе коллегиального права и представляло собой корпоративную собственность, разновидностью которой была собственность епархиальная.
Поскольку евхаристический культ ранней Церкви имел семейно-париархальный характер, формирование имущества происходило прежде всего на основе domus ecclesiae. Из них и возник такой феномен христианской жизни, как известная по источникам «kafoliki ekklesia» – «соборная церковь», или общинный храм, окончательно легализовавшийся после 313 г. Однако это не означало совершенного исчезновения домашних церквей с присущей им спецификой. Знатные патрицианские фамилии, принимавшие христианство, становились патронами общин, которые первоначально формировались за счет их социального окружения, и фактическими распорядителями общинного имущества с учетом его целевого посвящения. Рядом с кафолическими церквами в Империи возникали propriae ecclesiae. Расцвет этого феномена в целом приходился на Средние века, когда вследствие «варваризации» церковного права «церковь в частном владении» стала одним из значимых явлений христианской жизни. Исторические данные позволяют предполагать, что появление частных церквей было продиктовано отнюдь не соображениями престижа и тщеславия, как можно было бы подумать по аналогии с усадебными, ведомственными и дворцовыми храмами в России синодальной эпохи. В ряде случаев это была единственно возможная форма организации и существования Церкви в эпоху поздней античности и Средних веков в условиях христианизации традиционных обществ.
В дальнейшем судьба церковной собственности во многом зависела от соотношения в истории трех вышеперечисленных факторов – частного, общинного и епископского права в сфере церковного имущества. Преемниками в области ктиторского права могли быть не только органы епархиального управления, но и конкретные общины и гражданские институты. Это хорошо видно на примере развития катакомб в Риме – кладбищ раннехристианской общины I–V вв. В ряде случаев они складывались вокруг родовых кладбищ патрицианских родов. На протяжении II–III вв. эта изначальная связь распалась. «Бремя содержания» общинных кладбищ начало постепенно переходить к городскому епископу, что закончилось реформой папы Зеферина (197–217) и созданием коллегии фоссоров.
И общинное и институциональное имущество формировалось путем покупки, дарения (donatio) или по завещанию. Однако право получения наследства для христианской общины было подтверждено лишь в 321 г.: римское право не предполагало абстрактных наследников в виде «всей Церкви». Характерно, что имущество, полученное Церковью, могло быть возвращено владельцу или его наследникам, если таковые объявлялись, как поступали епископы Аврелий Карфагенский и Августин Иппонский. К тому же имущество, обращаемое в церковную собственность по дарению или завещанию, не освобождалось от куриальных обязательств перед городом и государством, которые нес его бывший владелец. Это заставило блаженного Августина отказаться от завещания некоего гражданина, обязанного поставлять хлеб из Африки в Рим: возложение на местную епархию такой обязанности было бы для нее непосильно. К тому же церковные имущества не были свободны как от исключительных поборов – muners extraordinaria и исполнения «почетных гражданских обязанностей», связанных с постройками общественных зданий и прокладкой дорог, так и от земельного налога – tributum. Итак, церковное право собственности не было абсолютным, оно было служебным и ограниченным, тесно зависящим от воли общины, интересов государственной власти и потребностей общественной жизни. Общество сохраняло способы контроля над своими пожертвованиями, которые отнюдь не поступали в безраздельное распоряжение клира.
Нормы канонического права, касающиеся церковного имущества и зафиксированные в деяниях Вселенских и местных соборов, также заслуживают бережного к себе отношения и не предусматривают буквального понимания. При их анализе становится очевидно, что они касаются прежде всего собственности «епархиальных управлений», которой непосредственно и управлял епископ, а не общинных кафоликонов и домашних церквей. Халкидонский собор (451) своим 26-м правилом запрещает епископу единоличное распоряжение имуществом и требует назначения эконома, «дабы домостроительство церковное не без свидетелей было, а имущество бы не расточалось». Этим, естественно, опровергаются расхожие толкования 38-го и 41-го апостольских правил (середина IV в.), настаивающие на исключительном и безотчетном распоряжении епископа «церковными вещами». Более того, 11-е правило VII Вселенского собора предполагает введение «внешнего управления» в епархиальной экономике, если местный епископ отказывается назначить сюда независимого эконома. 24-е правило Антиохийского собора (341) также предполагает соборное заведование епархиальным имуществом, которое было бы прозрачно для клира.
2-е правило свт. Кирилла Александрийского († 444), которое якобы утверждает, что от епископа «нельзя требовать отчета в расходе церковных доходов и приношений», оказывается приложимым лишь к личным епископским доходам. При этом 41-е апостольское правило касается лишь права епископа распоряжаться приношениями мирян на содержание духовенства, которые должны быть честно распределены между клириками. Речь не идет о распоряжении имуществами общин.
Отчуждение церковной собственности допускается не только 38-м апостольским правилом, которое запрещает лишь имущественные злоупотребления, но и рядом других канонов. 12-е правило VII Вселенского собора, включая в себя 26-е правило Карфагенского собора (419), не столько запрещает отчуждение епархиальных и монастырских земель, объявляя такие сделки юридически ничтожными, сколько предполагает сохранение за Церковью права владения ими при передаче третьим лицам прав пользования и распоряжения. Такая передача может быть осуществлена в случае неэффективности собственно церковного хозяйствования на этих землях. 26-е и 33-е правила Карфагенского собора предписывают производить отчуждение собственности после обсуждения этого вопроса на окружном соборе или экстраординарном совещании клириков. Именно об этом говорит 15-е правило Анкирского собора (314), объявляющее недействительными все сделки с церковным имуществом, сделанные пресвитером в отсутствие своего епископа. Речь, естественно, идет о кафедральном храме – kiriakon.
24-е правило IV Вселенского собора и 49-й канон V–VI, или Трулльского, собора (692) запрещают отчуждение монастырского недвижимого имущества и превращение его в «мирские жилища». Но этот запрет носит условный характер. Сохраняя право владения, Церковь может найти этому имуществу иного пользователя в соответствии со своими интересами. Толкования на эти правила допускают, что существование в монастырском ансамбле музея-заповедника, как это сложилось в современной России, при соблюдении ряда условий, может восприниматься церковным сознанием как абсолютно нормальное [8].
Монастырское имущество становится предметом определения 1-го и 7-го правил «Двукратного» собора в Константинополе (861), при этом особенно оговаривается сфера действенности ктиторского права. Создание таких частных монастырей, как и отчуждение принадлежавшего им имущества, допускается лишь с воли епископа. Само имущество, движимое и недвижимое, должно вноситься в книгу (brebio enkatanrafeste), которой надлежит храниться в епархиальном архиве. Канон не уничтожает совершенно воли ктитора в распоряжении церковным имуществом, что подтверждается и толкованием этого правила Феодором Вальсомоном (XII в.), но предупреждает ктиторское своеволие епископским авторитетом. В этих правилах прослеживаются начатки системы контроля над церковным имуществам путем его фиксации в инвентарной описи.
Нельзя не заметить, что большинство норм относится к вопросам церковной недвижимости, однако богослужебное имущество Церкви подчиняется тем же правилам. 73-е апостольское правило, воскрешая в памяти Валтасаров пир, запрещает частное употребление в быту освященных сосудов, однако не исключает отчуждение их в церковных благотворительных целях. Развитие этой нормы в 10-м правиле «Двукратного» собора также запрещает лишь использование литургических предметов в домашнем быту (eis oikeian xrisin), а не возможное употребление их к пользе Церкви, «освященное» общественными, но не обязательно богослужебными целями. Точно так же запрещение иподиаконам касаться литургических сосудов, произнесенное 21-м правилом Лаодикийского собора, касается лишь времени совершения евхаристии и предшествующих священнодействий, а не является запретом абсолютного характера. В этом же ключе должно пониматься и запрещение мирянам входить в алтарь – исторически оно распространялось лишь на принесение даров протесиса-проскомидии непосредственно к алтарю, но со временем в общественном сознании получило абсолютное значение.
Итак, единственное условие при распоряжении церковным имуществом – это его общественное служение, одобренное волей церковной общины, исходящей из осознания интересов христианской миссии, и авторизованное епископом. Естественно, что составленные в эпоху поздней античности и раннего Средневековья правила не предполагали существования в составе церковного имущества «объектов культурного наследия». Однако святоотеческое приложение канонических норм к современной ситуации в полной мере допускает возможность того, что общинные права пользования и распоряжения памятниками культуры, в том числе и богослужебного характера, могут быть ограничены. При этом может претерпеть эволюцию и функциональное использование богослужебных предметов – они могут быть изъяты из литургической практики в связи с общественной потребностью, «освящающей» их новое употребление уже в качестве музейного экспоната. В конце концов, сохранение культурного наследия служит к пользе Церкви. В то же время каждодневная и суетная эксплуатация реликвии под предлогом «удовлетворения религиозных потребностей» в целях обеспечения рентабельности «приходской экономики», ведущая к искажению и разрушению материального тела святыни, служит Церкви лишь во вред.
Хранение и экспонирование памятников церковной старины в государственных музеях оказывается формой христианского свидетельства, проповеди и популяризации церковной культуры. Единственно, что для этого нужно, – осознанный церковный выбор и партнерские отношения с обществом и государством, связанные с отсутствием принуждения по отношению к Церкви. В этих условиях формируется новое восприятие секуляризации, согласно которому она не приносит вреда церковной миссии, если ее последствия, пусть и вторичные по своему характеру, позитивны в широком смысле[9].
Такой подход сродни разделению «гробокопательства» на «простительное» и «непростительное», которое содержится в 7-м правиле свт. Григория Нисского и, по сути, в 10-м правиле свт. Василия Великого и в 43-м правиле патриарха Иоанна Постника. Раскапывающие могилы «для хищения», т. е. с целью личного обогащения, однозначно подпадают под осуждение. Однако тот, кто использует могильные камни «на нечто лучшее и общеполезнейшее», прощается. Как и в истории с «объектами культурного наследия», эти каноны не предполагают существования такой академической науки, как археология. Но их современное толкование однозначно оправдывает археолога, занимающегося изучением погребального обряда для «лучшего» понимания истории в «общеполезнейших» целях, и осуждает «черных археологов», работающих на рынок. Главное – цель и разборчивость в средствах ее достижения.
Ситуация, подобная той, что мы только что наблюдали в Византии, была характерна и для Древней Руси. Соборный строй здесь не прижился с самого начала. Однако это не исключало, а как раз предполагало активную роль как общинного, так и вотчинного права в церковной жизни, избрании духовенства и распоряжении церковным имуществом в X–XVIII вв. Существование вотчинных церквей хорошо прослеживается и на Руси. Летописи и акты X–XIV вв. упоминают представителей духовенства, более связанного с сильными мира сего – древнерусским княжьем и боярством, чем со своим епископом. Пресвитер упоминается при княгине Ольге в 957 г., «свой презвутер» был у князя Бориса в 1015 г., в белозерском походе Яна Вышатича в 1071 г. сопровождает «попин Янев», убитый волхвами. Совершенно уникально сообщение Новгородской летописи под 1136 г. о венчании князя Святослава Ольговича в Новгороде «своими попы», поскольку архиепископ Нифонт запретил городскому духовенству венчать князя.
Немаловажно, что «Русская правда», древнейший правовой памятник эпохи христианской Руси 1015–1030 гг., не знает ни духовенства, ни монашества как отдельных независимых групп населения. На них распространялись те же юридические нормы, которыми характеризовалась деятельность древнерусских «мужей», если, конечно, они не принадлежали к социально зависимым категориям населения. Лишь со временем, в XII в., в результате усилий церковной иерархии и княжеской власти, появилось «Правило о церковных людях», выводившее древнерусский клир за рамки существующей схемы социальных отношений [10].
В связи с этими социально-политическими особенностями структуры древнерусского общества строилась и внутренняя структура Церкви на Руси. Это не была приходская система в современном смысле этого слова. Впервые термин «приход» был упомянут в письменных источниках лишь в 1485 г. [11] Тогда рязанский князь Иван Васильевич создал в Переславле новый храм в честь свт. Иоанна Златоуста и «назначил» к нему прихожан по профессионально-территориальному признаку: это были слободы «сребреников» и «пищальников», которые и составили новообразованную церковную единицу, названную «приход». Источники XVI в., в том числе писцовые книги по Новгороду Великому, хорошо демонстрируют, как планомерно и сознательно создавалась приходская система в городах Московской Руси взамен исторически сложившихся церковно-общественных отношений.
Здесь действовал хорошо отработанный имперский принцип «разделяй и властвуй»: к старинным церквам назначались новые прихожане, а духовенство, ранее проживавшее бок о бок со своими пасомыми, целенаправленно сселялось на городские дворы возле храмов; так создавались ставшие впоследствии привычными прицерковные слободки. Клир окончательно оформлялся в одно из сословий царства Московского, параллельно тому, как его граждане превращались в подданных. Однако окончательное становление приходской системы как явления социального конформизма может быть отнесено только к XVII в.
Рядовой же церковный союз в древнерусскую эпоху совпадал с существующими подразделениями социально-политической организации общества. Прежде всего они были представлены княжеским двором и его дружиной, городской сотней, боярской вотчиной и сельской общиной. В источниках сохранились названия изначальных форм низовой церковной организации в Древней Руси. Так, в Уставе князя Ярослава Мудрого о митрополичьих судах XII–XIV вв. говорится, что каждый иерей должен выполнять свою миссию в рамках округа, называемого в разных редакциях «предел – переезд – уезд» [12]. Однако это название – перевод-калька с греческого языка, аналог византийской практики, уже предусматривающей строгое деление на церковные округа по территориальному, а не по социальному признаку. Одновременно с церковным «уездом» памятники Средневековья упоминают и «покаяльную семью» XII–XV вв., сформировавшуюся вокруг священника и не зависящую от территориальных границ [13]. Одна из бед сегодняшней церковной общины – это отсутствие историзма в восприятии христианской жизни, попытка не только навязать христианам прошлого собственные представления, комплексы и суеверия, но и возродить на этой зыбкой и субъективной основе, выдаваемой за Священное Предание, церковную традицию.
На основе вотчинного и общинного права в Древней Руси формировалась и церковная собственность [14] Исследования П. В. Знаменского, М. М. Богословского, А. А. Папкова и других показали, что христианская и сельская община являлись тождественными организациями, а духовенство рассматривалось крестьянами как «земские выборные люди» [15]. Соотношение прав епископа, клира и общины выражалось в договорной форме. Община в лице старосты заключала «порядную запись» со священником на совершение богослужений и пастырское окормление, а такие вещи, как строительство новой церкви в XVII в., происходили по челобитью общины на имя архиерея на основе епископской благословенной грамоты. Особой формой землевладения было землевладение монастырское как общинная собственность, возникшая преимущественно на основе дарений [16]. Формулы дарения предполагали, что вклад XV в. делался в собственность конкретной корпорации – «дома-ойкоса» – «в дом святого Спаса, в дом святой Богородицы, в дом святого Николы». При этом особо оговаривался состав этого дома: «игумену и всей братии, и хто по нем будет игуменом». Иногда подчеркивалось, что земля дается в «общину» или «общежительство». Собственность передавалась «во веки» или «в одерень» – термин, связанный с клятвой на дерне и также предполагавший вечное владение. Позднее понятие «дома» перемещается в конец формулы: «святому Спасу, игумену и чернецам в дом», что создавало неверное впечатление передачи собственности непосредственно Богу.
Сохранившиеся акты касаются не только земельных угодий. Уникальна грамота архиепископа Новгородского Феофила 1473 г., доказывающая, что на храмы в Древней Руси распространялись те же правовые нормы, как и на любую другую недвижимость. Судя по всему, владыка «вложил» в Никольский Вяжищский монастырь церковь свт. Николая в Шуньге, предварительно выкупив храм у одного из новгородских бояр. Важно отметить, что секуляризация, т. е. отчуждение церковного имущества в общественно полезных целях, была известна и в Древней Руси. Так, в 1391 г. новгородцы взяли 5000 серебра «с полатей святой Софии, скопления владычня Алексеева», и на эти деньги построили «костры» – оборонительные башни Окольного земляного города [17]. Таким образом, все недвижимое, движимое и богослужебное имущество Церкви передавалось в собственность общине или институции, а право пользования и распоряжения – конкретным лицам, представляющим эту общину «здесь и сейчас».
В XVII в. параллельно с централизацией государственного управления происходит и централизация управления церковной собственностью, замыкающаяся на личность царя и великого князя. Это было связано как с неоправданно значимой ролью, каковой русский православный менталитет наградил личность монарха в жизни Церкви, так и с унаследованием царем ктиторских прав многочисленных Рюриковичей и репрессированных бояр. В особенной степени это касалось иконного убранства и литургических предметов, дефицит которых в разоренных Смутным временем храмах ощущался особенно остро. Из «стоящих без пения», «запустелых» и «бесприходных» церквей целые ризницы и иконостасы в 1620-е гг. передавались более счастливым соседям во «временное хранение». В 1625 г. в Александро-Свирский монастырь по царскому указу игуменом Феодоритом были перевезены 38 икон из пустующих храмов Новгорода, в частности образа из кремлевской церкви свв. Иоакима и Анны, хранившиеся в Софийском соборе. Особенно подчеркивался временный и ответственный характер их выдачи: «а как тех образов государь спросит и… игумену Феодориту с братией или хто в монастыре иный игумен и братья будут… те образы отдать, где им государь велит» [18]. В 1643 г. царская грамота требует «сыскать» все богослужебное имущество, розданное из Иверского монастыря по другим обителям. В 1697 г. по указу митрополита Новгородского Евфимия иконостас из Никольской церкви в Неревском конце Новгорода был передан в храм св. Ильи Пророка на Славне «с роспиской».
Точно так же решалась судьба не только богослужебного имущества общины, но и всей недвижимости в целом. Спасский монастырь в Старой Руссе царской грамотой от 3 декабря 1655 г. был приписан к Иверскому монастырю «со всяким строением, с вотчинами и с всякими угодьями». Судя по всему, такое вынужденное объединение монашеских общин предполагало не столько изменение права собственности, сколько передачу этой собственности в «оперативное управление». Иверскому игумену было велено, дабы он «сыскал прежние отписные книги, что к тому монастырю изстари по нашим жалованным грамотам и писцовым книгам было». Имущество одного монастыря не растворялось в собственности другого. Совершенно очевидно, что факт пожертвования этих предметов на церковные нужды не должен отодвигать на второй план вопрос о праве собственности на них. Это допускало возможность отчуждения, трансформации и даже уничтожения церковной недвижимости, что доказывается практикой, предполагавшей снос обветшалых церквей и переплавку литургического имущества на государственные нужды.
Вынужденный снос и разборку храмов предполагало еще право эпохи императора Юстиниана Великого, хотя первый казус такого рода связывается агиографической письменностью с патриархом Каллиником († 705), от которого император Юстиниан II (685–695) потребовал благословить разборку Влахернского храма в Константинополе, мешавшего строительству нового дворца. Изначально патриарх отказывался, однако, в конце концов воскликнул: «Слава Тебе, Христе, терпящему всяческая!». Согласно тексту, стены храма пали сами собой. В России стены как падали от ветхости, так и разрушались сознательно. Окраины Смоленска уже в XIII в. украшали руины княжеских храмов, построенных менее чем за 100 лет до этого.
Опричнина и Смутное время также оставили следы храмовых запустений и разрушений. В 1698 г. опись Новгородского Вяжищского монастыря упоминает находившуюся в монастырском ведении каменную церковь свт. Николая на Яковлеве улице в Новгороде, стоящую без пения, у которой крыльцо и паперть за ветхостью «порассыпа-лись», а кровля «огнила» [19]. Ветхость церкви с деревянной главой и каменной «шеей» заставила владельцев снять и то и другое, «чтоб сводов верхних и нижних не обрушило». Если ризница была передана в другой храм, то церковный архив оставался в церкви положенным в сундуке и «сомкнутым замком вислым немецким смычным». Ветхие иконы продолжали пребывать в церкви.
Начало новой волне обветшания храмов положила секуляризация 1764 г. Их снос происходил уже в XIX в. [20] Традиционно материал, полученный при разборке, чаще всего употреблялся для нового церковного строительства, хотя известны случаи растаскивания его «православным народом» для своих нужд. Судя по всему, особого чина на снос и разборку храма так и не было создано, однако выработался определенный ритуал. 25 февраля 1900 г. Синод разрешил разобрать и перенести в Петербург «Суворовскую» церковь (1789) из с. Кончанское Новгородской губернии. 15 марта, после последней литургии, антиминс этого храма с крестным ходом был перенесен в ближайшую церковь, после чего был зачитан указ о перемещении храма. Разборка, начиная с креста на маковке, проходила под пение «Тебе, Бога, хвалим» и «Спаси, Господи, люди Твоя».
Итак, церковная собственность на Руси существовала, и ее существование не подвергалось сомнению Российском государством, о чем свидетельствуют все секуляризационные попытки 1503–1764 гг. Однако этими мероприятиями лишь непоследовательно ограничивались рост земельной собственности церкви и право распоряжения соответствующими доходами [21]. Естественно, это вызывало сопротивление клира, достаточно вспомнить возникшее на Руси апокрифическое «Правило святых отец 165 на обидящих Божиа церкви» XVI в., но в целом не рассматривалось обществом как «гонение на Церковь». Отметим, что реформа 1764 г. представляла собой выкуп церковных земель со стороны государства. Епархии, монастыри и храмы, лишившиеся земли, были переведены на штатное денежное содержание от казны. Точно так же были осуществлены меры Петровского времени по секуляризации богослужебного имущества «для нужд обороны страны» в Северной войне и ликвидации ее последствий. 20 апреля 1722 г. вышел указ о привозе в Синод привесов и приношений с икон. При этом было указано «за курьезные вещи деньги дать достойно цены без удержания» [22]. Стоит сравнить мероприятия XVIII в. с событиями диссолюции в Англии в 1535–1541 гг., ставшими ключевым мероприятием церковной реформы короля Генриха VIII. Острие компании было направлено на отчуждение храмовых ризниц как тезаврированного капитала, а также на изъятие свинцовых кровель и оконных переплетов, которые должны были быть обращены на пользу общества и государства, понятых как пользу Церкви.
Отметим, что ведомственная принадлежность храмов и их богослужебного имущества как следствие прав церковного владения, свято уважалась Империей. Так, 7 апреля 1883 г. Петропавловский собор в Санкт-Петербурге был переведен из епархиального ведомства в придворное, а 13 января 1894 г. то же самое было предпринято в отношении Архангельского собора в Московском Кремле. Такого рода передачи храмов в новое «оперативное управление» сопровождались передачей штатов, имуществ и капиталов, а из сметы Синода в смету придворного ведомства переносились все казенные суммы на содержание храма и жалование клира. Аналогичным образом храм Воскресения Христова в Петербурге был 9 марта 1908 г. передан из ведения Министерства Императорского двора в ведомство православного исповедания. Через два года предусматривался отчет представителей епархии в Государственной Думе. Также и Спасский Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде, построенный в первой половине XIX в. за счет казны, управлялся губернатором и ярмарочной конторою, директор которой был одновременно и старостой, и выборным от купечества. Только 10 мая 1852 г. храм был переведен из губернского ведения в епархиальное подчинение.
Вопрос о церковной собственности достаточно остро встал в начале XX в. в связи с участившимися случаями расхищения и распродаж предметов церковной старины. В связи с этим 8 апреля 1908 г. председатель Императорского Московского археологического общества графиня Прасковья Уварова (1840–1924) предложила императору Николаю II объявить всю церковную древность государственной собственностью. На письме император начертал: «Заслуживает всякого внимания». Однако 24 июля Совет Министров отклонил это предложение. Документ не совсем точно цитирует возражения, представленные министром юстиции Иваном Щегловитовым и обер-прокурором Синода Петром Извольским. Из ответа следовало, что «отобрание у Церкви издревле и на законном основании приобретенного ею имущества… явилось бы нарушением коренного начала действующего законодательства, строго охраняющего неприкосновенность частной собственности». Однако в этом случае документ цитирует записку министра юстиции от 27 мая, где слова «частная» нет. Щегловитов просто указывает, что такое отчуждение повлечет за собой нарушение правовых начал, в частности ст. 77 Свода законов Российской империи (Т. 1, ч. 1. Изд. 1906 г.), где указано, что «собственность неприкосновенна»[23]. При этом министр допускал, что право собственности не будет нарушено, если ограничить возможность «церковных установлений» распоряжаться памятниками старины. Министр и обер-прокурор лишь считали, что такое ограничение «вряд ли целесообразно». И тот и другой прекрасно представляли себе «загадочную русскую душу» и ее отношение к правам собственности: памятники ждала угроза при любой ее форме, особенно при попадании в руки бюрократии. Лишь идеалистка Уварова верила в закон и порядок. Таким образом, на момент октябрьского переворота Православная Церковь в России, в лице своих общин и учреждений обладала вполне заметной собственностью, существенной частью которой были памятники культуры[24].
В 1917 г. «мечта» ревнителей старины, считавших необходимым объявление памятников церковной культуры государственной собственностью, казалось бы, свершилась. Лучше, как и предполагали Извольский со Щегловитовым, не стало. Стало хуже. Принудительный атеизм, отменив принудительное православие, вскрыл настоящее отношение российского общества к этому православию. Взорванные соборы, заброшенные приходские храмы и костры из икон – все это было сделано руками некогда православных людей, любящих теперь прикидываться жертвами «мировой закулисы». Из «своего» церковное имущество вдруг стало «чужим». Своим оно осталось лишь для приходских подвижниц и российской интеллигенции, пытавшихся спасти хоть что-то из христианской старины, бросаемой в пасть революционному молоху.
Октябрьский переворот подменил взаимовыгодную секуляризацию принудительной национализацией. Репрессивные меры в области имущественного права имели не просто экономический характер, но ясно выраженный атеизирующий смысл. Декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 23 января 1918 г. лишил церковные общины прав юридического лица и собственности (ст. 12). Церковное имущество объявлялось народным достоянием, богослужебная часть которого могла передаваться прихожанам «в бесплатное пользование».
Реформы новой власти потребовали выразить существовавшие в Церкви отношения собственности в четких юридических понятиях. Они оказались достаточно противоречивы. Определение Поместного собора «О епархиальном управлении» (февраль 1918 г.) еще не знает четко сформулированного положения о составе епархиальной собственности[25]. Определение «О правовом положении Православной Российской Церкви» от 2 декабря 1917 г. также не знает общецерковной собственности, а знает «имущества установлений Православной церкви», которые пользуются правами его распоряжения[26]. Таким образом, имущество Православной Российской Церкви есть сумма имуществ ее «установлений», а «общецерковное имущество», упоминаемое Определением о круге дел Высшего Церковного Совета есть имущество органов Высшего Церковного Управления. Очевидно, что «Православная Российская Церковь» как «часть единой Вселенской Церкви Христовой» мыслилась не как отдельное юридическое лицо, а как совокупность юридических лиц, обладающих таковыми правами в силу принадлежности к Церкви. Пункт 6 Определения «О Православном приходе» от 20 апреля 1918 г. постановляет, что «в случае прекращения существования прихода вследствие перехода прихожан в другое исповедание или по каким-либо иным причинам, находящееся в приходе… имущество передается распоряжением епархиальной власти другому… приходу»[27]. Таким образом, оно не становится епархиальной собственностью, а продолжает оставаться общинной.
«Общецерковное достояние» Определения «О церковном имуществе и хозяйстве» от 6 сентября 1918 г. [28], нельзя рассматривать как «общецерковную собственность», хотя еще Предсоборное Присутствие в 1908 г. полагало, что «Православная Российская Церковь является собственником всего церковного, причтового и приходского имущества» [29]. Помимо нарастания соборного внимания к вопросам общецерковного достояния, в деяниях явно ощущаются и следы концепции «Божьей собственности», особенно в постановлении от 12 сентября 1918 г. «Об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания». Представляется, что излишняя эмоциональность этого постановления и его оторванность от существующих реалий во многом способствовали трагическим событиям во время изъятия церковных ценностей.
Своим первым пунктом постановление недвусмысленно заявляло: «Святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них находящимися, суть достояние Божие, состоящее в исключительном обладании Святой Божией Церкви в лице всех православно верующих чад ее, возглавляемых Богоучрежденною иерархией. Всякое отторжение сего достояния от Церкви есть кощунственный захват и насилие». Христианин и приходские собрания не могут участвовать в изъятии святынь и передавать церковное имущество из обладания Церкви. Принятие церковных святынь на хранение от государственной власти может осуществляться лишь церковными организациями с разрешения епархиального архиерея: это была явная отсылка к новому закону, предусматривавшему «безвозмездное пользование» приходов своим имуществом, в одночасье ставшим общенародным. В случае перехода церковных святынь в «фактическое обладание чуждых и враждебных Православной Церкви лиц, соединенное с прикосновением их к священным предметам», рассматриваемого как кощунство, их новое литургическое употребление возможно только после освящения [30]. Категоричность данного определения необходимо рассматривать исключительно в контексте проведения в жизнь враждебных Церкви положений декрета об отделении церкви от государства[31]. Как мы видели выше, отчуждение церковной собственности в полной мере допускалось каноническим правом.
С таким представлением о своих правах в условиях узаконенного бесправия Церковь подошла к решению главного вопроса – о повседневном пользовании богослужебным имуществом в атеистическом государстве и оказалась к этому совершенно не готовой.
Об этом красноречиво свидетельствует рассказ Пантелеймона Романова «Верующие» (1923) о сельчанах, так и не нашедших в себе смелости подписаться под коллективным договором с местным советом и лишившихся храма «за отсутствием верующих». Это доказывается и прозвучавшими колебаниями духовенства и епископата на Соборе в сентябре 1918 г. в отношении, как им казалось, чрезмерных прав «простецов» на пользование церковным имуществом. Опубликованная 30 августа 1918 г. инструкция Народного комиссариата юстиции от 24 августа по отделению Церкви от государства объявляла правомочной на заключение договоров и получение имущества лишь общину, состоящую из «двадцатки» мирян. Митрополиту Сергию (Страгородскому) приходилось убеждать епископат оставить словопрения и отправиться в епархии для выработки новых церковных инструкций по применению новых советских законов. Прихожан он призывал не медля подавать заявления и брать храмы под свою ответственность [32]. Эта инструкция включала в себя и типовой договор как основу отношений между новой властью и религиозными организациями. Общины, в чьем фактическом обладании находились храмы и богослужебное имущество, должны были представить в местные советы описи в 3 экземплярах. Совет тут же передавал общине указанное в описи имущество в пользование исключительно для религиозных потребностей с ответственностью «по круговой поруке». Пункт 9 указывал, что храмы, имеющие историческое, художественное и археологическое значение, передаются с соблюдением особой инструкции. Описи имущества и заключение договоров были завершены в основном к концу 1919 г., и в большинстве случаев духовенство и прихожане даже не ощутили происшедшего изменения форм собственности.
Это ощущение пришло позднее. Декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих», принятый 16 февраля и опубликованный 23 февраля 1922 г., предписывал местным Советам в месячный срок изъять из церковных имуществ, на основании описей, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, отчуждение которых не может существенно затронуть интересы самого культа. Осуществление этого предписания привело к уничтожению уникальных храмовых ризниц. В массовом православном сознании тот факт, что государство владеет церковным имуществом и культурным наследием Церкви оказался запятнан официальным насилием и кровью новомучеников. Впрочем, объективная история разрушения культурного наследия Церкви, как и история изъятия церковных ценностей, еще не написана. Достоверно известно, что к 1 ноября 1922 г. было изъято золота, серебра и драгоценных камней на сумму 4 650 810 рублей 67 копеек.
8 апреля 1929 г. ВЦИК и Совнарком принимают постановление «О религиозных объединениях». Основываясь на декрете 1918 г., оно подтвердило, что религиозные общества могут получать от райисполкома в бесплатное пользование специальные молитвенные здания и предметы [33] [34] Избираемые общинами центральные органы вообще не имели права получать имущество по договору. Пункт 10 запрещал обществу использовать имущество для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей. Иногда кажется, что требования некоторых современных церковных активистов и иерархии, в части исключительно богослужебного использования произведений религиозной культуры, просто списаны с большевистского антирелигиозного законодательства, стремящегося изолировать Церковь от общества. Лишь 22 августа 1945 г. имущественное положение Церкви несколько изменилось. В этот день по представлению Совета по делам Русской Православной церкви Совнарком предоставил патриархии, епархии, приходам и монастырям юридические права на приобретение транспорта и недвижимости в собственность[35]. Этим же распоряжением республиканским совнаркомам и областным исполкомам предписывалось снабжать приходы строительными материалами для ремонта церковных зданий «в пределах возможного».
Сталинское законодательство о культах в брежневской редакции 1975 г. просуществовало до 1990 г. К началу перестройки разные церковные группы научились если не решать имущественные вопросы, то улаживать их. Однако в истории Церкви существовала не только собственность, но и культура. Отношение Церкви к своему культурному наследию составляет другую сторону проблемы возвращения памятников церковной старины религиозным организациям.
Глава II
Церковь и древность: два окна
В марте 1869 г. в Москве состоялся I Археологический съезд – уникальный смотр интеллектуальных сил России, озабоченных изучением и сбережением ее культуры. Михаил Погодин (1800–1875) на одном из заседаний с горечью сетовал, что для большинства соотечественников слово «памятник» ассоциируется исключительно с тем, что они сами воздвигли в напоминание о прошлом или о покойном: с плитой на могиле или с монументом на площади. Свою скорбь он проиллюстрировал примером из жизни: приходской староста представляет архиерею предложение о необходимости расширить окно, а архиерей никак не хочет понять, что это окно тоже есть памятник[36]. Известны и другие случаи. Патриарх Алексий (Симанский) вспоминал, как в 1902 г., в бытность студентом Духовной академии, его сурово отругал ректор, впоследствии митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий), всего лишь за то, что он разрушил в одной из лаврских келий подоконник, чтобы поставить туда свой письменный стол. Трудно сказать, чего было больше в преосвященном недовольстве – подлинного уважения к древности или заботы о сохранности казенного имущества. Но архиерей за окно вступился.
Кто их двух епископов более типичен для русской жизни и каково было отношение Русской церкви, ее клира и мирян к памятникам церковной старины? В современном сознании уже успел сложиться позитивный образ церковно-археологического общества в дореволюционной России. Одновременно раздаются и голоса о неудаче церковно-археологического опыта в целом как ведомственного и безграмотного «складирования древностей», не имевшего ни практического значения, ни общественного резонанса [37]. И тот и другой взгляды представляются неисторичными. Отношение Православной Церкви к культуре и древности на всем протяжении ее существования обладало собственной спецификой и постоянно находилось в развитии.
Если Священное Предание является стержнем церковной жизни, то церковная реликвия – стержнем христианской культуры. Естественно, древность сама по себе никогда не являлась свидетельством религиозной истины. Согласно свт. Киприану Карфагенскому († 256), «обычай без истины – всего лишь древнее заблуждение». Однако древности определенных эпох позволяли осознать содержание евангельской керигмы как того, во что верили все, повсюду, всегда. Лишь те периоды церковной истории, лидеры которых сознательно рассчитывали порвать с традицией, разрушали христианскую старину.
«Реликварность» христианской культуры не ограничивалась исключительно литургией. Мемориальные вещи – материальные останки прошлого – включались в сакрально-богослужебное пространство как в реликварий, который, вмещая в себя историческую и культурную память, и был памятником в современном значении этого термина. Можно говорить о сложении в христианской культуре преконцептуальных схем культурного наследия, домузейных форм хранения памятников, протоархеологического сознания как способа восприятия древности. Императорские венцы в храме Святой Софии Константинопольской, описанные императором Константином Багрянородным, порты блаженных первых князей в Софийском соборе Киева, захваченные половцами в 1203 г. [38], «агриков меч-кладенец» из-под «керамиды» Крестовоздвиженского храма в Муроме, которым князь поражает змия в «Повести о Петре и Февронии», псковичи, откопавшие в 1420 г. древний престол церкви св. Власия, Георгиевский собор 1234 г. в Юрьеве-Польском, «собранный изнова» Василием Ермолиным в 1471 г., – это явления, свидетельствующие о гармоничном развитии восточно-христианского общества в его отношении к древности.
На Руси уже в XI в. митрополит Иоанн (1077–1089) в канонических ответах черноризцу Иакову касался образа обращения с предметами церковной древности. Ветхий деревянный престол, крест и икона подлежали подавлению. В случае, если бы образ стерся совсем, его необходимо было погрести в «неоскверняемом месте», однако хранение и обновление оказывались предпочтительнее. В древнерусских храмах известны археологические свидетельства таких мест – стенные ниши, куда замуровывалась ветхая богослужебная утварь. В случае перенесения храма на новое место пространство прежнего алтаря подлежало ограждению, а на месте бывшего престола водружался деревянный крест[39].
Некоторые архитектурные приемы также были рассчитаны на сбережение древности как реликвии. Замена шлемовидной формы глав на луковичную, устройство «глухих» барабанов, не сообщающихся с основным объемом храма, были отчасти обусловлены климатическими условиями Руси и являлись мерами по улучшению режима содержания церквей. В XVII в. «Иконописный подлинник» Никодима Сийского указывал режимы проветривания храма в зимний и весенне-летний периоды. Существовал и «дедовский» способ определения возможности проветривания неотапливаемых церквей с помощью большой стеклянной бутыли с водой, которую периодически выносили на улицу. Если стекло запотевало, это означало, что наружный воздух, попадая внутрь храма, будет вызывать выпадение конденсата, и свидетельствовало о недопустимости проветривания[40]. Следует вспомнить и «щадящую» храмы литургическую практику древнерусского времени, когда церкви не были рассчитаны на ежедневное богослужение и предназначались лишь для сезонных праздничных служб. Так, в Великом Новгороде во второй половине XV в. на 163 престола приходились 44 ежедневно совершаемые службы суточного круга [41].
В свое время было высказано немало упреков относительно «губительности» поновления иконописных шедевров и перестроек храмов в эпоху Средневековья [42]. Такой взгляд оказывается в своем существе неверным. В контексте историчности сознания и истории жизни реликвии подавления и пристройки были не губительны, а спасительны для памятника, сохраняя его от растворения в потоке времени. Процесс старения святыни – ее археологизация – закономерен, и каждая эпоха находит свои способы противодействия ему. Подлинный интерес представляет не искусственно сконструированная композиция и стилистика памятника, а весь памятник во всей эклектической сложности разновременных и разнокультурных напластований, позволяющих увидеть историческую реликвию и её место в контексте истории и представлений людей прошлого.
Церковь была готова к культурному вызову Нового времени. Своеобразными протоколлекциями были соборные и монастырские ризницы и арсеналы [43]. И. Иванчин-Писарев, находясь на Маковце, мысленно представлял себе в 1840 г. «полуротонду», в которой разместился бы музей лавры [44]. Однако в то же время одной из крайностей реакции церковного сознания на секуляризацию и распространение европейской цивилизации стало отрицание значимости музейных форм культуры. Сам археологический музей иногда сравнивался с кладбищем и противопоставлялся «живому» организму храма как вместилище «мертвых вещей». Такое противопоставление было изначально присуще сторонникам преображения христианской жизни в России, в частности св. протоиерею Иоанну Сергиеву, св. архиепископу Иллариону (Троицкому), протоиерею Сергию Булгакову и др. Но в их устах это было не осуждение музеев как таковых, но призыв к деятельному использованию опыта Православия, плоды которого в эпоху «синодального паралича» оказались помещенными в витрину «официальной церкви». Музей в данном случае использовался как образ, но не как «образ врага». Современное осуждение музейной культуры через противопоставление ее Церкви есть недостойное искажение святоотеческого наследия, используемое для решения сиюминутных задач.
Естественность поновлений сменилась смешением форм, когда старину стали приспосабливать к современным вкусам. В самих художественно-архитектурных новшествах синодальной эпохи, связанных со стилистикой классицизма или барокко, не было ничего неканонического или неправославного[45]. Это была та же «псевдоморфоза Православия», которая столетием раньше позволила ему выразить богатство восточно-христианской мысли языком латинской схоластики. В этом контексте культурную угрозу создавал скорее модный в Европе «византийский стиль», являвшийся не реконструкцией, а конструированием прошлого. Однако внедрение в церковную жизнь европейской эстетики не сопровождалось формированием соответствующего отношения к древности как к неприкосновенному и неизменяемому элементу современной культуры, ценность которого воспринималась тем отчетливее, чем скорее менялась церковная мода. Естественно, нелепо предъявлять претензии обществу в «варварском обращении» с памятниками истории и культуры в ту эпоху, когда не существовало самого понятия «памятник». Однако как только общество формулировало идею «исторического памятника», оно тут же оказывалось «под клятвой» за разрушение старины, даже если это разрушение мотивировалось необходимостью «церковного благолепия».
В 1433 г. новгородский архиепископ Евфимий II в Грановитой палате Кремля устраивает мемориальную келью архиепископа Ильи-Иоанна (1163–1186). Главным «экспонатом» кельи становится помещенная в нишу копия рукомойника, в котором святитель «заключил» беса для поездки в Иерусалим. Эта чуткость к древности находится в разительном противоречии с практиками XIX в. Вместо средневекового мемория синодальное благочестие потребовало строительства нового храма во имя свт. Иоанна, который и был построен в 1824 г. Классический иконостас «по живому» разрезал готические своды, дополнительно выкрашенные масляной краской. И тогда передовое церковное сознание увидело спасение в церковной археологии. Как писал в то же время Николай Помяловский, в общество проникло сознание не столько пользы науки, сколько неизбежности ее.
Истоки церковной археологии на Православном Востоке лежат в символическом толковании литургического обряда и его истории, с одной стороны, и в развитии богословия образа – с другой. Это богословие окончательно сложилось в VIII–IX вв. во время иконоборческих споров. Однако для настоящей постановки вопроса о роли древности в церковной культуре необходим был кризис литургического сознания, связанный с появлением временной дистанции между стариной и современностью. Этот кризис пришелся в Европе на эпоху Реформации и Контрреформации, а в России – на Великий Раскол XVII в.[46] В это время в России появляется первое «церковно-археологическое сочинение»: патриарх Никон в 1656 г. издает книгу под названием «Скрижаль», которая ставила перед собой задачу разъяснить символическое значение богослужебных предметов и храмовых принадлежностей. Новые своды толкований, включая знаменитую «Новую Скрижаль» архиепископа Вениамина (Краснопевкова), выходили в 1792 и 1803 гг., пока, наконец, в Уставе Духовных семинарий 1839 г. рядом с литургикой окончательно не закрепилась и церковная археология. Целью науки было «изъяснение состава и чина Богослужения Православно-кафолической церкви и принадлежностей оного» с раскрытием их истории и «духовных знаменований» [47]
Но еще в эпоху петровских реформ на смену обиходной культуре приходит предпочтение культуры событийной, культуры курьезов и сенсаций. Этот процесс в петровской России хорошо проявляется в Указе от 13 февраля 1718 г. о доставлении в Кунсткамеру предметов «необыкновенных», «не таких, какие у нас есть», и в расформировании уникального церковно-археологического собрания – Образной палаты Московского Кремля, известной нам по описи 1669 г[48].. Собрание памятников церковной культуры, отражавшее повседневность, более не представляло интереса для общества и двора и было роздано в различные церкви и монастыри.
Церковное сознание, культурно неоднородное, постоянно колебалось в своем отношении к старине и новшеству. Полемика со старообрядцами предполагала особую постановку вопроса о церковной древности. Однако скептическое отношение синодальной бюрократии к историко-археологическому значению памятников проявилось уже в отзыве Синода об издании хронографов, задуманном в Императорской Академии наук в 1734 г.: «В Академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно, понеже в оных писаны лжи явственные. Того ради не безопасно, дабы не принеслось казенному капиталу какого убытка» [49] Если Синод в XVIII в. и принимал меры по обеспечению сохранности святыни, то они страховали Церковь от главных напастей деревянной Руси – пожаров и воровства[50].
В Средневековье имущественные описи, предусмотренные нормами церковного права, были чаще всего уделом монастырской жизни и явлением отнюдь не повсеместным. Исправлению ситуации служили мероприятия по составлению описей Московских соборов 1725–1730 гг., их проверка в 1771 г. в связи с выявленными фактами хищений и датированный тем же годом указ об обязательности описей имущества в ставропигиальных и епархиальных монастырях. Передача утвари московских ружных церквей в Оружейную контору в 1777 г. опять преследовала уже известную цель: сохранить ризницы от разворовывания. Вторично попытка всеобщей инвентаризации церковного имущества состоялась лишь в 1853 г. Ее инициатором был государь Николай Павлович, который указал обер-прокурору графу Протасову на необходимость ведения описей в московских церквах. Толчком к этому должно было послужить издание Императорским Русским археологическом обществом в 1851 г. «Записки для обозрения русских древностей», представлявшей собой архетип для церковных описей. В марте 1853 г. св. митрополит Филарет (Дроздов) предложил новые правила для описания, которые должны были учитывать историческую информацию о литургических предметах. 31 мая 1853 г. последовал указ Синода о порядке хранения храмового имущества и составления описей.
Позднее возникла необходимость в самостоятельных епархиальных описях с индивидуальными формами вопросов. Так, в 1884 г. епископ Псковский Нафанаил (Соборов) составил и разослал «Программу для обозрения церковных и монастырских древностей в пределах Псковской епархии». Стоит отметить, что в «филаретовскую» опись не вносились неиспользуемые богослужебные предметы, собственно древность, которая продолжала распродаваться. В 1882 г. обер-прокуратура потребовала от епархиального начальства составления описей церковных и монастырских вещей, имеющих значение для церковной археологии, но не используемых при богослужении, и постановила провести ревизию описей 1853 г.
До конца система инвентаризации так и не заработала. Летом 1905 г. настоятель Муромского Богородицкого собора протоиерей Георгий Карпинский продал водосвятную чашу, облачения и воздухи, среди которых были вещи времен царя Михаила Федоровича[51]. По сообщениям корреспондентов, «весь Муром на ногах, негодует на протоиерея и относится к вопросу как к личной обиде, нанесенной городу, его достоинству и истории». Только непосредственное обращение председателя Московского археологического общества графини Уваровой к епископу Владимирскому Никону (Софийскому) способствовало праведному решению вопроса. Будучи вызванным на «преосвященный ковер», протоиерей должен был выкупить чашу за 275 рублей, хотя продал ее за 50. Все это наглядно показывает, что инициатива уважения к древности в XIX – начале XX в. исходила не от синодальной бюрократии, а от мирян, вне зависимости от их социального и государственного статуса.
Еще одной печалью иерархии в XVIII в. была забота об уровне церковной эстетики в наиболее престижных храмах. Подобные мероприятия формировали основы прогрессивной для своего времени «церковно-археологической реставрации» [52]. 10 августа 1742 г. Синод предписал возобновить Федоровский образ Матери Божией в Костроме «пристойным образом» «во всем противу прежнего письма без отмены» и ограничил многочисленные крестные ходы с иконой двумя днями – 1 января и 14 августа, «чтоб за ветхостью оной святой чудотворной иконе от частых хождений не учинилось бы какого-либо наивящего повреждения». В 1770 г. последовал указ императрицы Екатерины II об исправлении икон и фресок в Кремлевских соборах Москвы – «возобновлении починкою», с условием, чтобы «живопистство писано было таким же искусством, как древнее, без отличия». Предполагалось, что «где было золото на стенах, тут и теперь употребить, а не краску желтую», хотя 22 июля 1770 г. архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) писал советнику императрицы Г. Н. Теплову о теоретических сложностях и эстетических проблемах такой реставрации. Древнюю позолоту невозможно вызолотить вновь, так как яркость «новодела» была бы слишком очевидна. Архиепископ предполагал подобрать специальную краску. Впрочем, императорский указ преследовал, скорее всего, цель предотвращения хищений золота под видом реставрации.
30 июня 1753 г. императрица Елизавета объявила Синоду именной указ о «поправлении» богослужебных предметов и облачений Патриаршей ризницы, потребовав расположить их в «удобных палатах», «где б и воздух мог проходить спокойно» при «соблюдении от пожарного случая». Делалось это для удобства осмотра древностей иностранными министрами и прочими знатными лицами. По сути, речь шла о создании музея современного типа с противопожарной охраной, соблюдением температурно-влажностного режима, кондиционированием помещений и предэкспозиционной подготовкой вещей. Свое упорядочение нашел и вопрос о ремонте-реставрации храмов. 5 мая 1774 г. Синод разрешил духовенству самостоятельно ремонтировать церкви за исключением алтарных пространств. Судя по контексту, речь шла не столько о контроле над каноническим содержанием работ, сколько о епархиальной «вертикали власти». Несмотря на наивность и ограниченность синодальных мер XVIII в., направленных на ограждение церковной старины от злого умысла, физического уничтожения и естественного старения, необходимо признать, что мы имеем дело с началом формирования современного цивилизованного подхода к охране культурного наследия[53].
В первой половине XIX в. под лоском европейской культуры стала просматриваться национальная идея. Положение Комитета министров «О правилах устроения церквей», высочайше утвержденное 9 марта 1826 г., предписывало постройку, ремонт и реставрацию храмов организовывать через Министерство внутренних дел и его строительный комитет. Под это правило подпадали казенные и приходские церкви, тогда как епархиальные архиереи могли производить ремонт и строительство без проекта и рабочей документации, но с разрешения Синода. Причиной такого распоряжения было стремление российской элиты к сохранению традиционной эстетики храмовых зданий, однако оно сразу же вызвало ревнивую отповедь свт. Филарета (Дроздова). 11 февраля 1828 г. он предоставил в Синод доклад о проблемах, вызванных необходимостью согласования каждого нового строительства в Министерстве. Задержки и проволочки вызывают «охлаждение ревности» прихожан к возобновлению храмов. Он предлагал, чтобы контроль над строительством и ремонтом взяли на себя губернские архитекторы, строительный комитет в Петербурге или строительная комиссия Москвы. Однако в конце концов надзор в губернских и уездных городах остался за Министерством.
Устав Духовных консисторий 1841 г. закрепил сложившуюся практику. Он предписывал епархиальным властям представлять проекты расширения и ремонта церквей на рассмотрение Синода (параграф 46), тогда как поновление иконостасов проводилось без предварительных проектов (параграф 52). Однако в 1865 г. Синод добился ослабления государственного контроля за церковным строительством. Если храмы в столицах, а также древние и знаменитые церкви ремонтировались на основе синодального разрешения, то остальные храмы могли реставрироваться по благословению епархиального архиерея без доклада Синоду. 17 декабря 1865 г. Синод разрешил причту, старостам и монастырям производить «мелкие починки» из кошельковых сумм, даже не испрашивая разрешения епархиального начальства. В новом Уставе Духовных консисторий 1883 г. ремонт, перестройка и расширение церквей, построенных до 1700 г. или позднее, но замечательных в историческом или художественном отношении, могли совершаться лишь с санкции императора или Синода (параграф 47). Исправление древней живописи допускалось лишь с разрешения Синода, которое предварялось согласованием проекта с местным археологическим или историческим обществом. К этому времени был принят и новый Строительный устав 1857 г., который статьей 207 выводил подобные ограничения на «подавление» храмов. Уложение об уголовных наказаниях 1852 г. определяло штраф от 20 до 100 рублей за самовольные перестройки или починки церкви «за исключением случаев крайней необходимости» (статья 1352).
Все эти требования, попавшие в консисторский Устав 1883 г., были вызваны драматическими событиями в Киеве и во Владимире. 12 ноября 1842 г. Синод издал указ, сообщающий о Высочайшем повелении, запрещающем замену древней живописи в храмах. 31 декабря был издан уточняющий указ, запрещавший приступать к обновлениям подобных памятников вплоть до Высочайшего разрешения. Поводом для повеления и указа были неудовлетворительные реставрационные работы в Успенской церкви Киево-Печерской лавры 1841–1842 гг., вызвавшие гнев императора Николая I.
В 1879 г. вновь последовало Определение Святейшего Синода № 2236 от 9 января о недопустимости самовольных переделок в древних храмах без Высочайшего разрешения и доклада Синоду. Тем же Определением епископату в случае необходимости ремонта и реставрации памятников старины было предписано обращаться за научным обеспечением к существующим археологическим обществам: Церковноархеологическому обществу при Киевской Духовной академии, Императорскому Русскому археологическому обществу в Петербурге, Императорскому Московскому археологическому обществу и Одесскому обществу истории и древностей. Указу 1879 г. предшествовал ремонт, произведенный архиепископом Владимирским Антонием (Павлинским) в 1877 г. в Покровской церкви на Нерли, в результате чего остатки фресок были закрашены масляной краской, а некоторые фрагменты каменной резьбы уничтожены. Российская общественность была возмущена свершившимся, а председатель Московского археологического общества граф Алексей Уваров (1825–1884) вошел в Синод с ходатайством о возобновлении распоряжения 31 декабря 1842 г. и участии в обсуждении проектов реставрации археологических обществ, что и было сделано.
Дальнейший анализ исторического отношения Русской Церкви к своему культурному наследию требует рассказа об археологических и церковно-археологических обществах в России. Общественный подъем и ощущение общей ответственности за судьбы страны в эпоху Александра Освободителя (1855–1881) способствовали пробуждению интереса к памятникам истории и культуры и возникновению архивных и археологических организаций в столицах и губерниях[54]. Однако этот подъем стал бы невозможен без того интереса к древности и старине, который возник в обществе еще в царствование императора Николая I (1825–1855). В 1839 г. было создано Одесское общество истории и древностей. В 1846 г. в Петербурге возникло Археологонумизматическое общество, с 1851 г. получившее имя Императорского Русского археологического общества. В 1864 г. в Москве графом Алексеем Уваровым было создано Императорское Московское археологическое общество. С 1884 г. в губерниях повсеместно стали возникать ученые архивные комиссии, находившиеся в ведении Министерства народного просвещения. Изучение русской церковной старины занимало в деятельности обществ и комиссий одно из главных мест, что вызывало одобрение церковной общественности. «Церковный вестник» писал, что всякий, честно и искренно относящийся к интересам церковной археологии, должен только радоваться, что археологические общества заботятся об изучении и сохранении церковных древностей в отсутствие «ведомственных» специалистов. Особенно отмечалась коллегиальность, по сути дела, соборность в деятельности подобных обществ[55].
Однако почти одновременно начало складываться и церковно-археологическое движение, причем на первом этапе – исключительно по инициативе снизу. Цели этого движения, достаточно быстро оформившегося в виде региональных обществ, первоначально были связаны с церковным просвещением. В 1863 г. в Москве по инициативе архимандрита Иакова (Кроткова), впоследствии епископа Муромского, образовалось Общество любителей духовного просвещения. Уже в 1870 г. при Обществе был создан музей, а годом раньше – два отдела: иконоведения и историко-археологический, преобразованные в 1900 г. в церковно-археологический отдел. Окончательно приоритеты изучения церковных древностей были закреплены в уставе Общества 1906 г.
Охрана памятников церковной старины требовала музеефикации литургических памятников, материальное состояние которых более не позволяло использовать их в повседневном богослужении. На организации церковных музеев настаивал еще Ф. Буслаев во время I Археологического съезда в Москве в 1869 г., в чем его поддержали Д. Струков, П. Казанский и Н. Лошкарев[56]. На II Археологическом съезде в Петербурге (1871) уже были предложены конкретные проекты образования церковно-археологических музеев при Духовных академиях (Н. Лошкарев) и при епархиальных управлениях (П. Савваитов)[57]. Насущная необходимость создания церковно-археологических обществ и музеев была поддержана профессором Московской Духовной академии И. Мансветовым в 1872 г[58]. Наконец были созданы музеи при Духовных академиях – Киевской (1872 г., преобразован в 1881 г.), Петербургской (1878) и Московской (1880) [59] Вместе с тем развитие церковно-археологической сферы несколько отставало от общественных потребностей: VIII Археологический съезд в Москве (1890) вновь ходатайствовал перед Синодом о преподавании археологии в Духовных семинариях и о создании епархиальных музеев[60].
Лишь к концу XIX в. началось массовое возникновение церковных учреждений в виде обществ, епархиальных комитетов и древлехранилищ и повышение их научного потенциала. В это время инициатива их создания начала переходить от мирян и академической профессуры к епископату. Успех или неуспех церковно-археологических начинаний в епархии стал зависеть от внимания или равнодушия архиерея к этому начинанию. В 1880-е гг. возникают 8 церковно-археологических учреждений, в 1890-е – 9, с 1900 г. по 1911 г. – 16, а с 1911 г. по 1914 г. – 23 [61]. Одним из первых возник Подольский епархиальный историко-статистический комитет в 1863 г. и Нижегородская церковно-археологическая комиссия в 1887 г. Основной целью этих учреждений было собирание местных исторических памятников и развитие в среде духовенства археологического интереса и знаний. В таких сокровищницах православной культуры, как Псков и Новгород, церковно-археологические учреждения были созданы архиепископом Арсением (Стадницким) в 1908 и 1912/1913 гг., соответственно [62]. В 1912 г. в Москве состоялся Предварительный съезд по устройству I Всероссийского съезда деятелей музеев, на котором был учрежден особый церковно-археологический отдел[63]. Тогда главной проблемой церковно-археологического дела в России было объявлено даже не отсутствие средств, а отсутствие правового статуса этого начинания, зависящего от благосклонности епархиальных преосвященных и держащегося исключительно на энтузиазме рядовых членов движения[64].
Роль этих учреждений в изучении и сохранении памятников церковной старины возрастала. Однако росли и присущие их деятельности противоречия. К тому же не только на губернском, но даже и на столичном уровне отнюдь не везде существовало понимание их необходимости. Характерный случай произошел на I Областном археологическом съезде в Ярославле в 1901 г., где с докладом «О мерах к сохранению церковных памятников» выступил протоиерей Сильвестр Соколов. Основной мыслью выступления была необходимость создания епархиальных церковно-археологических комитетов как гарантов сохранности памятников и документов, находящихся в ведении монастырей и духовных консисторий. Однако доклад вызвал критику присутствующих на заседании членов Архивных комиссий. В ней указывалось на приходскую занятость малообразованного духовенства, а также на то, что охрана памятников губернской старины возложена «Положением Комитета Министров о губернских исторических архивах и губернских ученых архивных комиссиях» от 13 апреля 1884 г. на эти самые комиссии.
