Тяжелый случай бесплатное чтение
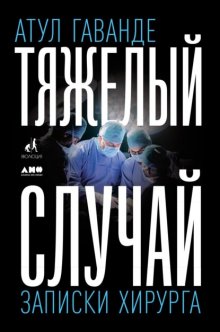
© Atul Gawande, 2002
All rights reserved.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2019
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2019
Цель фонда — популяризация научного мировоззрения, продвижение здравомыслия и гуманистических ценностей, развитие науки и образования.
Одно из направлений работы фонда — поддержка издания научно-популярных книг.
Каждая книга, выпущенная при содействии фонда «Эволюция», тщательно отбирается серьезными учеными. Критерии отбора — научность содержания, увлекательность формы и значимость для общества.
Фонд сопровождает весь процесс создания книги — от выбора до выхода из печати. Поэтому каждое издание библиотеки фонда — праздник для любителей научно-популярной литературы.
Больше о работе просветительского фонда «Эволюция» можно узнать по адресу www.evolutionfund.ru
Посвящается Кэтлин
Замечание автора
Все события, описанные в этой книге, реальны. Чтобы сохранить конфиденциальность их участников, мне пришлось изменить имена некоторых пациентов, членов их семей и моих коллег, а в ряде случаев и незначительные детали, по которым можно было бы их узнать. Обо всех изменениях я упоминал в тексте.
Предисловие
Однажды в мое дежурство в травматологию привезли парня лет 20 с пулевым ранением в ягодицу. Пульс, давление, дыхание — все было в норме. Ассистент разрезал на нем одежду большими ножницами, и я осмотрел раненого с головы до ног, стараясь действовать методично, но быстро. В правой ягодице обнаружилось входное отверстие — аккуратная красная дырочка чуть больше сантиметра. Выходного отверстия я не нашел. Больше никаких повреждений не наблюдалось.
Парень был в сознании и напуган — скорее нами, чем самим ранением. «Я в порядке, — твердил он. — Я в порядке». Однако после ректального исследования моя перчатка оказалась в свежей крови. Через катетер из мочевого пузыря тоже потекла ярко-красная жидкость.
Вывод был очевиден. Кровь означает, что пуля попала внутрь тела, пройдя сквозь прямую кишку и мочевой пузырь, объяснил я пострадавшему. Крупные кровеносные сосуды, почка, другие отделы пищеварительного тракта также могут быть повреждены. Нужна срочная операция, отправляемся сейчас же. Он увидел выражение моих глаз, оглядел медсестер, уже готовивших его к перевозке, и нехотя кивнул, отдавая себя в наши руки. Зашуршали колеса каталки, закачались на стойках пакеты для внутренних вливаний, мы неслись по коридорам, и перед нами распахивались двери. В операционной анестезиолог дал пациенту общий наркоз. Мы быстро сделали глубокий разрез сверху вниз посередине брюшной полости от грудной клетки до лобковой кости. Установили ранорасширители и открыли живот. А внутри… никаких повреждений.
Ни крови. Ни отверстия в мочевом пузыре. Ни отверстия в прямой кишке. Ни самой пули. Мы заглянули под хирургическую простыню — из катетера шла нормальная моча чистого желтого цвета, без малейшего кровавого оттенка. Мы запросили в операционную рентгеновский аппарат и сделали снимок таза, брюшной и заодно грудной полости. Пули нигде не было. Все это, мягко говоря, казалось странным. Почти через час бесплодных поисков нам ничего больше не оставалось, кроме как зашить парня. Дня через два мы сделали повторный рентген брюшной полости, в правом верхнем квадранте которой обнаружилась засевшая там пуля. Мы никак не могли это объяснить. Как свинцовая пуля больше сантиметра длиной проникла из ягодицы в верхнюю часть живота, ничего при этом не повредив, почему ее не было видно на предыдущем рентгеновском снимке, откуда взялась кровь, которую мы все видели при первоначальном осмотре? Причинив пациенту больше вреда, чем сама пуля, мы наконец решили оставить в покое и ее, и молодого человека. Мы продержали его в больнице неделю. Кроме операционного шва, его ничто не беспокоило.
Я обнаружил, что медицина — странное и во многом неоднозначное занятие. Огромная ответственность и поразительная бесцеремонность! Мы накачиваем людей наркотиками, втыкаем в них иголки и трубки, манипулируем химией, биологией и физикой их организма, погружаем в бессознательное состояние и выставляем на обозрение их тела. Мы непоколебимо уверены в своих профессиональных знаниях и навыках. Однако, при близком рассмотрении — достаточно близком, чтобы увидеть нахмуренные лбы, сомнения и ошибки, провалы, а не только удачи, — поражаешься, как много в медицине путаницы, неопределенности и в то же время сюрпризов.
Меня до сих пор поражает, сколько по сути глубоко человеческого в этой профессии. Размышляя о медицине и ее удивительных возможностях, сразу вспоминаешь науку и все, что она дала нам для борьбы с болезнями и страданиями: анализы, приборы, лекарства, процедуры. Безусловно, это основа практически всех достижений медицины, но мало кто понимает, как это на самом деле работает. У вас непрекращающийся кашель — что вы делаете? Обращаетесь не к науке, а к врачу. К врачу, у которого бывают удачные и неудачные дни. К врачу с неприятным смехом и дурной стрижкой. К врачу с еще тремя пациентами на очереди, с неизбежными пробелами в знаниях, с навыками, которые он еще только пытается освоить.
Недавно в одну из больниц, где я проходил интернатуру, доставили вертолетом ребенка. Ли Трэн, назовем его так, был маленьким мальчишкой с волосами торчком, явно еще учеником начальных классов. Он рос здоровым, но неделю назад у него начался сухой стойкий кашель и матери он показался необычно вялым. В последние два дня мальчик почти не ел. Она решила, что это, скорее всего, простуда, но накануне вечером ему вдруг стало хуже: бледный, дрожащий, он надсадно дышал, ему не хватало воздуха. Врачи отделения неотложной помощи местной больницы сделали ребенку ингаляцию, решив, что у него приступ астмы. Однако на рентгене обнаружилось огромное новообразование, заполнившее среднюю часть его грудной клетки. Для более детальной картины провели КТ-сканирование. На контрастном черно-белом изображении новообразование оказалось плотной, размером почти с футбольный мяч, опухолью, которая охватывала сосуды, ведущие к сердцу, сместила само сердце и сдавила дыхательные пути обоих легких. Опухоль полностью перекрыла путь к правому легкому, и без доступа воздуха произошел коллапс, превративший легкое в маленький серый комочек на томограмме. Вместо легкого правую часть грудной клетки заполняло огромное количество жидкости из опухоли. Ли жил исключительно благодаря левому легкому, но и этот воздушный канал был сдавлен опухолью. Районная больница, в которой он лежал, не располагала средствами решения этой проблемы, и врачи направили его к нам. У нас были специалисты и высокотехнологичное оборудование, но это не значило, что мы знали, что делать.
Когда Ли оказался в палате интенсивной терапии, его дыхание превратилось в тонкий надсадный свист, слышный за три кровати. Научная литература высказывается о такой ситуации однозначно: это смертельно опасно. Если положить мальчика на спину, опухоль полностью перекроет еще функционирующую часть дыхательных путей. Седативные препараты или анестезия могут привести к тому же результату. Оперативное удаление опухоли невозможно. Известно, однако, что при химиотерапии такие опухоли иногда уменьшаются в размерах за несколько дней. Но как выиграть для ребенка это время? Не было гарантий, что он переживет ночь.
Кровать Ли обступили две медсестры, анестезиолог, младший ординатор отделения детской хирургии и три ординатора, включая меня; старший хирург-педиатр ехал из дома, поддерживая с нами контакт по телефону; онколога также вызвали. Одна из медсестер подсунула под спину Ли подушки, чтобы тело располагалось по возможности вертикально. Другая наложила ему на лицо кислородную маску и подключила мониторы для контроля жизненно важных показателей. Мальчик тревожно смотрел на нас широко раскрытыми глазами и дышал раза в два чаще нормы. Его родители, вынужденные добираться наземным транспортом, были еще далеко, но он держался с удивительной храбростью, которую дети проявляют значительно чаще, чем принято считать.
Моей первой мыслью было ввести в дыхательные пути мальчика жесткую трубку, чтобы не дать опухоли полностью их пережать, но анестезиолог раскритиковала ее. Пришлось бы вводить трубку без нормального обезболивания ребенку в сидячем положении. К тому же опухоль далеко распространилась вдоль дыхательных путей. Она сомневалась, что трубку удастся провести через них без проблем.
Хирург-ординатор внес другое предложение: если поставить в правую часть грудной клетки катетер и отвести заполнившую ее жидкость, опухоль отклонится от левого легкого. Старший хирург по телефону высказал опасение, что это ухудшит ситуацию. Если вывести из положения равновесия булыжник, можно ли уверенно предсказать, в какую сторону он покатится? Однако лучшей идеи не нашлось, и кончилось тем, что он разрешил нам действовать.
Я как можно проще объяснил Ли, что мы собираемся сделать. Сомневаюсь, что он понял, но, возможно, это было к лучшему. Когда мы подготовили все необходимое, двое из нас крепко зафиксировали Ли, а третий ввел ему между ребер местный анестетик, сделал разрез скальпелем и вставил катетер длиной 45 см. Из трубки полилась кровянистая жидкость, ее вытекло больше литра, и я испугался, что мы совершили ужасную ошибку. Однако, как оказалось, мы принесли больше пользы, чем надеялись. Опухоль сдвинулась точно вправо, и каким-то чудом открылся доступ воздуха в оба легких. Дыхание Ли сразу стало легче и тише. Понаблюдав за ним несколько минут, мы и сами задышали спокойнее.
Впоследствии я задумался, чем мы руководствовались в своем выборе. Это было немногим больше, чем догадка, — мы действовали буквально вслепую. У нас не было запасного плана, если бы случилось несчастье. Изучая в библиотеке отчеты об аналогичных случаях, я выяснил, что существовали и другие варианты. Очевидно, самым безопасным было бы подключить ребенка к аппарату искусственного кровообращения{1}, который используется при операциях на сердце, или хотя бы иметь аппарат под рукой. Я обсудил этот случай с другими его участниками, и оказалось, никто ни о чем не сожалел. Ли выжил, это главное. Он уже проходил химиотерапию. Анализ жидкости показал, что опухоль является лимфомой. По словам онколога, это давало Ли более чем 70 %-ную вероятность полного выздоровления.
В такие моменты и проявляется истинная суть медицины. Именно тому, что происходит в эти моменты, когда можно увидеть и понять, как все работает на самом деле, и посвящена моя книга. Мы считаем медицину хорошо организованной областью знаний и набором процедур, но это далеко не так. Это несовершенная наука, мир постоянно меняющихся знаний, неопределенной информации, людей, которым свойственно ошибаться, и жизней, висящих на волоске. В том, что мы делаем, безусловно, присутствует и наука, но не менее важны опыт, интуиция, а порой и просто догадка. Сохраняется некий разрыв между тем, что мы знаем, и тем, к чему стремимся. Это осложняет каждый наш шаг.
Я хирург-ординатор[1], почти завершивший восьмилетний курс общей хирургии, и эта книга — результат моего богатого опыта. Мне довелось поработать в научной лаборатории, побывать исследователем в области общественного здравоохранения, студентом, изучающим философию и этику, и правительственным консультантом в области здравоохранения. Кроме того, я сын двух врачей, супруг и родитель. Я пытался отразить в книге свое ви́дение медицины во всех этих ипостасях, но главным источником для меня послужил опыт повседневной заботы о людях. Ординатор имеет очевидное преимущество в плане познания медицины: вы инсайдер, вы все видите и во всем участвуете, в то же время все это для вас новое.
Пожалуй, стремление вступать в борьбу с неопределенностями и дилеммами практической медицины — неотъемлемое свойство хирургии. Хирургия пользуется всеми технологическими возможностями медицины, но лучшие хирурги сохраняют глубокое понимание ограничений как науки, так и человеческих возможностей. В то же время они должны действовать решительно.
Название книги — «Тяжелый случай»[2] — это не только намек на неожиданные изменения состояния больного, с которыми могут столкнуться врачи, но и, что важнее, выражение моей обеспокоенности неопределенностями и дилеммами, которые неизбежны в нашей работе. Это медицина, о которой не прочитаешь в учебниках и которая озадачивает меня, порой создает проблемы, но при этом восхищает с тех пор, как я вступил в ряды врачей. Я разделил книгу на три части. В первой рассматривается неизбежность врачебных ошибок, в том числе вопросы о том, как случается ошибка, как новичок учится оперировать, что значит быть хорошим врачом и почему некоторые становятся плохими врачами. Вторая часть посвящена загадкам и тайнам медицины и настойчивым попыткам раскрыть их. В ней описаны реальные истории болезней — например, архитектора с беспричинной инвалидизирующей болью в спине, молодой женщины с непроходящей ужасной тошнотой, а также ведущей теленовостей, неудержимо краснеющей от смущения и утратившей из-за этого профпригодность. Третья, последняя, часть посвящена неопределенности как таковой, поскольку главное и самое интересное в медицине не то, сколько мы, врачи, знаем, а сколько всего мы пока не знаем и как ищем разумные способы справиться с собственным незнанием.
На страницах этой книги я стремился рассказать не только об идеях, но и о людях, вокруг которых все вертится, — а это в равной мере и пациенты, и врачи. В конечном счете главный предмет моего интереса — практическая медицина в повседневной жизни людей: что происходит, когда упрощения науки сталкиваются с таким сложным явлением, как жизнь конкретного человека. Несмотря на повсеместное распространение медицины в современной жизни, она остается по большей части загадочной и зачастую неверно понимаемой сферой деятельности. Мы привыкли считать ее более совершенной, чем она есть, и в то же время менее удивительной, чем она может быть.
Часть I
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ОШИБОК
Методом проб и ошибок
Пациенту нужно было поставить центральный катетер. «Это ваш шанс, — сказала С., старший ординатор (я никогда прежде этого не делал). — Возьмите все необходимое и вызовите меня, когда будете готовы».
Шла четвертая неделя моего обучения в отделении хирургии. Карманы моего короткого белого халата раздулись от распечаток данных пациентов, ламинированных карточек с инструкциями по проведению реанимационных действий и использованию диктофона, двух руководств по хирургии, стетоскопа, перевязочных материалов, талонов в столовую, фонарика в форме авторучки, ножниц и мелочи примерно на доллар. Поднимаясь по лестнице на этаж, где лежал пациент, я был сам не свой.
Это же хорошо, твердил я себе, моя первая настоящая процедура. Пациент — мужчина за 50, тучный, молчаливый — поправлялся после операции на брюшной полости, выполненной около недели назад. Работа его кишечника еще не восстановилась, и он не мог есть. Я объяснил пациенту, что он нуждается в парентеральном питании, для чего в его грудную клетку необходимо вставить катетер. Я проведу эту процедуру здесь, в его палате, он только должен лечь ровно, а я сделаю местное обезболивание и поставлю катетер. Я умолчал о том, что длина катетера 20 см и что он войдет в полую вену, главный сосуд, снабжающий кровью сердце. Не объяснил и того, насколько это сложная процедура. Имеются «незначительные риски», упомянул я, имея в виду, например, кровотечение или коллапс легкого; но у опытного врача проблемы такого рода возникают реже чем в одном случае из 100.
Я, однако, не был опытным врачом, к тому же на меня давило знание о трагических случаях. Женщина умерла от массивного кровотечения, после того как ординатор травмировал ей полую вену; мужчине пришлось делать операцию на грудной клетке из-за того, что ординатор упустил струну, проходящую внутри катетера, и она мигрировала по кровеносному руслу в сердце; другой мужчина перенес остановку сердца, поскольку из-за процедуры началась фибрилляция желудочков. Однако ничего этого я не сообщил, когда попросил у пациента согласие на установку катетера. Он ответил: «Хорошо». Можно было двигаться дальше.
Я дважды видел, как С. ставила центральный катетер, последний раз накануне, и пристально следил за каждым ее шагом. Я наблюдал, как она подготовила инструменты, уложила пациента и поместила валик из полотенца между лопатками, чтобы выпятилась грудная клетка. Видел, как С. обработала участок груди антисептическим средством, ввела лидокаин — анестетик местного действия — а затем, облачившись в полностью стерильный костюм, сделала прокол возле ключицы толстой иглой 7,5 см длиной, насаженной на шприц. Пациент даже не вздрогнул. С. объяснила мне, как не задеть иглой легкое («входите под крутым углом; остановитесь точно под ключицей») и как найти подключичную вену, ветвь полой вены, которая проходит над легким возле его верхушки («входите под крутым углом; остановитесь точно под ключицей»). Она ввела иглу почти на всю длину, оттянула поршень шприца. О том, что игла попала в вену, свидетельствовала темно-бордовая кровь, заполнившая шприц. («Если кровь ярко-красная, вы повредили артерию, — отметила С. — Это нехорошо».)
Когда конец иглы вошел в вену, нужно расширить отверстие в ее стенке, ввести катетер и правильно его ориентировать — вниз к сердцу, а не вверх к мозгу, — не повредив ни сосудов, ни легкого, ни чего-либо другого. Для этого, объяснила С., сначала устанавливается проволочный проводник. Она отсоединила шприц, оставив иглу на месте. Оттуда потекла кровь. Затем она взяла проволоку больше полуметра длиной 20-го калибра, похожую на стальную струну «ре» электрогитары, ввела почти на всю ее длину сквозь просвет иглы и дальше в направлении полой вены. «Ни в коем случае не проталкивайте с силой, — предупредила С., — и не вздумайте упустить». По экрану кардиомонитора побежала цепочка быстрых сердцебиений, и она тут же вытянула проволоку на пару сантиметров — проводник уткнулся в сердце, мгновенно вызвав фибрилляцию. «Думаю, мы на месте», — спокойно заметила С. и обратилась к пациенту: «Вы молодец. Еще пара минут». Она извлекла из тела иглу, стянула ее с проводника и заменила расширителем из толстого жесткого пластика, с силой втолкнув его, чтобы расширить отверстие в стенке вены. Убрала расширитель и стала вводить поверх проволоки центральный катетер — гибкую, толщиной со спагетти, трубку из желтого пластика, — пока он целиком не скрылся в теле. Теперь можно было удалить проводник. С. промыла катетер раствором гепарина и пришила его к груди пациента. Вот и все.
Я видел, как делается эта процедура. Теперь была моя очередь выполнить ее. Я стал собирать необходимые материалы — набор для установки центрального катетера, перчатки, хирургический костюм, шапочку, маску, лидокаин — и уже с этим провозился целую вечность. Наконец, с полным комплектом, я остановился у двери в палату пациента и застыл с отрешенным видом, пытаясь мысленно прокрутить в голове все этапы процедуры. В голове царила удручающая путаница, но медлить нельзя. У меня был список дел на целую страницу, которые еще предстояло выполнить: выписать миссис А, записать мистера В на ультразвуковое обследование брюшной полости, снять кожные скобы у миссис С… Примерно каждые 15 минут на пейджер поступало очередное задание: нужно осмотреть мистера Х, он жалуется на тошноту, приехали близкие мисс Y — «кто-то» должен с ними поговорить, мистеру Z необходимо дать слабительное. Я сделал глубокий вдох и, изобразив на лице что-то вроде «не волнуйтесь, я знаю, что делаю», пошел ставить центральный катетер.
Я разложил материалы на прикроватном столике, расстегнул пижаму пациента и уложил его на спину, с обнаженной грудью и руками, вытянутыми вдоль тела. Включил флуоресцентное верхнее освещение и поднял кровать, отрегулировав ее под свой рост. Отправил С. сообщение, что она может приходить. Надел костюм и перчатки и выложил в стерильный лоток центральный катетер, проволочный проводник и другие материалы из набора так же, как, по моим воспоминаниям, это делала С. Я набрал в шприц пять кубиков лидокаина, обмакнул два тампона в желто-коричневый антисептический раствор бетадина и вскрыл упаковку шовного материала. Теперь я был во всеоружии.
Пришла С.
— Какой у пациента уровень тромбоцитов?
У меня екнуло сердце. Я это не проверил. Очень плохо: если показатель слишком низкий, процедура может вызвать серьезное кровотечение. С. пошла справиться в компьютере. Результаты оказались приемлемыми.
Пристыженный, я начал обтирать грудь пациента тампонами.
— Подложили ему под спину валик из полотенца? — спросила С.
Нет, я забыл и об этом. Пациент поглядел на меня. С. молча взяла полотенце, скатала и сама подсунула ему под спину. Я покончил с антисептиком и укрыл пациента, оставив обнаженной верхнюю правую часть грудной клетки. Он поежился под простынями. С. начала проверять подготовленный мной лоток. Я весь подобрался.
— Где дополнительный шприц для промывания катетера после установки?
Проклятье. Она вышла и принесла шприц.
Я стал нащупывать ориентиры на груди пациента. Здесь? — спросил я одними глазами, не желая еще больше нервировать его. С. кивнула. Я заморозил место лидокаином («сейчас, сэр, вы почувствуете нажатие и жжение»), взял длинную иглу и проколол кожу. Я вводил ее медленно и неуверенно, по миллиметру, боясь проткнуть что-нибудь не то, и думал, до чего же она большая, эта чертова игла. Не верилось, что я втыкаю ее человеку в грудь. Я сосредоточился на том, чтобы сохранить крутой угол, но продолжал тыкаться в ключицу, вместо того чтобы пройти под ней.
— Ой!
— Простите!
С. показала волнообразным движением руки, что нужно проникнуть под ключицу. На сей раз у меня получилось. Я потянул поршень шприца. Ничего. Она показала, что нужно войти глубже. Я вошел глубже. Ничего. Я вытащил иглу, стер с нее налипшие частицы плоти и попробовал снова.
— Ой!
Опять недостаточно глубоко. Я вновь забрался под ключицу. Потянул поршень. По-прежнему ничего. Он слишком тучный, подумал я. С. надела перчатки и балахон и сказала: «Давайте-ка я взгляну». Я передал ей иглу и посторонился. Она воткнула иглу, потянула поршень шприца и тут же оказалась на месте. «Скоро мы закончим», — подбодрила она пациента. Я чувствовал себя ни на что не годным.
Она позволила мне сделать следующий шаг, но я и его запорол. Я понял, насколько длинным и гибким является проволочный проводник, лишь после того, как вытянул его из пластикового рукава и, поместив один его конец в тело пациента, другим концом едва не задел нестерильное постельное белье. Я забыл про расширитель, и С. пришлось мне о нем напомнить. Я недостаточно сильно нажал на расширитель, и С. сама втолкнула его на всю длину. Наконец, мы вставили катетер, промыли и пришили его.
За дверями палаты С. сказала, что в следующий раз нужно действовать увереннее, но в общем беспокоиться не о чем: «У вас получится. Просто нужна практика». Я вовсе не был в этом уверен. Процедура оставалась для меня тайной за семью печатями, а мысль о том, чтобы так глубоко вслепую втыкать иглу человеку в грудь, по-прежнему была невыносимой. Я с трепетом ждал контрольного рентгеновского обследования, но все оказалось прекрасно: я не повредил легкое, и катетер стоял правильно.
Не все понимают притягательность хирургии. Когда студент-медик впервые оказывается в операционной и видит, как хирург прижимает скальпель к человеческому телу и разрезает его как фрукт, то или содрогается от ужаса, или застывает в благоговении. Я застыл. Меня зачаровали не кровь и внутренности, а мысль о том, что обычный человек может быть настолько уверенным в себе, чтобы вообще взять в руки скальпель.
О хирургах с укоризной говорят: «Иногда они ошибаются, но никогда не сомневаются». Мне, однако, это кажется их сильной стороной. Каждый день хирурги сталкиваются с неопределенностью. Информация неточна; научные данные неоднозначны; собственные знания и мастерство всегда несовершенны. Даже при простейшей операции нельзя быть уверенным, что пациент хорошо ее перенесет — и вообще выживет. Впервые стоя у операционного стола, я удивлялся, откуда хирург знает, что принесет пациенту благо, что все шаги пройдут, как запланировано, что кровотечение не выйдет из-под контроля, не разовьется инфекция, внутренние органы не будут повреждены. Конечно, он этого не знал. И все-таки сделал разрез.
Позднее, еще будучи студентом, я получил разрешение сделать разрез самостоятельно. Хирург провел маркером 15-сантиметровую пунктирную линию по животу погруженного в наркоз пациента и, к моему удивлению, велел сестре передать мне скальпель. Я помню, что он был еще теплым после стерилизации в автоклаве. Хирург сказал, чтобы я туго натянул кожу большим и указательным пальцами свободной руки и сделал один плавный разрез на глубину до жирового слоя. Я прижал лезвие к коже и провел. Ощущение было странным и завораживающим, в нем смешивались возбуждение от расчетливой жестокости этого деяния, тревога, все ли ты сделал правильно, и праведная вера, что это на пользу больному. Присутствовало и чуточку тошнотворное чувство из-за того, что потребовалось приложить больше силы, чем я предполагал. (Кожа у человека толстая и пружинистая, с первой попытки я не смог проникнуть достаточно глубоко; пришлось резать дважды.) В этот момент я захотел стать хирургом — не любителем, которому дали разок подержать скальпель, а уверенным в себе профессионалом, для которого эти действия стали обыденными.
Однако ординатор начинает без этого ощущения господства над ситуацией — в нем говорит труднопреодолимый инстинкт, не позволяющий резать плоть человека ножом и втыкать ему иглы в грудь. В первый день в качестве хирурга-ординатора меня направили в отделение неотложной помощи. Среди моих первых пациентов оказалась худая темноволосая женщина под 30, прихромавшая, стиснув зубы, с 75-сантиметровой деревянной ножкой от стула, каким-то образом воткнувшейся ей в ступню. Когда она садилась на кухонный стул, у того отломилась ножка; женщина подскочила, чтобы не упасть, и случайно со всей силы наступила босой ногой на шуруп длиной 7 см, торчащий из ножки. Я делал все возможное, чтобы не выглядеть как человек, всего неделю назад получивший медицинский диплом, изо всех сил стараясь казаться невозмутимым, давно отвыкшим удивляться — словом, видевшим подобное сотни раз. Осмотрев ступню, я понял, что шуруп проник в кость в основании большого пальца. Не было ни кровотечения, ни, насколько я мог судить, ощупав ногу, перелома.
— Ух ты, наверное, больно, — ляпнул я, как полный идиот.
Действия представлялись очевидными: вколоть противостолбнячную сыворотку и вытащить шуруп. Я заказал сыворотку, но насчет шурупа засомневался. Что, если начнется кровотечение? Или я сломаю кость? Или стрясется что-нибудь похуже? Я извинился и бросился на поиски доктора У., старшего дежурного хирурга. Он готовился оперировать жертву автомобильной аварии. Пациент был в ужасном состоянии, вокруг кричали люди, весь пол был залит кровью — неподходящее время для вопросов.
Я назначил рентген, решив выиграть время и проверить свое неквалифицированное мнение, что у пациентки нет перелома. Как и следовало ожидать, на это ушел час и никакого перелома на снимке не оказалось — только шуруп, воткнувшийся, по словам рентгенолога, «в головку первой плюсневой кости». Я показал снимок пациентке: «Видите, шуруп воткнулся в головку первой плюсневой кости». Она поинтересовалась, что я собираюсь делать. Да, вот именно, что же я собираюсь делать?
Я пошел искать доктора У. Он все еще трудился над пострадавшим в аварии, но мне удалось отвлечь его, чтобы показать рентген. Он взглянул, усмехнулся и спросил, что я собираюсь делать. «Вытащить шуруп?» — решился я. «Да», — ответил он, подразумевая: «Ну разумеется!» Он убедился, что я ввел пострадавшей сыворотку от столбняка, и выставил меня вон.
Вернувшись в палату, я объяснил пациентке, что вытащу шуруп, готовясь услышать изумленное: «Вы?» Она, однако, ответила: «Хорошо, доктор», — и настал момент браться за дело. Сначала я усадил ее на смотровой стол так, чтобы нога свешивалась сбоку, но, оценив результат, усомнился, что у нас что-нибудь получится. Наконец я уложил пациентку таким образом, чтобы стопа выдавалась за торец стола, а деревяшка торчала вверх. С каждым движением женщины боль усиливалась. Я сделал укол местного обезболивающего туда, куда вошел шуруп, и это немного помогло. Тогда я взял ее ступню в одну руку, деревяшку в другую и на миг оцепенел. Смогу ли я это сделать? Неужели я действительно должен это сделать? Кто я такой, чтобы решиться на это?
Наконец я просто заставил себя продолжать: вслух сосчитал до трех и дернул, сначала слишком робко, затем, переборов себя, сильнее. Пациентка вскрикнула. Шуруп не двигался. Я покрутил деревяшку, и шуруп вдруг выскользнул. Крови не было. Я промыл рану так, как описывалось в разделе учебника об обработке колотых ран. Женщина обнаружила, что может ходить, хотя стопу саднило. Я предупредил ее об опасности инфицирования и о признаках, по которым его можно заметить. Ее благодарность была бесконечной и льстила мне безмерно, я чувствовал себя мышкой из сказки, вытащившей занозу у льва, и вечером отправился домой весьма воодушевленный.
В хирургии, как нигде, навык и уверенность приобретаются с опытом — с осечками и унижениями. Как и теннисисты, гобоисты или специалисты по ремонту компьютеров, мы должны практиковаться, чтобы стать мастерами своего дела. В случае с медициной, однако, есть отличие: мы практикуемся на людях.
Моя вторая попытка поставить центральный катетер прошла не лучше первой. Пациентка находилась в реанимации, смертельно больная, на аппарате искусственной вентиляции легких, и катетер был нужен, чтобы вводить сильнодействующие кардиотропные средства прямо в сердце. Она находилась под глубоким наркозом, чему я был очень рад: не запомнит, каким я оказался неумехой.
На сей раз я подготовился лучше. Валик из полотенца был между лопаток, шприц с гепарином на лотке. Я проверил результаты анализов — в норме — и озаботился пошире расстелить простыню, чтобы, если снова не услежу за проволочным направителем, он точно не коснулся нестерильной поверхности.
Тем не менее меня ждал полный провал. Я ввел иглу сначала на недостаточную глубину, затем слишком глубоко. Растерянность заставила меня забыть о робости, и я пробовал колоть под разными углами. Все впустую. На краткий миг в шприце мелькнула кровь, свидетельствуя, что я все же попал в вену. Одной рукой удерживая иглу, я стал другой снимать шприц. Однако игла сидела на нем слишком туго и, пока я возился со шприцем, выскользнула из вены. У пациентки началось кровотечение. Добрых пять минут я нажимал на это место так сильно, как только мог, но кожа вокруг прокола продолжала синеть и чернеть. Из-за гематомы установить катетер стало невозможно. Я уже хотел сдаться, но катетер был необходим, а курировавший меня ординатор — второго года практики — был настойчив в том, что я должен выполнить процедуру самостоятельно. После того как рентген показал, что я не повредил легкое, я сделал еще одну попытку с другой стороны груди, взяв новый набор для установки катетера, но снова промахнулся, и, прежде чем пациентка превратилась в подушку для иголок, мой куратор взял дело в свои руки. Впрочем, ему самому пришлось потратить немало времени и сделать два или три прокола, чтобы нащупать вену. Мне стало немного легче. Возможно, это был особенно сложный случай.
Через несколько дней, потерпев неудачу с третьим пациентом, я засомневался всерьез. То же самое: колю, колю — и все без результата. Я отступился. На этот раз ординатор, наблюдавший за мной, справился с первой попытки.
Хирурги как социальная группа склонны к своеобразному эгалитаризму. Они верят не в талант, а в опыт. Многие думают, что нужно иметь золотые руки, чтобы стать хирургом, но это неправда. Во время собеседований для включения в программы обучения хирургии меня не заставляли шить или сдавать тест на мануальную ловкость, не проверяли, твердая ли у меня рука. Необязательно даже иметь все десять пальцев. Несомненно, талант полезен. Профессора говорят, что раз в два-три года появляется по-настоящему одаренный студент — с необыкновенной легкостью осваивающий сложные манипуляции, целостно воспринимающий операционную область, предвосхищающий проблемы. Тем не менее штатные хирурги утверждают, что самое важное для них — это найти людей ответственных, трудолюбивых и достаточно упертых, чтобы упорно овладевать этим трудным делом день и ночь, долгие годы. Как сказал один профессор хирургии, если придется выбирать между доктором наук, методично клонирующим ген, и талантливым скульптором, он без колебаний отдаст предпочтение первому. Безусловно, скульптор более одарен в физическом отношении, но можно быть уверенным, что обладатель докторской степени более надежен. Хирурги убеждены, что навык можно освоить, а вот терпению не научишься. Это необычный подход к подбору кадров, но он соблюдается везде и всюду на всех уровнях, даже в лучших хирургических отделениях. Берут новичков совершенно без опыта, тратят годы на их обучение и комплектуют бóльшую часть штата собственноручно выращенными кадрами.
Это работает. Было проведено много исследований с участием элитных исполнителей (всемирно известных скрипачей, шахматных гроссмейстеров, профессиональных фигуристов, математиков и т. д.), и принципиальная разница между ними и менее успешными собратьями заключается в совокупном объеме самоотверженной практики в избранном деле. В действительности, возможно, самый главный талант — талант к практике как таковой. К. Андерс Эрикссон, когнитивный психолог и эксперт по результативности, отмечает, что наиболее важное условие, при котором присущие от рождения способности могут проявиться, — это готовность упорно обучаться{1}. Так, он обнаружил, что ведущие исполнители не любят упражняться точно так же, как и все прочие (поэтому, например, спортсмены и музыканты обычно перестают заниматься, уйдя на покой), но обладают большей, чем остальные, силой воли, чтобы трудиться несмотря ни на что.
Я вовсе не был уверен в своей силе воли. Что толку, размышлял я, продолжать пытаться ставить центральный катетер, если мне даже и близко не удается справиться с этим? Если бы я четко представлял себе, что делаю неправильно, то хотя бы знал, на чем сосредоточиться. Но я этого не представлял. Разумеется, все вокруг давали советы. Вводи иглу срезом вверх. Нет, вводи иглу срезом вниз. Продави иглу посередине. Нет, изогни иглу. Какое-то время я старался избегать этой процедуры. Вскоре, однако, подоспел очередной пациент.
Обстоятельства сложились самые неблагоприятные: был конец дня, а всю предыдущую ночь я провел на ногах. У пациента — морбидное ожирение (вес более 140 кг). Он не мог лежать горизонтально, поскольку вес груди и живота мешал ему дышать. Однако центральный катетер был ему совершенно необходим. У него серьезно инфицировалась рана, требовалось внутривенное введение антибиотиков, и никто не смог найти у него вены на руках для установки периферического катетера. Я почти не надеялся на успех, но ординатор делает то, что велено, а мне было велено попытаться поставить катетер.
Я вошел в палату. Пациент выглядел испуганным и сказал, что вряд ли пролежит на спине больше минуты, но он понимал ситуацию и был готов сделать все от него зависящее. Мы договорились, что он останется сидеть с поднятым изголовьем кровати, пока возможно. Посмотрим, как далеко мы сможем продвинуться.
Я проделал все подготовительные действия: проверил результаты анализов, разложил набор, подсунул валик из полотенца и пр. Обработал грудь пациента антисептиком и обложил простынями, пока он сидел. За мной снова наблюдала С., старший ординатор, и, когда все было готово, я попросил ее опустить изголовье кровати пациента, на лицо которого мы наложили кислородную маску. Плоть на его грудной клетке заколыхалась. Я не мог нащупать ключицу, чтобы определить правильное место для прокола, а он уже начал задыхаться и покраснел. Я взглядом спросил у С., не желает ли она взять инициативу в свои руки. Она дала мне знак продолжать. Прикинув, где находится нужное место, я заморозил его лидокаином и воткнул большую иглу. На миг мне показалось, что ее длины не хватит, но тут почувствовал, как кончик иглы скользнул под ключицу. Я протолкнул ее чуть глубже и потянул поршень. Невероятно, но шприц наполнился кровью. Мне все-таки удалось войти в вену. Я сосредоточился на том, чтобы удержать иглу на месте, не сдвинув ни на миллиметр, пока снимал шприц и вводил проводник. Проволока легко проскользнула внутрь. Пациент уже боролся за каждый вдох. Мы вернули его в сидячее положение и дали возможность перевести дыхание. Затем, уложив его еще раз, я расширил отверстие и вставил центральный катетер. «Прекрасная работа», — только и сказала С., уходя.
Я по-прежнему не представляю, что сделал по-другому в тот день. С той поры, однако, проблем с катетерами у меня больше никогда не было. Забавная штука практика. День за днем представляешь лишь отдельные фрагменты того, что нужно сделать, и вдруг однажды все складывается в единое целое. Сознательное обучение превращается в знание на уровне бессознательного, и непонятно даже, как именно это происходит.
Сейчас на моем счету уже больше сотни поставленных центральных катетеров. Но я никоим образом не застрахован от ошибок. На мою долю выпало неизбежное количество того, что мы предпочитаем называть «нежелательными явлениями». Например, я проткнул легкое одного пациента — правое легкое хирурга из другой больницы, заметьте, — и, по теории вероятности, сделаю это еще. Иногда кажется, что все должно пройти гладко, но не проходит, независимо от моих действий. (У нас для этого есть особое словечко. «Как прошло?» — спрашивает коллега. «Запорол», — отвечаю я, и ничего объяснять не приходится.)
Бывает, однако, что все получается идеально. Ты ни о чем не думаешь. Ни на чем не концентрируешься. Любое движение дается без усилий. Ты берешь иглу. Прокалываешь грудную клетку. Ощущаешь, как игла движется: характерное скольжение сквозь жировой слой, небольшое препятствие в плотной мышце, легкий толчок при прохождении стенки вены — и ты на месте. В такие моменты это не просто легко — это красиво.
Обучение хирургии — это бесконечно повторяющийся процесс: сначала блуждание в потемках, затем осознание отдельных фрагментов и, наконец, знание и редкие моменты красоты — снова и снова, во все более сложных случаях, со все большим риском. Сначала отрабатываешь основы: как надевать перчатки и хирургический костюм, обкладывать пациента стерильными простынями, держать скальпель, вязать двойной узел на шелковой хирургической нити (не говоря уже о том, как вести запись на диктофон, пользоваться компьютером, заказывать лекарственные препараты). Затем задачи становятся менее банальными: как разрезáть кожу, держать электрокоагулятор, раскрывать грудную клетку, перевязывать кровоточащий сосуд, удалять опухоль, зашивать рану — при удалении опухоли молочной железы. По прошествии шести месяцев я ставил катетеры, вырезал аппендиксы, пересаживал кожу, иссекал грыжи и удалял молочные железы. К концу года ампутировал конечности, делал биопсию лимфатических узлов и геморроидэктомию. К концу второго — выполнял трахеотомии, провел несколько операций на тонкой кишке и делал лапароскопические операции на желчном пузыре.
Идет седьмой год моего обучения. Лишь теперь разрезание кожи становится для меня самым обычным действием, не более чем началом операции. Когда я оказываюсь внутри тела, борьба продолжается. Теперь я пытаюсь научиться выполнять резекцию аневризмы брюшной аорты, удалять опухоли поджелудочной железы, устранять закупорку сонных артерий. Я выяснил, что не являюсь ни одаренным, ни неуклюжим. Практика, практика и еще раз практика — я просто набиваю руку.
Нам, врачам, трудно обсуждать этот вопрос с пациентами. Мы всегда несем нравственное бремя необходимости практиковаться на людях, но предпочитаем об этом умалчивать. Перед каждой операцией я захожу в предоперационную палату в хирургическом костюме и представляюсь пациенту — всякий раз одинаково: «Добрый день, я доктор Гаванде. Я хирург-ординатор и буду ассистировать при вашей операции». Вот и все. Я протягиваю руку и улыбаюсь. Спрашиваю пациента, все ли сейчас в порядке. Мы немного разговариваем. Я отвечаю на вопросы. В очень редких случаях мое сообщение повергает пациентов в смятение: «Никакой ординатор меня оперировать не будет!» Я пытаюсь их ободрить: «Волноваться не о чем. Я всего лишь ассистент. За все отвечает штатный хирург».
Здесь нет ни слова прямой лжи. Штатный хирург действительно отвечает за пациента, и ординатор понимает, что об этом нельзя забывать. Например, недавно я удалял злокачественную опухоль прямой кишки у 75-летней женщины. Штатный хирург с самого начала операции стоял напротив меня. Именно он, не я, решал, где резать, как изолировать опухоль, какую часть прямой кишки отсечь.
Тем не менее сказать, что я всего лишь ассистировал, означало бы покривить душой. Я не был просто дополнительной парой рук. Иначе с чего бы я держал нож? С какой стати стоял бы с той стороны стола, где положено находиться хирургу? Зачем стол стали бы подгонять под мой рост — больше 1,8 м? Верно, я был там, чтобы помогать, но и для того, чтобы практиковаться. Это было очевидно, когда настал момент восстанавливать целостность прямой кишки. Соединить края раны можно двумя способами — зашить вручную или скрепить скобами. Использовать скобы быстрее и проще, но штатный хирург предложил сшить края — не потому, что так было лучше для пациента, а потому, что до сих пор я делал это слишком редко. При правильном выполнении результаты обоих способов аналогичны, но хирург должен был следить за мной как коршун. Я шил медленно и неточно. В какой-то момент он заметил, что я шью слишком широко, заставил вернуться и наложить в промежутках дополнительные стежки, чтобы шов не начал кровоточить. Потом оказалось, что я не захватываю иглой достаточно ткани, чтобы обеспечить плотное соединение. «Больше поворачивайте запястье», — сказал он. «Так?» — спросил я. «Ну, примерно», — ответил он. Я учился.
Врачи давно имеют дело с противоречием между обязательным требованием обеспечить пациентам наилучшую доступную помощь и необходимостью давать новичкам возможность набраться опыта. Ординатура призвана уменьшить возможный вред с помощью кураторства и многоуровневой ответственности, поэтому можно считать, что обучение ординаторов идет на пользу пациентам. Исследования обычно показывают, что клинические больницы достигают лучших результатов, чем больницы, в которых обучение не ведется. Даже если ординаторы совершенно не имеют опыта, от них все же есть польза: они повсюду суют свой нос, проверяют состояние пациентов, задают вопросы и держат штатный персонал в тонусе. В то же время невозможно устранить риски, возникающие при первых неумелых попытках начинающего врача поставить центральный катетер, удалить опухоль груди или сшить два сегмента толстой кишки. Несмотря на все предосторожности, у новичков процедуры в среднем проходят менее удачно, чем у опытных врачей.
У нас нет иллюзий на этот счет. Когда штатный врач приводит в клинику родственника, нуждающегося в операции, вопрос о степени участия в ней ординаторов становится всеобщей головной болью. Даже если лечащий врач настаивает на обычном порядке, ординатор, переодеваясь в хирургический костюм, знает, что набивать руку ему не дадут: он точно не будет ставить центральный катетер, если никогда прежде этого не делал. С другой стороны, больничные отделения и клиники, где на ординаторов возлагается наибольшая ответственность, переполнены бедняками, людьми без медицинской страховки, пьяницами и слабоумными. Ординаторы в наши дни имеют мало возможностей оперировать самостоятельно, так, чтобы рядом не стоял в полной готовности штатный хирург, — прежде нужно закончить ординатуру и дорасти до собственных операций, — но, когда такое все-таки случается, пациентами оказываются именно эти, самые незащищенные.
Это неудобная правда о нашем обучении. Согласно традиционной этике и всеобщему убеждению (не говоря уже о судебной практике), право пациента на наилучшее возможное медицинское обслуживание должно стоять выше необходимости обучения новичков. Нам нужно совершенство без практики. Однако, если никто не учится с прицелом на будущее, страдают все, поэтому обучение ведется тайно, прикрытое простынями и анестезией, а также завесой молчания. Эта дилемма касается не только ординаторов — обучающихся врачей. Процесс обучения, в принципе, длится гораздо дольше, чем принято считать.
Мы с сестрой выросли в маленьком городке Афины в Огайо, где оба наших родителя работали врачами. Мама, педиатр, давно решила ограничиться частичной занятостью, ведя прием три раза в неделю по полдня. Она могла себе это позволить, потому что урологическая практика отца стала очень востребованной и успешной. На сегодняшний день он занимается ею уже 25 лет, о чем свидетельствует обстановка его кабинета: шкафы во всю стену забиты медицинскими картами пациентов, повсюду расставлены их подарки (книги, картины, керамические изделия с библейскими изречениями, расписанные вручную пресс-папье, стеклянные изделия собственного изготовления, резные шкатулки, а также фигурка мальчика, писающего на вас, если стащить с него штанишки). В акриловой витрине за дубовым столом отца выставлено несколько десятков из тысяч камней, которые он удалил из почек пациентов.
Только сейчас, когда близится окончание моей учебы, я начал всерьез размышлять об успехе своего отца. Бóльшую часть ординатуры я представлял себе хирургию как более или менее неизменный комплекс знаний и навыков, которые приобретаются при обучении и совершенствуются на практике. Мне виделась плавная кривая роста профессионализма при довольно немногочисленном наборе задач (в моем случае это удаление желчного пузыря, злокачественных опухолей прямой кишки и аппендикса; в случае моего отца — камней в почках, злокачественных образований яичка и увеличенной простаты). Кривая обучения через 10−15 лет достигнет пика, затем будет длительное плато и, вероятно, небольшой спад в последние пять лет перед выходом на пенсию. Все оказалось гораздо сложнее. Действительно, ты начинаешь хорошо делать некоторые вещи, объясняет мне отец, но, едва это происходит, как оказывается, что твои знания устарели. На смену старым приходят новые технологии и операции, и кривая обучения стартует снова. «Три четверти того, что я делаю сейчас, я в ординатуре не изучал», — говорит он. Самостоятельно, в 50 милях от ближайшего коллеги, — не говоря уже о наставнике, который мог бы сказать ему что-нибудь вроде «Когда делаете это, сильнее выгибайте запястье», — отец был вынужден учиться протезированию пениса, микрохирургии, вазэктомии, простатэктомии с сохранением нервных пучков, установке искусственного сфинктера мочевого пузыря. Ему пришлось освоить ударно-волновые, электрогидравлические и лазерные литотрипторы (приборы для дробления камней в почках), научиться ставить двойные J-образные мочеточниковые стенты, силиконовые спиральные стенты и стенты универсальной длины Retro-Inject (даже не спрашивайте, что это такое), пользоваться оптоволоконным уретероскопом. Все эти технологии и методы были внедрены после того, как он закончил обучение. Некоторые процедуры, которые проводил отец, опирались на уже имеющиеся у него навыки. Многие — нет.
В действительности с этим сталкиваются все хирурги. Медицина совершенствуется очень быстро, и им ничего другого не остается, кроме как пробовать новое. Не освоить новые методы лечения означает лишить пациентов ценных достижений медицины. В то же время невозможно избежать опасностей кривой обучения — в собственной практике, не только в ординатуре.
Разумеется, у состоявшегося хирурга возможностей для систематизированного обучения гораздо меньше, чем у ординатора. Когда появляется важное новое приспособление или процедура, что происходит каждый год, хирурги для начала проходят ознакомительный курс — обычно один или два дня лекций кого-нибудь из мэтров хирургии с просмотром нескольких видеороликов и пошаговых демонстраций. Мы берем видео на дом, иногда платим за визит, чтобы понаблюдать, как коллега выполняет операцию, — мой отец часто ездит для этого в клиники штата Огайо или в Кливлендскую клинику. Однако все это далеко от практического обучения. В отличие от ординатора, наблюдатель не может лично участвовать в операции, а возможности поупражняться на животных или трупах немногочисленны и редки. (Британия, как всегда, в своем репертуаре — запрещает хирургам практиковаться на животных.) Когда появился импульсный лазер на красителях, производитель развернул в Колумбусе лабораторию, где местные урологи могли набраться опыта, но, приехав туда, мой отец обнаружил, что «опыт» заключается в разрушении почечных камней в пробирках, заполненных похожей на мочу жидкостью, и в попытках проникнуть сквозь скорлупу яйца, не задев мембрану. Наше хирургическое отделение недавно закупило устройство для робот-ассистированной хирургии — невероятно сложного робота за $980 000 с тремя руками, двумя запястьями и видеокамерой, все это диаметром в несколько миллиметров; управляя им с помощью консоли, хирург может выполнить практически любую операцию через небольшие разрезы — и никакого дрожания рук! Команда из двух хирургов и двух сестер вылетела в штаб-квартиру производителя в Сан-Хосе, чтобы целый день обучаться пользоваться этим оборудованием. Действительно, им удалось попрактиковаться на свинье и на трупе человека (очевидно, компания легально покупает трупы у города Сан-Франциско), но и этот вариант, который позволяет получить гораздо больше опыта, чем обычно, едва ли можно считать полноценным обучением. Они узнали достаточно, чтобы уловить принципы управления роботом, приноровиться пользоваться им и понять, как планировать операцию. Вот и все. Рано или поздно приходится возвращаться домой и просто пытаться применять новинку на практике.
В конечном счете пациенты выигрывают, порой весьма существенно, но несколько первых пациентов могут не получить преимущества и даже пострадать. Об этом свидетельствует опыт детского хирургического отделения известной лондонской клиники Грейт Ормонд Стрит Хоспитал (Great Ormond Street Hospital), описанный в British Medical Journal весной 2000 г.{2} Врачи сообщили о результатах проведенных подряд 325 операций у новорожденных с серьезным пороком сердца — транспозицией магистральных сосудов — в период (с 1978 по 1998 г.), когда хирурги отделения переходили с одного способа оперативного лечения этого нарушения на другой. Такие дети рождаются с обратным расположением сосудов сердца: аорта у них размещена справа, а не слева от сердца, а артерия, ведущая к легким, наоборот, слева. Вследствие этого поступающая кровь выбрасывается обратно в кровеносную систему тела, вместо того чтобы сначала попасть в легкие и насытиться кислородом. Этот порок не совместим с жизнью. Новорожденные синеют и умирают от удушья, так и не узнав, что значит нормально дышать. Долгие годы было технически невозможно переключить сосуды как положено. Вместо этого хирурги выполняли так называемую операцию Сеннинга — создавали внутри сердца проход, по которому кровь из легких могла попасть в правое предсердие. Благодаря операции Сеннинга дети успевали вырасти. Однако более слабое правое предсердие не может поддерживать полный кровоток так долго, как левое. Со временем сердце пациентов отказывало, и, хотя большинство доживали до взрослого состояния, лишь немногие дотягивали до преклонного возраста. В 1980-е гг. благодаря серии технологических достижений стало возможным безопасно выполнить операцию переключения сосудов, и вскоре врачи начали отдавать предпочтение именно ей. В 1986 г. хирурги клиники Грейт Ормонд Стрит осуществили переход на новую технологию, и их отчеты показывают, что это, безусловно, было изменением к лучшему. Ежегодная смертность после успешной операции переключения оказалась более чем в четыре раза ниже, чем после операции Сеннинга, и в результате ожидаемая продолжительность жизни прооперированных больных выросла до 63 лет вместо 47. Однако цена освоения этого метода была просто ужасающей. В первых 70 операциях переключения 25 % пациентов умирали на операционном столе, тогда как при операции Сеннинга этот показатель составлял только 6 % (погибло 18 младенцев, в два с лишним раза больше, чем за все то время, когда проводились в основном операции Сеннинга). Лишь со временем хирурги овладели этим навыком, и в ходе следующих 100 операций погибли только пять новорожденных.
Как и пациентам, нам хочется одновременно опытных врачей и прогрессивных методов лечения. Никто не хочет признать, что это взаимоисключающие требования. Как было сказано в одном британском открытом отчете: «Не должно быть никакой кривой обучения, если под угрозой безопасность пациента». Однако это остается лишь благими пожеланиями.
Недавно группа исследователей из Гарвардской школы бизнеса, специализирующихся в изучении кривых обучения в промышленности — производстве полупроводников, самолетов и тому подобного, решила проанализировать кривые обучения хирургов. Она наблюдала за 18 кардиохирургами и их бригадами, осваивающими новый метод минимально инвазивной кардиохирургии. К моему удивлению, это было первое исследование такого рода{3}. Обучение в медицине распространено повсеместно, тем не менее никто до сих пор не сравнивал, как учатся разные врачи.
Новая операция на сердце — предполагающая небольшой разрез между ребрами вместо полного раскрытия грудной клетки сверху вниз посередине — оказалась существенно труднее традиционной. Разрез слишком мал, чтобы использовать обычные трубки и зажимы для перенаправления кровотока в аппарат искусственного кровообращения, поэтому хирургам пришлось освоить более сложные методы с использованием надувных баллонов и катетеров, вводимых в сосуды паха, а также научиться оперировать в гораздо более тесном пространстве. Новые роли вынуждены были освоить также медсестры, анестезиологи и перфузиологи. У всех были новые задачи, новые инструменты, новые потенциальные проблемы и новые способы их решения. Как и следовало ожидать, каждый участник имел выраженную кривую обучения. Если полностью компетентной бригаде требовалось на операцию от трех до шести часов, то новые бригады трудились над первыми случаями в среднем в три раза дольше. Исследователи не смогли детально отследить показатели осложнений, но было бы глупо надеяться, что они не изменились к худшему.
Что еще интереснее, при этих исследованиях обнаружились резкие различия в скорости обучения бригад. Все они прошли одинаковый трехдневный курс обучения и работали в весьма уважаемых медицинских учреждениях, имеющих опыт внедрения инноваций. Тем не менее на протяжении 50 операций одни бригады смогли сократить время операции в два раза, а другие вообще не улучшили этот показатель. Оказалось, практика не всегда залог совершенства. Исследователи установили, что возможность совершенствования зависит от того, как именно хирурги и их бригады практикуются.
Ричард Бомер, единственный врач среди исследователей гарвардской группы, многократно наблюдал работу одной из наиболее быстро обучающихся бригад и одной из самых медленно обучающихся и был поражен контрастом между ними. Хирург из быстро обучавшейся бригады был менее опытным по сравнению с хирургом из отстающей бригады, лишь пару лет как закончил учебу. Но он позаботился о том, чтобы собрать членов своей будущей бригады задолго до первой операции, и сохранял ее состав неизменным первые 15 операций, прежде чем допустить в нее любого нового члена. Хирург устроил пробный прогон перед первой операцией и сознательно назначил на первую неделю шесть операций, чтобы не забывались приобретенные навыки. Он приучил своих людей подробно обсуждать каждый предстоящий случай и проводил опрос по завершении операции, следил за тщательной фиксацией результатов. По своим личным качествам, отметил Бомер, этот хирург не был стереотипным Наполеоном со скальпелем. Однажды он заявил Бомеру: «Хирург должен быть готов стать партнером [остальных членов бригады], чтобы принять их вклад». Возможно, это прозвучало банально, однако такой подход сработал. Хирург другой больницы практически случайно выбирал членов своей операционной бригады и в дальнейшем не пытался ее сохранить. Участники первых семи операций всякий раз менялись, то есть команды как таковой не было. Он не проводил ни предварительных, ни итоговых обсуждений и не отслеживал текущие результаты.
Из исследования Гарвардской школы бизнеса можно сделать обнадеживающие выводы. В наших силах радикально повлиять на кривую обучения — скажем, более осознанно подходить к обучению и отслеживанию результатов в отношении как студентов и ординаторов, так и старших хирургов и операционных сестер. Другие выводы не столь утешительны: какими бы талантливыми ни были хирурги, когда они опробуют нечто новое, то сначала неизбежно получают худшие результаты, прежде чем добиться видимого улучшения, а продолжительность кривой обучения оказывается больше и находится под влиянием гораздо более разнообразных факторов, чем принято считать. Это наглядное подтверждение того, что невозможно освоить нововведение, не рискуя благополучием пациента.
Думаю, именно поэтому врачи хитрят: уловки типа «я буду всего лишь ассистировать», заверения в духе «у нас есть новая процедура, которая идеально вам подходит», сообщения «вам нужен центральный катетер» без уточнения «я только учусь его ставить»… Иногда мы чувствуем себя обязанными признаться, что делаем что-то впервые, но и тогда стараемся приводить опубликованные показатели успеха — почти всегда обеспечиваемые опытными хирургами. Говорим ли мы когда-нибудь пациентам, что, поскольку мы еще в чем-то новички, риск для них неизбежно повышается и что, вероятно, для них было бы лучше лечь под нож другого, более опытного хирурга? Сообщаем ли им, что их согласие обязательно? Я таких случаев не знаю. С учетом того, как много поставлено на карту, кто в здравом уме согласится стать практическим пособием?
Многие спорят с этой установкой. «Послушайте, большинство людей понимают, что значит быть врачом, — утверждал эксперт по политике в области здравоохранения, в кабинете которого я недавно побывал. — Мы должны перестать лгать пациентам. Неужели они не согласятся рискнуть ради общего блага?» Он помедлил и сам же убежденно ответил на свой вопрос: «Конечно, согласятся».
Действительно, это было бы весьма достойное и удачное решение проблемы. Мы бы спрашивали пациентов — честно, открыто, — и они бы отвечали согласием. Однако такое трудно себе представить. На столе эксперта я заметил фотографию его ребенка, родившегося всего несколько месяцев назад, и задал каверзный вопрос: «Значит, вы сами согласились, чтобы роды у вашей жены принимал ординатор?»
Повисла тишина. «Нет, — признался он. — Мы даже не разрешили ординаторам присутствовать в родильном зале».
Одна из причин моих сомнений в отношении того, что можно создать устойчивую систему обучения врачей, зависящую от готовности пациентов отвечать «да, можете на мне практиковаться», заключается в том, что я сам в такой ситуации ответил «нет». Однажды утром в воскресенье у моего старшего ребенка Уокера, которому тогда было 11 дней от роду, внезапно развилась сердечная недостаточность с застойными явлениями вследствие, как выяснилось, тяжелого порока сердца. Его аорта была на месте, но ее длинный сегмент вообще не развился. Мы с женой были вне себя от страха (у Уокера вдобавок начали отказывать почки и печень), но он благополучно перенес операцию, реконструкция прошла успешно, и, хотя восстановление шло нестабильно, через две с половиной недели ребенок был готов вернуться домой.
Однако наши испытания на этом не кончились. Уокер родился с нормальным весом — больше 2,7 кг, но теперь, в месячном возрасте, весил всего 2,26 кг, и нужно было постоянно следить за тем, чтобы он набирал вес. Уокер принимал два кардиологических препарата, из-за которых его пришлось отлучить от груди. Врачи предупредили, что в долгосрочной перспективе проведенной реконструкции будет недостаточно. По мере роста ребенка его аорту снова придется расширять с помощью надувного баллона или полностью заменить оперативным путем. Сколько таких процедур потребуется и когда именно, они не могли сказать. Его должен будет наблюдать детский кардиолог, он и решит.
Близилась выписка, а мы еще не выбрали лечащего кардиолога. В больнице за Уокером ухаживала целая команда кардиологов — от молодых врачей, проходящих стажировку по специальности[3], до штатных врачей, практикующих несколько десятилетий. Накануне выписки ко мне подошел один из молодых врачей, дал свою визитку и предложил записать Уокера на прием. Из всей команды врачей он больше всего времени уделил заботам о нашем ребенке. Именно он осматривал мальчика, когда мы доставили его в клинику, задыхающегося по неизвестной причине, поставил диагноз, дал Уокеру лекарства, стабилизировавшие его состояние, связался с хирургами и ежедневно приходил повидаться с нами и ответить на наши вопросы. Более того, я знал, что молодые врачи, проходящие стажировку по специальности, очень внимательны к своим пациентам. Большинство людей не догадываются о тонких градациях между врачами — участниками процесса лечения — и, после того как ребенку спасут жизнь, соглашаются с наблюдением у любого врача, которого им предложат.
Но я-то знал эти различия. «Боюсь, мы подумываем о том, чтобы наблюдаться у доктора Нойберг», — ответил я. Она была старшим кардиологом в штате клиники и экспертом, публикующим научные статьи по таким нарушениям, как у Уокера. Молодой врач выглядел удрученным. Я объяснил, что лично против него ничего не имею, просто у нее больше опыта.
«Вы же знаете, меня всегда курирует штатный врач», — сказал он.
Но я отрицательно покачал головой.
Я знаю, что это несправедливо. У моего сына была необычная проблема. Молодой врач нуждался в приобретении опыта. Я, сам ординатор, должен был понимать его ситуацию, как никто другой. Но я не испытывал перед ним чувства вины из-за своего решения. Ведь это был мой ребенок. При наличии выбора я всегда предпочту для него самое лучшее лечение. Так как же можно рассчитывать, что кто-то другой поступит иначе? Безусловно, не стоит на это надеяться, говоря о развитии медицины в будущем.
В каком-то смысле хитрые уловки со стороны врачей неизбежны. Знания приходится буквально красть, посягая на суверенное право человека на собственное тело. Так и происходило во время пребывания Уокера в клинике, как я понимаю теперь, задним числом. Его интубировал ординатор. Хирург-стажер участвовал в операции. Молодой врач-кардиолог ставил ему один из центральных катетеров. Никто из них не спрашивал у меня разрешения. Если бы мне предоставили возможность выбрать более опытного врача, я, безусловно, воспользовался бы ею, но эта система так работает — выбора нам не предлагается, — и я подчинился. Что еще мне оставалось?
Преимущество этой бездушной машины не сводится к тому, что она обеспечивает обучение врачей. Если обучение необходимо, но причиняет вред, значит, принципиально, чтобы этот вред распространялся на всех пациентов в равной мере. Имея выбор, люди всегда уклоняются от рисков, а возможность выбора предоставляется далеко не всем. Она достается своим, тем, кто разбирается в ситуации, инсайдерам, а не посторонним, детям врачей, а не детям дальнобойщиков. Но, если каждый не может иметь право выбора, было бы справедливо, чтобы никто его не имел.
Два часа дня. Я нахожусь в отделении интенсивной терапии. Медсестра сообщает, что у мистера Г. забился центральный катетер. Мистер Г. у нас уже больше месяца. Ему под 70 лет, он из Южного Бостона, истощенный, изможденный, его жизнь висит на волоске, точнее на катетере. В его тонком кишечнике несколько отверстий, которые не удалось закрыть хирургическим путем, и его содержимое с примесью желчи выходит из тела сквозь две маленькие покрасневшие дырочки во впалом животе. Его единственная надежда на выживание — питаться внутривенно и ждать, когда фистулы заживут. Ему нужно поставить новый центральный катетер.
Думаю, я могу это сделать. У меня уже есть опыт. Но с опытом приходит и новая роль: от меня ждут, что я научу других этой процедуре. Как говорится во врачебной поговорке: «Один раз посмотри, один раз сделай, один раз научи» — и это лишь наполовину шутка.
Сегодня дежурит младший ординатор. До сих пор она только раз или два ставила катетер. Я рассказываю ей о мистере Г. Есть ли у нее время заменить катетер? Она ошибочно считает это вопросом и отвечает, что должна осмотреть пациентов. Случай еще подвернется, а пока, может, я обойдусь без нее? Я отвечаю «нет», и она не в силах скрыть недовольства. Она перегружена, как был перегружен я, и, вероятно, напугана, как и я поначалу.
Младший ординатор начинает сосредоточиваться, когда я заставляю ее проговаривать все шаги процедуры — думаю, это можно назвать генеральной репетицией. Она почти все описывает правильно, но совершает фатальную ошибку — забывает, что нужно проверить результаты анализов и что у мистера Г. тяжелая аллергия на гепарин, которым промывают катетер. Я убеждаюсь, что она это усвоила, и отдаю ей распоряжение подготовиться и вызвать меня.
Я еще не привык к этой роли. Очень тяжело нести ответственность за собственные ошибки, а тем более за чужие. Пожалуй, мне стоило бы вскрыть комплект для постановки центрального катетера и устроить ей настоящую генеральную репетицию. А возможно, и не надо этого делать, ведь каждый комплект, наверное, стоит не меньше двух сотен долларов. Надо бы к следующему разу уточнить.
Через полчаса она вызывает меня. Операционное поле обложено простынями. Младший ординатор облачена в хирургический костюм и перчатки. Она говорит, что взяла водный раствор хлорида натрия для промывки катетера и что анализы в норме.
— Вы подложили валик из полотенца? — спрашиваю я.
Она забыла о валике. Я скатываю полотенце и подсовываю под спину мистера Г., заглядываю ему в лицо и спрашиваю, все ли в порядке. Он кивает. Я не вижу признаков страха. Он уже столько перенес, что со всем смирился.
Младший ординатор выбирает место для прокола. Пациент страшно истощен. Я вижу каждое ребро и боюсь, что она проткнет ему легкое. Она применяет местное обезболивание, затем вводит толстую иглу и, похоже, совершенно не под тем углом. Я даю знак сделать другую попытку. От этого ее неуверенность лишь усиливается. Она втыкает иглу глубже, и я знаю, что в вену она не попала. Она тянет поршень шприца: крови нет. Вытаскивает иглу и пробует еще раз. И еще раз, снова под неправильным углом. Теперь мистер Г. чувствует укол и вздрагивает от боли. Я держу его за руку, пока младший ординатор добавляет заморозку. Это все, что мне остается, разве что сменить ее. Но она никогда не научится, если не будет пробовать, напоминаю я себе, и решаю дать ей еще один шанс.
Компьютер и фабрика герниопластики
Однажды летним днем 1996 г. Ханс Олин, 50-летний глава кардиологического отделения больницы Лундского университета в Швеции, сидел в своем кабинете над горой из 2240 электрокардиограмм (ЭКГ). Результат каждого обследования представлял собой серии волнистых линий, бегущих слева направо по странице разграфленной бумаги формата «письмо»[4]. Олин знакомился с ними в одиночестве у себя в кабинете, чтобы ничто его не отвлекало. Он просматривал ЭКГ одну за другой быстро, но внимательно, раскладывая в две стопки в соответствии со своим мнением о том, был ли у пациента сердечный приступ на момент ее снятия. Чтобы не накапливалась усталость и невнимательность, он выполнял эту работу в течение недели, сортируя ЭКГ не больше двух часов подряд и делая длинные перерывы. Он хотел избежать случайных ошибок; ставки были слишком высоки. Это была медицинская версия шахматного матча с компьютером Deep Blue, где кардиолог Олин выступал в роли Гарри Каспарова. Он вступил в противоборство с компьютером.
ЭКГ — один из самых распространенных диагностических тестов, выполняемых только в США чаще 50 млн раз в год. Электроды, прикрепленные к коже пациента, снимают электрические импульсы низкого напряжения, которые с каждым ударом сердца проходят по сердечной мышце и отражаются в виде волн на распечатке выходных данных ЭКГ. Этот метод основан на теории, согласно которой при инфаркте часть мышцы погибает, из-за чего электрические импульсы меняют курс, чтобы обойти мертвую ткань. В результате меняются и волны на распечатке. Иногда эти изменения очевидны, но чаще неявны, в медицинской терминологии — «неспецифичны».
Студентам-медикам освоение навыка чтения ЭКГ сначала кажется непреодолимо трудным. Обычно при ЭКГ используется 12 электродов, и все они выдают на распечатке линии разного вида. Студентов учат различать в этих узорах десяток или больше признаков, обозначенных буквами алфавита: например, опущение в начале сердечного сокращения (Q-волна), подъем на пике сердечного сокращения (R-волна), последующее снижение (S-волна) и округлая волна сразу после сокращения (Т-волна). Иногда небольшие изменения там и тут складываются в картину инфаркта, иногда нет. Когда я был студентом-медиком, то сначала научился расшифровывать ЭКГ как сложное вычисление. Мы с соучениками таскали в карманах белых лабораторных халатов ламинированные карточки с мудреными инструкциями: рассчитать частоту сердечных сокращений и ось направления тока, проверить наличие нарушений ритма, проверить, не поднимается ли сегмент ST больше чем на 1 мм в отведениях V1 и V4, или наблюдается слабое развитие R-волны (что свидетельствует об инфаркте определенного типа), и т. д.
С практикой овладение всей этой информацией упрощается. В диагностике кривая обучения играет не меньшую роль, чем сама методика. Опытный кардиолог иногда может диагностировать инфаркт с одного взгляда, как ребенок сразу замечает мать в дальнем конце комнаты, но по сути этот диагностический тест сохраняет некоторую степень неопределенности. Исследования показали, что от 2 до 8 % пациентов с инфарктом, поступающих в отделение неотложной помощи, получают неверный диагноз и четверть из них умирает или переносит полную остановку сердца. Даже если таких пациентов по ошибке не отправят домой, при неверной расшифровке ЭКГ можно опоздать с началом лечения, от которого зависит жизнь. Любое человеческое суждение, даже если этот человек эксперт, всегда не бесспорно. Таким образом, имеются все основания для того, чтобы попытаться научить компьютер читать ЭКГ. Если он окажется хотя бы немного результативнее человека, это может ежегодно спасать тысячи жизней.
Впервые предположение, что компьютеры могут справляться с диагностикой лучше людей, было высказано в 1990 г. в очень авторитетной статье Уильяма Бакста, на тот момент врача неотложной помощи Калифорнийского университета в Сан-Диего. Бакст описал «искусственную нейронную сеть»{1} — вид компьютерной архитектуры, — принимающую сложные лечебные решения. Такие экспертные системы обучаются на своем опыте во многом так же, как и люди, усваивая обратную связь от каждого удачного или неудачного случая для повышения точности предположений. В следующем исследовании Бакст рассказал, как компьютер играючи победил группу врачей при диагностике инфарктов у пациентов с болью в груди. Однако две трети врачей, участвовавших в его исследовании, были неопытными ординаторами, и, разумеется, следовало ожидать, что у них возникнут трудности с расшифровкой ЭКГ. Но сможет ли компьютер превзойти опытного специалиста?
На этот вопрос и попытались дать ответ в исследовании, проведенном в Швеции под руководством Ларса Эденбрандта, коллеги Олина по медицине и специалиста по искусственному интеллекту{2}. Эденбрандт провел пять лет, совершенствуя свою систему сначала в Шотландии, затем в Швеции. Он «скормил» компьютеру электрокардиограммы более чем 10 000 пациентов, сообщая ему, какие из них свидетельствуют об инфаркте, а какие нет, пока машина не научилась читать даже самые неоднозначные ЭКГ. Тогда он обратился к Олину, одному из ведущих кардиологов Швеции, обычно расшифровывающему до 10 000 ЭКГ в год. Эденбрандт отобрал 2240 ЭКГ из историй болезни, имеющихся в клинике, чтобы протестировать и программу, и врача, причем ровно половина из них (1120) соответствовала подтвердившимся случаям инфаркта. Без лишней шумихи результаты были опубликованы осенью 1997 г. Олин правильно распознал 620 инфарктов, компьютер — 738. Машина оказалась эффективнее человека на 20 %.
В западной медицине господствует единственный императив — погоня за механистическим совершенством медицинского обслуживания. С первых дней обучения тебе ясно дают понять, что ошибки неприемлемы. Можешь потратить время на налаживание контакта с пациентом — прекрасно, но главное требование — досконально изучить каждый рентгеновский снимок и идеально выверить каждую дозу лекарства. Нельзя забыть ни об одной аллергии или других предшествующих медицинских проблемах, упустить из виду ни одного диагноза. В операционной нельзя потратить зря ни единого движения, ни минуты времени, ни капли крови.
Путь к подобному роду совершенства — это рутинизация и повторение: выживаемость после сердечной, сосудистой и любой другой операции находится в прямой зависимости от того, сколько раз ее проделал хирург. 25 лет назад хирург общей практики выполнял гистерэктомии, удалял злокачественные опухоли легких и шунтировал закупоренные легочные артерии. Сегодня имеются специалисты по каждому заболеванию, многократно выполняющие один и тот же узкий набор процедур. Когда я нахожусь в операционной, то наивысшее признание, которого могу удостоиться от товарищей-хирургов — это слова: «Ты прямо машина, Гаванде». Выбор слова «машина» не случаен: люди в некоторых обстоятельствах действительно могут действовать, как машины.
Рассмотрим относительно простую операцию, герниопластику, которую я освоил на первом году ординатуры в хирургии. Грыжа — это ослабление брюшной стенки, обычно в паху, через которое выпирает содержимое брюшной полости. В большинстве больниц на устранение дефекта — вправление выпячивания и восстановление целостности брюшной стенки — уходит около 90 минут, а стоимость операции может достигать $4000. В 10−15 % случаев операция оказывается неудачной, и грыжа образуется вновь. Однако к небольшому медицинскому центру под Торонто, клинике Шоулдайса (Shouldice Hospital), данная статистика не применима{3}. В этой клинике пластика грыжи длится от 30 до 45 минут, а уровень рецидивов потрясающе низок — всего 1 %. Обходится операция примерно вполовину ее стоимости в остальных медицинских центрах. Пожалуй, в мире нет лучше места для хирургического лечения грыжи.
В чем секрет успеха этой клиники? Прежде всего, в том, что десятки хирургов клиники Шоулдайса выполняют герниопластику, и ничего больше. Каждый оперирует от 600 до 800 грыж в год — больше, чем хирург общей практики за всю жизнь. В данной узкой области персонал клиники лучше обучен и более опытен, чем любой другой, но можно сформулировать иначе: многочисленные повторения меняют способ мышления этих врачей. Как объясняет Лусиан Лип, гарвардский хирург-педиатр, который провел исследование врачебных ошибок: «Отличительной чертой экспертов является то, что они во все большей степени переводят решение проблем в автоматический режим». С повторением мыслительная деятельность в значительной мере становится автоматической и не требует усилий, как, например, когда вы ведете машину по дороге на работу. Новые ситуации обычно требуют осознанного мышления и «оперативных» решений, которые медленнее принимаются, труднее реализуются и чаще бывают ошибочными. Хирург, от которого в большинстве ситуаций требуются решения на уровне автоматических реакций, имеет существенное преимущество. Если шведское исследование на материале ЭКГ свидетельствует, что в некоторых сферах машинам следует заменить врачей, то пример клиники Шоулдайса заставляет предположить, что врачей нужно учить действовать в большей степени, как машины.
Однажды холодным утром в понедельник я надел зеленую хлопчатобумажную блузу и штаны, одноразовую маску и бумажную шапочку и обошел все столы в пяти операционных клиники Шоулдайса. Описать один случай значило описать все: я видел трех хирургов, прооперировавших шестерых пациентов, ни на шаг не отступив от стандартного протокола.
В выложенной кафелем коробке операционной я следил за происходящим через плечо Ричарда Сэнга, моложавого ироничного 51-летнего хирурга. Хотя мы разговаривали на протяжении всей операции, доктор Сэнг выполнял каждое действие не прерываясь, почти отстраненно, причем ассистент точно знал, какие отодвигать ткани, а сестра подавала именно те инструменты, какие требовались, не нуждаясь в инструкциях. Пациент, приятный и удивительно спокойный человек около 35 лет, иногда выглядывавший из-за простыней, чтобы спросить, как дела, лежал на столе с обнаженной нижней частью живота, желтой от бактерицидного раствора йода. Выпячивание величиной со сливу виднелось по левую сторону от лобковой кости. Доктор Сэнг обколол кожу местным анестетиком по диагональной линии от верхушки левого бедра мужчины до лобка вдоль паховой складки. Лезвием № 10 он сделал вдоль линии 10-сантиметровый разрез одним нисходящим движением, обнажив глянцево-желтый подкожный жир. Ассистент разложил салфетки по обе стороны раны, чтобы впитывать слабое кровотечение, и растянул края раны.
Сэнг быстро прорезал слой верхних мышц брюшной стенки, открыв семенной канатик — жгут из кровеносных сосудов, нервов и семявыносящего протока диаметром чуть больше сантиметра. Стало видно, что грыжа образовалась вследствие слабости мышечной стенки под семенным канатиком, в типичном месте. Сэнг чуть приостановился, педантично выискивая другие дефекты вдоль зоны, где канатик проходит сквозь внутреннюю брюшную стенку, и, как и следовало ожидать, обнаружил маленькую вторую грыжу, которая, если бы он ее проглядел, почти наверняка вызвала бы рецидив. Затем он разрезал остальные мышечные слои под канатиком, полностью открыв стенку брюшной полости, и втолкнул обратно внутрь выпячивающиеся внутренности. Если в диванной подушке образуется прореха, откуда лезет набивка, вы можете поставить на прореху заплатку или зашить ее края. У нас в клинике грыжу обычно вправляют, кладут сверху кусочек прочного сетчатого материала, похожего на пластик, и пришивают его к окружающим тканям. Это технически простое и надежное усиление. Однако Сэнг, как и другие опрошенные мной хирурги из клиники Шоулдайса, высмеял эту практику, считая сетку (инородный предмет в теле) источником инфекции, причем дорогим (стоимостью в сотни долларов) и ненужным (поскольку эти врачи получают завидные результаты и без нее).
Пока мы с Сэнгом обсуждали альтернативы, он зашил по отдельности три слоя мышц брюшной стенки тонкой проволокой, проследив за тем, чтобы края каждого слоя перекрывались, словно борта двубортного пиджака. Когда Сэнг соединил кожу пациента маленькими скобками и убрал простыни, тот свесил ноги с края стола, встал и вышел из операционной. Процедура заняла всего полчаса.
Многие хирурги повсюду используют оригинальную методику клиники Шоулдайса, но имеют обычную частоту рецидивов. Не только техника операции обеспечивает клинике выдающиеся результаты. Врачи здесь делают герниопластику, как Intel — чипы, и предпочитают называть свою клинику «специализированной фабрикой». Даже здание клиники спроектировано специально для больных с грыжей. В их палатах нет телефонов и телевизоров, а пища подается в обеденном зале на первом этаже; пациентам ничего другого не остается, кроме как вставать и ходить, что предупреждает проблемы, вызываемые неподвижностью, например пневмонию или тромбы в ногах.
Оставив прооперированного пациента с медсестрой, Сэнг вызвал следующего в ту же самую операционную. Не прошло и трех минут, но она уже была чистой. Свежие простыни и новые инструменты лежали наготове. Началась очередная операция. Я спросил Бирнса Шоулдайса, сына основателя клиники, тоже хирурга, оперирующего грыжи, не надоедает ли ему целыми днями делать герниопластику. «Нет, — ответил он голосом Спока. — Совершенство восхитительно».
Парадоксальным образом в связи с подобной сверхспециализацией возникает вопрос о том, нужны ли всесторонне обученные врачи для оказания самой лучшей медицинской помощи. Ни один из трех хирургов, за операциями которых я наблюдал в клинике Шоулдайса, не смог бы самостоятельно проводить процедуры в обычной американской больнице, поскольку не прошел полного курса общей хирургии. Сэнг в прошлом был семейным врачом, Бирнс Шоулдайс пришел прямо из медицинской школы, а главный хирург оказался акушером. Тем не менее после примерно года обучения они стали лучшими герниопластическими хирургами в мире. Если вы не собираетесь ничего больше делать, кроме ушивания грыж или колоноскопии, нужно ли вам полное специальное образование (четыре года медицинской школы, пять или больше лет ординатуры), чтобы достичь совершенства? В зависимости от области специализации обязательно ли вам — этот вопрос возникает из результатов шведского исследования с расшифровкой ЭКГ — даже быть человеком?
Хотя в медицинских кругах начали признавать, что такая автоматизация, как в клинике Шоулдайса, способна улучшать результаты лечения, многие врачи до сих пор не вполне в этом убеждены. Особые сомнения вызывает применение этого принципа в сфере медицинской диагностики. Большинство врачей верят, что постановку диагноза невозможно свести к комплексу обобщений — как некоторые говорят, к «поваренной книге», — необходимо учитывать специфические особенности каждого пациента.
Звучит разумно, не так ли? Когда я работаю хирургом-консультантом в отделении неотложной помощи, меня часто просят определить, есть ли у пациента с болью в животе аппендицит. Я внимательно выслушиваю его рассказ и рассматриваю множество факторов: мои ощущения от ощупывания живота, локализацию и характер боли, температуру и аппетит пациента, результаты анализов. Но я не пытаюсь свести все это в единую формулу и рассчитать результат. Я использую свою клиническую оценку — свою интуицию, чтобы принять решение, оперировать ли его, оставить в больнице для наблюдения или отправить домой. Все мы слышали об отдельных случаях, опровергающих статистику, — о закоренелых преступниках, вставших на праведный путь, о больных раком в терминальной стадии, чудесным образом излечившихся. В психологии это явление иногда называется проблемой сломанной ноги. Статистическая формула может с огромным успехом предсказать, пойдет ли человек на следующей неделе в кино, но некто, знающий, что этот человек лежит в постели со сломанной ногой, сделает лучший прогноз, чем формула. Никакая формула не способна учесть бесконечный спектр исключительных событий. Поэтому врачи при постановке диагноза предпочитают доверять своим отточенным инстинктам.
Однажды во время моего дежурства в выходные я осматривал 39-летнюю женщину с болью в правой нижней части брюшной полости, не соответствующей картине аппендицита. Она сказала, что нормально себя чувствует, у нее не было ни жара, ни тошноты. Она была голодна и явно не подскочила от боли, когда я надавливал ей на живот. Результаты анализов были по большей части неопределенными. Тем не менее я посоветовал лечащему хирургу аппендэктомию. У нее был высокий уровень белых кровяных телец, что указывало на инфекцию, более того, она просто показалась мне больной. У больных безошибочно узнаваемый вид, который ты начинаешь замечать после некоторого времени в ординатуре. Не всегда точно знаешь, в чем тут дело, но уверен, что в состоянии больного есть что-то тревожащее. Лечащий врач согласился с моим диагнозом, сделал операцию и обнаружил аппендицит.
Вскоре поступил 65-летний пациент почти в таком же состоянии, с теми же результатами анализов. Я сделал сканирование брюшной полости, но результаты были неоднозначными. У этого пациента тоже не наблюдалась картина аппендицита, мне просто показалось, что у него аппендицит. На операции, однако, выяснилось, что аппендикс в норме. У него оказался дивертикулит, инфекция толстой кишки, которая обычно лечится без операции.
Более ли второй случай типичен, чем первый? Часто ли интуиция уводит меня в сторону? Радикальный вывод из шведского исследования заключается в том, что индивидуализированный интуитивный подход, лежащий в основе современной медицины, порочен — он порождает больше ошибок, чем предупреждает. Исследования вне сферы медицины надежно подтверждают этот вывод. За последние четыре десятилетия когнитивные психологи многократно продемонстрировали, что слепой алгоритмический подход обычно дает лучшие результаты при прогнозировании и диагностике, чем человеческое суждение. Психолог Пол Мил в своем классическом труде 1954 г. «Сравнение клинического и статического прогнозирования»{4} описал исследование среди условно-досрочно освобожденных заключенных штата Иллинойс, в котором сравнивались прогнозы тюремных психиатров о риске нарушения условий освобождения с оценками, сделанными по простейшей формуле, учитывавшей такие факторы, как возраст, число предшествующих правонарушений и характер преступления. Несмотря на приближенность формулы, она давала гораздо более точные прогнозы, чем психиатры. В последующих статьях Мил и социологи Дэвид Фауст и Робин Доус проанализировали больше сотни исследований, в которых сравнивались компьютерные расчеты или статистические формулы с человеческими суждениями при оценке чего угодно — от вероятности банкротства компании до ожидаемой продолжительности жизни пациентов с болезнями печени{5}. Практически во всех случаях статистический подход демонстрировал такие же или лучшие результаты, чем человеческий прогноз. Казалось бы, человек и компьютер сообща могут принять наилучшее решение, но исследователи указывают на бессмысленность этой идеи. Если мнения совпадают, не о чем и говорить. Если расходятся, то, судя по результатам экспериментов, лучше согласиться с компьютером.
Что обеспечивает превосходство грамотно построенного компьютерного алгоритма? Во-первых, замечает Доус, люди непоследовательны: на нас легко влияют установка, порядок демонстрации объектов, недавний опыт, отвлекающие воздействия и способ подачи информации. Во-вторых, люди плохо учитывают множественные факторы. Мы склонны переоценивать одни переменные и безосновательно игнорировать другие. Хорошая компьютерная программа последовательно и автоматически взвешивает каждый фактор и приписывает ему соответствующее значение. В конце концов, спрашивает Мил, когда мы идем в магазин, разве соглашаемся, чтобы кассир окинул взглядом наши покупки и сказал: «Ну, мне кажется, это потянет на семнадцать долларов»? При длительном обучении кассир, пожалуй, сможет давать весьма верные прикидки, но мы сходимся на том, что компьютер складывает цены товаров более последовательно и точно. В шведском исследовании, как оказалось, Олин редко делал очевидные ошибки, но многие ЭКГ находятся в области неопределенности: одни признаки соответствуют здоровому сердцу, другие указывают на инфаркт. Врачу трудно оценить, в какую сторону склоняется массив информации, и на его суждение сильно влияют внешние факторы, например последняя ЭКГ, которую он видел.
Почти наверняка врачи доверят компьютерам хотя бы некоторые диагностические решения. Уже сейчас сеть Papnet массово применяется при анализе оцифрованных мазков Папаниколау — микроскопических соскобов с шейки матки — для обнаружения раковых или предраковых изменений. Традиционно это делал патолог. Ученые провели более 1000 исследований использования нейронных сетей практически в каждой области медицины. Были разработаны сети для диагностики аппендицита, деменции, неотложных психиатрических состояний и заболеваний, передающихся половым путем. Другие могут предсказать успех лечения рака, пересадки органов и замены сердечных клапанов. Разработаны системы чтения рентгеновских снимков грудной клетки, маммограмм и результатов радиологических исследований сердца.
В лечении заболеваний часть медработников уже усваивают уроки клиники Шоулдайса, доказывающие преимущество специализированного, автоматизированного медицинского обслуживания. Реджина Херцлингер, профессор Гарвардской школы бизнеса, введшая в употребление термин «специализированная фабрика в сфере здравоохранения» в своей книге «Рыночно ориентированное медицинское обслуживание»{6}, обращает внимание на другие примеры, в том числе Техасский институт сердца в области кардиохирургии и центр трансплантации костного мозга Университета Дьюка. Пациентки с раком груди получают наилучшие результаты лечения в специализированных онкологических центрах, где с ними работают хирург-онколог, врач-онколог, радиолог, пластический хирург, социальный работник, врач-диетолог и другие специалисты, ежедневно наблюдающие случаи рака груди. Практически в любой больнице сегодня имеются протоколы и алгоритмы лечения, по крайней мере, некоторых распространенных состояний, таких как астма или внезапный инсульт. Новые искусственные нейронные сети всего лишь переносят этот опыт в сферу диагностики.
Тем не менее сопротивление механистическому подходу в медицине никуда не денется. Отчасти, вероятно, из-за недальновидности: врачи просто противятся изменению привычного порядка. В какой-то мере, однако, это объясняется вполне обоснованным беспокойством, что, несмотря на всю техническую изощренность, машина лишает медицину некоего жизненно важного начала. Современному медобслуживанию и без того не хватает человечности, его технократический дух приводит к отчуждению людей, которым оно должно служить. Пациенты слишком часто чувствуют себя просто номерами в списке{7}.
Однако сострадание и технология вовсе не взаимоисключающие понятия; они могут дополнять и усиливать друг друга. Машина, как ни странно, может стать лучшим другом врача. Попросту говоря, ничто не может так испортить отношения между пациентом и врачом, как ошибки последнего, но, поскольку ошибки неустранимы — даже машины не совершенны, — доверие лишь возрастет, когда количество ошибок уменьшится. Более того, беря на себя все больше технической работы, компьютерные системы позволят врачу уделять время тем сторонам медицинской помощи, которые играли важнейшую роль задолго до прихода технологии, например беседе с пациентом. Предмет медицины — жизнь и смерть человека, и мы всегда нуждались во врачах, чтобы понять, что и почему с нами происходит, что возможно и что невозможно. Во все более тесно взаимосвязанной сети экспертов и экспертных систем на врача ложится еще бóльшая обязанность как на компетентного специалиста, направляющего лечение, которому можно довериться. Пусть машины принимают решения, но врачи нужны нам по-прежнему, чтобы нас лечить.
Когда врачи ошибаются
С точки зрения общественности — и, безусловно, адвокатов и СМИ — медицинская ошибка, по определению, — это вина лишь плохих врачей. В медицине, когда что-то идет не так, это обычно сложно заметить и, соответственно, верно истолковать. Действительно, ошибки бывают. Мы склонны считать, что они случайны, но это что угодно, только не случайность.
Несколько лет назад в два часа ночи в морозную зимнюю пятницу я стоял в хирургическом костюме и перчатках у стола, раскрывая брюшную полость жертвы подростковой поножовщины, когда поступил вызов. «Код травма, три минуты», — прочитала сообщение на экране моего пейджера операционная сестра. Это означало, что «скорая» вот-вот доставит в клинику еще одного травмированного пациента и я как дежурный хирург-ординатор отделения неотложной помощи должен при этом присутствовать. Я отступил от стола и снял перчатки. Два других хирурга продолжали работать с жертвой ножевого ранения: Майкл Болл, штатный хирург, отвечающий за этот случай, и Дэвид Эрнандес, старший ординатор (хирург общей практики последнего года обучения). В нормальной ситуации они оба должны были пойти со мной, чтобы наблюдать за моими действиями и помогать мне, но задержались в операционной. Болл, сухощавый рассудительный 42-летний человек, оглянулся, когда я направился к выходу, и сказал: «Если будут проблемы, звони, один из нас подойдет».
Проблемы действительно возникли. Мне пришлось изменить некоторые детали этой истории (в том числе имена участников), чтобы обезопасить пациентку, себя и остальных сотрудников клиники, но я старался держаться как можно ближе к реальным событиям.
Отделение неотложной помощи находилось этажом выше, и я, перепрыгивая через ступеньку, поднялся туда как раз в тот момент, когда фельдшеры «скорой» вкатили каталку с женщиной, на вид 30 с чем-то лет, весом больше 90 кг. Она неподвижно лежала на жесткой спинальной доске из оранжевого пластика: глаза закрыты, кожа бледная, из носа течет кровь. Медсестра направила бригаду в смотровую, оборудованную как операционная, с зеленой облицовочной плиткой на стенах, мониторами и местом для размещения переносного рентгеновского оборудования. Мы переложили пострадавшую на кровать и приступили к работе. Одна сестра разрезала на ней одежду, другая снимала основные показатели жизнедеятельности, третья вводила в ее правую руку внутривенный катетер большого диаметра. Хирург-интерн ставил в мочевой пузырь катетер Фолея. Дежурным врачом отделения неотложной помощи был Сэмьюэл Джонс, сухопарый мужчина за 50, похожий на Икабода Крейна[5]. Он стоял у кровати, скрестив руки, и наблюдал, предоставляя мне возможность действовать самостоятельно.
В академической клинике ординаторы выполняют всю рутинную часть врачевания. Наши обязанности зависят от уровня подготовки, но мы никогда не остаемся полностью предоставленными сами себе: всегда есть штатный врач, надзирающий за нашими решениями и действиями. В ту ночь, поскольку Джонс был штатным врачом и отвечал за непосредственные меры в отношении пациентки, я ориентировался на него. В то же время он не был хирургом, поэтому полагался на мой опыт в этой области.
— Какой анамнез? — спросил я.
Фельдшер скорой помощи затараторил:
— Неопознанная белая женщина, не справилась с управлением автомобиля на высокой скорости. Автомобиль перевернулся. Извлечена из машины. На боль не реагирует. Пульс 100, кровяное давление 100 на 60, дыхание 30, самостоятельное…
Пока он говорил, я начал осмотр. Первый шаг в обращении с пациентом с травмой всегда одинаковый. Неважно, получила ли жертва 11 пулевых ранений, попала под грузовик или обгорела на кухне. Первое, что вы должны сделать, — это убедиться, что пациент дышит без усилий. Женщина дышала поверхностно и часто. Оксиметр с помощью датчика, надетого на ее палец, измерял насыщение крови кислородом. В норме «сатурация кислорода в крови» пациента, дышащего комнатным воздухом, должна быть выше 95 %. У нее на лице была кислородная маска, подававшая кислород на максимуме, но сатурация составляла только 90 %.
— Оксигенация недостаточная, — объявил я ровным невозмутимым тоном, который вырабатывают все хирурги месяца через три ординатуры.
С помощью собственных пальцев я убедился, что во рту пострадавшей нет постороннего предмета, перекрывающего дыхательные пути, а прослушав ее стетоскопом, исключил коллапс обоих легких. Я взял кислородную маску с мешком, прижал ее лицевую часть к носу и рту пациентки и стиснул мехи, нечто вроде воздушного шара с односторонним клапаном, впрыскивая в нее по литру воздуха с каждым нажатием. Примерно через минуту содержание кислорода поднялось до успокаивающих 98 %. Ей, очевидно, требовалась помощь с дыханием. «Интубируем ее», — сказал я. Это означало, что сквозь голосовые связки мы вставим в трахею трубку, которая обеспечит свободный доступ воздуха и позволит проводить искусственную вентиляцию легких.
Джонс, штатный врач, захотел сам провести интубацию. Он взял ларингоскоп Mac 3, стандартный, но довольно примитивный на вид металлический инструмент для раскрытия рта и глотки, и просунул лопатку в форме ложки для обуви глубоко в рот пациентки и вниз в гортань. Он направил рукоятку инструмента в сторону потолка, чтобы отодвинуть язык, открыл рот и глотку пострадавшей, и стали видны голосовые связки, похожие на мясистые пологи палатки на входе в трахею. Пациентка не вздрогнула и не поперхнулась; она по-прежнему была без сознания.
— Отсос! — потребовал Джонс. — Я ничего не вижу.
Он удалил с чашку крови и сгустков, взял эндотрахеальную трубку — из тонкой резины, толщиной примерно с большой палец, но в три раза длиннее — и попытался провести ее между голосовыми связками. Через минуту сатурация начала снижаться.
— Упало до семидесяти процентов, — объявила сестра.
Джонс продолжал сражаться с трубкой, но она застревала в голосовых связках. Губы пациентки стали синеть.
— Шестьдесят процентов, — сказала сестра.
Джонс вытащил инструменты изо рта пациентки и приладил маску с клапаном. Люминесцирующие зеленые показания оксиметра пару секунд поплясали около 60 и резко поднялись до 97 %. Через несколько минут он снял маску и снова попробовал поставить трубку. Теперь было больше крови и, похоже, возникла отечность; все его усилия были безрезультатны. Сатурация упала до 60 %. Он вытащил трубку и качал мешок кислородной маски, пока показатели не вернулись к 95 %.
Если вам не удается провести интубацию, то следующий шаг — обратиться к специалисту с соответствующим опытом. «Давайте позовем анестезиолога», — предложил я, и Джонс согласился. Тем временем я продолжал следовать стандартному протоколу при травме: завершил осмотр и заказал физрастворы, результаты лабораторных анализов и рентген. Так прошло минут пять.
Сатурация пациентки понизилась до 92 % — несильно, но, безусловно, ненормально при ручной вентиляции легких. Я убедился, что датчик не соскользнул с ее пальца.
— Кислород поступает в полном объеме? — спросил я сестру.
— Да, постоянно.
Я снова прослушал легкие пациентки — коллапса нет.
— Мы должны ее интубировать, — сказал Джонс.
Он снял с нее маску и сделал очередную попытку.
Где-то в подсознании у меня должна была зародиться догадка, что дыхательные пути больной перекрываются из-за опухания голосовых связок или крови. В этом случае, если мы не сможем интубировать, единственным ее шансом на спасение станет срочная трахеотомия: в шее нужно будет прорезать отверстие и вставить дыхательную трубку прямо в трахею. Новая попытка интубации могла даже спровоцировать спазм голосовых связок и внезапное перекрытие дыхательных путей. Именно это и случилось.
Если бы я задумался об этом заранее, то понял бы, как плохо подготовлен к экстренной трахеотомии. Единственный хирург в операционной, я действительно был самым опытным в этом отношении, но для данного случая моего опыта оказалось явно недостаточно. Я ассистировал раз пять-шесть, и все случаи, кроме одного, не были экстренными и в них использовались приемы, не предназначенные для ситуаций, когда требуется действовать очень быстро. Исключением являлся практикум по экстренной трахеотомии, которую я выполнял на козле. Мне следовало немедленно вызвать доктора Болла для подстраховки. Мне следовало заранее подготовить оборудование для трахеотомии — освещение, отсос, стерильные инструменты — просто на всякий случай. Вместо того чтобы кидаться интубировать пациентку из-за небольшого снижения сатурации, я должен был предложить Джонсу подождать, пока не подоспеет помощь. Я также мог бы догадаться, что пациентка уже теряет возможность дышать. Тогда я мог бы взяться за нож и сделать трахеотомию, пока ситуация оставалась относительно стабильной, и дальше можно было бы не спешить. Но по каким-то причинам — из-за чрезмерной самонадеянности, невнимательности, легкомыслия, колебаний или минутной растерянности — я упустил все эти возможности.
Джонс навис над пациенткой, пытаясь силой протолкнуть трубку через голосовые связки. Когда сатурация вновь упала до 60, он бросил попытки и снова надел ей маску. Мы уставились на монитор. Цифры не росли. Ее губы оставались синими. Джонс сильнее сжал мехи, чтобы увеличить подачу кислорода.
— Я чувствую сопротивление, — сказал он.
Меня ошеломило понимание — это катастрофа.
— Черт, мы оставили ее без дыхательных путей, — сказал я. — Набор для трахеотомии! Свет! Кто-нибудь, позвоните в 25-ю операционную и вызовите сюда Болла.
Вокруг все вдруг засуетились. Я пытался действовать осознанно и не поддаваться панике. Велел хирургу-интерну надеть стерильный костюм и перчатки. Взял с полки антисептический раствор и вылил всю бутылку желто-коричневой жидкости на шею пациентки. Сестра разворачивала набор для трахеотомии — стерильный комплект простыней и инструментов. Я натянул хирургический балахон и новую пару перчаток, попутно пытаясь мысленно пройти все шаги предстоящей процедуры. Это же просто, твердил я себе. В основании щитовидного хряща имеется маленький просвет, в котором вы найдете тонкую волокнистую ткань — эластический конус гортани. Прорезаете его — и вуаля! Вы в трахее. Просовываете в разрез 10-сантиметровую пластиковую трубку в форме коленчатого соединения, каким пользуются водопроводчики, подключаете ее к кислороду и искусственной вентиляции — и дело сделано. Впрочем, это только в теории.
Я набросил на пациентку несколько простыней, оставив шею открытой. Она казалась толстой, как ствол дерева. Я стал нащупывать костистый выступ щитовидного хряща, но ничего не чувствовал через слой жира. Навалилась неуверенность. Где резать? Делать горизонтальный или вертикальный разрез? Я ненавидел себя за это. Хирурги не должны колебаться, а я колебался.
— Мне нужно больше света!
Кого-то послали за светильниками.
— Нашли Болла? — спросил я (никоим образом не вдохновляющий вопрос).
— Он уже идет, — ответила сестра.
Однако времени ждать уже не было. Четыре минуты без кислорода вызывают стойкое повреждение головного мозга, если не смерть. Наконец я взял скальпель и просто стал резать. Я сделал горизонтальный разрез длиной 7,5 см справа налево через середину шеи, следуя процедуре, которую выучил для действий в плановом порядке. Делая диссекцию глубже ножницами, пока интерн действовал ранорасширителями, я попал в вену. Вылилось не слишком много крови, но достаточно, чтобы заполнить рану: я ничего не видел. Интерн зажал кровотечение пальцем. Я потребовал отсос, но прибор не работал; трубка была забита сгустками после попыток интубации.
— Кто-нибудь, раздобудьте новую трубку, — сказал я. — И где свет?
Наконец санитар вкатил высокий светильник, воткнул в розетку и включил. Все еще темновато; больше пользы было бы от ручного фонарика.
Я убрал кровь тампоном и ощупал края раны. На сей раз вроде бы ощутил твердые края щитовидного хряща и под ним впадинку эластического конуса, хотя уверенности не было. Я зафиксировал это место левой рукой.
В смотровую вошел Джеймс О’Коннор, убеленный сединами, все повидавший анестезиолог. Джонс сделал краткий отчет о состоянии пациентки и предоставил ему заниматься вентиляцией ее легких.
Держа скальпель в правой руке, как ручку, я опустил лезвие в рану в том месте, где, по моему мнению, находился щитовидный хрящ. Короткими резкими ударами — вслепую из-за крови и слабого света — стал прорезать вышележащие слои жира и тканей, пока лезвие не царапнуло по твердому, почти как кость, хрящу. Я поискал кончиком ножа, ведя его продольно, пока не ощутил, что он достиг просвета в хряще. Надеясь, что это эластический конус, я сильно нажал. Ткань вдруг поддалась, и я сделал разрез длиной 2,5 см.
Я поместил туда указательный палец; ощущение было, словно пытаешься раздвинуть половинки тугой бельевой прищепки. Мне показалось, что внутри пустое пространство. Но где звук движущегося воздуха? Достаточно ли глубоко я проник? Я вообще попал в нужное место или нет?
— Думаю, я вошел, — сказал я, стараясь убедить себя в той же мере, в какой и остальных.
— Надеюсь, — откликнулся О’Коннор. — Она долго не протянет.
Я взял трубку для трахеотомии и попытался вставить ее, но что-то мешало. Я крутил и поворачивал ее и, наконец, просунул. В этот самый момент появился Болл, штатный хирург. Он метнулся к кровати и склонился над пациенткой.
— Попали в трахею?
Я ответил, что, кажется, да. К свободному концу трубки присоединили маску с клапаном, но, когда мехи были сжаты, воздух просто вышел из раны обратно. Болл быстро натянул перчатки и балахон.
— Сколько не действуют дыхательные пути? — спросил он.
— Не знаю. Три минуты.
Лицо Болла застыло, когда он понял, что у него есть всего минута, чтобы все исправить. Он занял мое место и без церемоний выдернул трубку.
— Боже, что за месиво, я ничего не вижу в этой ране. Я даже не знаю, в нужном ли вы месте. Нельзя ли прибавить света и включить отсос?
Новая трубка для отсоса была найдена и передана ему. Он быстро очистил рану и стал работать.
Оксигенация пациентки настолько упала, что оксиметр вообще ее не регистрировал. Частота сердечных сокращений начала снижаться: 60 ударов, 40 — и пульс пропал. Я приложил обе ладони к ее груди, зафиксировал локти, наклонился над ней и начал делать компрессию грудной клетки.
Болл отвернулся от пациентки к О’Коннору и сказал: «Я не успею вовремя восстановить дыхание. Попробуйте еще разок на всякий случай». Фактически он признавал мой провал. Снова пытаться интубировать через рот было бессмысленно — это означало просто совершать какие-то действия вместо того, чтобы смотреть, как она умирает. Совершенно уничтоженный, я сосредоточился на том, чтобы продолжать закрытый массаж сердца, ни на кого не глядя. Казалось, все было кончено.
И тут произошло чудо: «Я вошел», — сказал О’Коннор. Он умудрился просунуть педиатрическую интубационную трубку сквозь голосовые связки. Через 30 секунд на фоне ручной подачи кислорода сердцебиение возобновилось и ускорилось до 120 ударов в секунду. Сатурация была зарегистрирована на уровне 60 и стала быстро расти. Еще через 30 секунд было уже 97 %. Все люди в смотровой шумно выдохнули, словно и им тоже нечем было дышать. Мы с Боллом почти ничего не сказали друг другу, только согласовали следующий шаг. Затем он опять пошел вниз заканчивать работу — пациент с ножевым ранением все еще оставался в операционной.
Со временем мы установили личность женщины, я назову ее Луиз Уильямс. Ей было 34 года, она жила одна в ближайшем пригороде. Уровень алкоголя в ее крови, когда ее доставили в клинику, был в три раза выше допустимого, что, возможно, и привело к потере сознания. У нее было сотрясение головного мозга, несколько рваных ран и серьезные повреждения мягких тканей, но рентген и томография не обнаружили других ранений вследствие автомобильной аварии. Той ночью Болл и Эрнандес забрали ее в операционную, чтобы сделать нормальную трахеотомию. Когда Болл вышел поговорить с ее родственниками, то рассказал о крайне тяжелом состоянии, в котором она была доставлена, о трудностях, с которыми «мы» столкнулись, пока добрались до дыхательных путей, об опасно долгом периоде, которое она провела без кислорода и, следовательно, невозможности понять, насколько сохранены функции мозга. Они выслушали без единого возражения; им ничего не оставалось, кроме как ждать.
Рассмотрим другие оплошности хирургов. Один хирург общей практики забыл в брюшной полости пациента большой металлический инструмент, который прошел сквозь пищеварительный тракт и стенку мочевого пузыря. Онколог сделал биопсию не той части груди пациентки, из-за чего у нее диагностировали рак на несколько месяцев позже. Кардиолог пропустил маленький, но принципиально важный шаг при замене сердечного клапана и в результате убил пациента. Другой хирург общей практики осмотрел в отделении неотложной помощи мужчину, корчившегося от боли в животе, и, не сделав КТ, предположил, что у него камень в почке; через 18 часов сканирование показало разрыв аневризмы брюшной аорты, вскоре пациент умер.
Как можно людям, способным совершать настолько грубые ошибки, разрешать заниматься медицинской практикой? Мы называем таких врачей «некомпетентными», обвиняем их в нарушении этики и в преступной халатности. Мы хотим, чтобы их наказали. В результате сформировалась наша публичная система реагирования на ошибки медиков: судебное преследование, скандал в СМИ, временное отстранение, увольнение.
В медицине, однако, существует непреложная истина, оспаривающая устоявшееся представление об ошибках и тех, кто их совершает: все без исключения врачи иногда допускают ужасные промахи. Возьмем, к примеру, случаи, которые я только что описал. Я собрал их, просто расспросив знакомых уважаемых хирургов из ведущих медицинских школ о том, какие ошибки они совершили в последние годы. У каждого нашлось что рассказать.
В 1991 г. New England Journal of Medicine опубликовал цикл важных статей в рамках проекта, который называется «Гарвардское исследование медицинской практики» и представляет собой обзор более чем 30 000 случаев госпитализации в штате Нью-Йорк. Исследование обнаружило, что почти 4 % пациентов больниц получили осложнения из-за лечения, которые увеличили время их пребывания в стационаре или привели к инвалидности или смерти, причем две трети этих осложнений были вызваны ошибками при оказании медицинской помощи. В одном случае из каждых четырех, то есть в 1 % госпитализаций, действительно имела место небрежность. По имеющимся оценкам, в целом по стране до 44 000 пациентов в год умирают из-за ошибок медицинского персонала. Последующие изыскания подтвердили, что ошибки неизбежны. В небольшом исследовании результативности действий клинических врачей при внезапной остановке сердца пациента выяснилось, что 27 из 30 врачей неверно пользовались дефибриллятором — неправильно его зарядили или потратили слишком много времени, пытаясь понять, как устроена конкретная модель. Согласно исследованию 1995 г., ошибки в назначении лекарственных средств, скажем когда дается не то лекарство или не в той дозировке, происходят в среднем примерно один раз на каждую госпитализацию, чаще всего без последствий, но в 1 % случаев с тяжелыми негативными последствиями.
Если бы ошибки совершались некой категорией «опасные врачи», тогда можно было бы ожидать концентрации случаев преступной халатности в небольшой группе, но в действительности эти случаи укладываются в обычное распределение Гаусса. Большинство хирургов хотя бы один раз за свою профессиональную карьеру оказываются под судом. Исследования конкретных типов ошибок также показали, что проблемой являются не «рецидивисты». Дело в том, что практически каждый, кто имеет дело с пациентами стационаров, неизбежно ежегодно допускает серьезные промахи и даже проявляет небрежность. Поэтому врачи редко приходят в неистовство, когда пресса описывает очередной ужастик из медицинской практики. Обычно у них другая реакция: на его месте мог быть я. Главная проблема заключается не в том, как не позволить плохим врачам навредить пациентам, а как не дать хорошим врачам навредить пациентам.
Судить за врачебную ошибку — удивительно неэффективная мера. Тройен Бреннан, гарвардский профессор права и здравоохранения, отмечает, что исследования постоянно опровергают представление, будто судебные преследования снижают уровень ошибок в медицине, что отчасти объясняется тем, что это очень неточное оружие. При отслеживании пациентов в рамках «Гарвардского исследования медицинской практики»{1} Бреннан обнаружил, что менее 2 % больных, получивших неадекватное лечение, вообще подавали в суд. Напротив, среди судившихся лишь незначительное меньшинство пациентов действительно являлись жертвами врачебной небрежности. Вероятность победы пациента в суде зависит, прежде всего, от тяжести его состояния, чем бы оно ни было вызвано, болезнью или неустранимыми рисками при оказании медицинской помощи.
Более глубокая проблема, связанная с судебным преследованием за врачебную халатность, заключается в том, что, демонизируя ошибки, оно не позволяет врачам признавать и обсуждать их публично. Карательная система превращает пациента и врача в противников и заставляет каждого из них излагать сильно отредактированную версию событий. Когда что-то идет не так, врачу практически невозможно честно сказать об этом пациенту. Больничные юристы предупреждают докторов, что, хотя они, конечно, обязаны сообщать больным о причиненном ущербе, но ни в коем случае не должны признавать, что это их вина, иначе «признание» станет для суда изобличающим показанием в идеалистической черно-белой нравственной схеме. Самое большее, врач может сказать: «Я сожалею, что ситуация развивалась не так хорошо, как мы надеялись».
Лишь в одном месте врачи могут откровенно говорить о своих ошибках, если не с пациентами, то хотя бы друг с другом. Это совещание по вопросам заболеваемости и смертности, сокращенно — M&Ms[6], проводящееся обычно раз в неделю практически в любой клинической больнице США. Эта традиция до сих пор жива, потому что законы, защищающие материалы совещания от раскрытия информации по запросу, продолжают действовать в большинстве штатов, несмотря на частые попытки их оспорить. Особенно серьезно относятся к M&M хирурги. Здесь они могут собраться за закрытыми дверями и проанализировать ошибки, нежелательные явления и смерти, случившиеся во время их дежурств, найти ответственных и решить, что в следующий раз нужно сделать иначе.
Мы у себя в клинике встречаемся каждый четверг в пять часов в большом лекционном зале с круто уходящими вверх рядами плюшевых кресел и портретами выдающихся врачей, достижениям которых призваны соответствовать. Присутствовать должны все хирурги, от интернов до главы отделения; к нам присоединяются студенты-медики, проходящие хирургическую субординатуру. В M&M иногда участвует до ста человек. Мы регистрируемся, разбираем списки случаев, которые будут рассматриваться, и рассаживаемся по местам. В первом ряду сидят самые старшие, немногословные серьезные мужчины, уже не в хирургических, а в обычных темных костюмах, похожие на участников сенатских слушаний. Главный хирург — львиноподобная фигура на сиденье, ближайшем к простой деревянной кафедре, откуда делается доклад по каждому случаю. Следующие несколько рядов занимают остальные штатные хирурги; они, в массе своей, моложе, среди них немало женщин. Старшие ординаторы являются в длинных белых халатах и обычно рассаживаются по бокам. Я присоединяюсь к массе ординаторов; облаченные в короткие белые куртки и зеленые хирургические штаны, мы занимаем задние ряды.
По каждому случаю старший ординатор соответствующего отделения — кардиологического, сосудистого, травматологического и т. д., — собрав информацию, выходит к кафедре и рассказывает, что произошло. Вот неполный список за типичную неделю (данные частично изменены ради сохранения конфиденциальности): 68-летний мужчина умер от кровотечения после операции по замене сердечного клапана; 47-летней женщине пришлось перенести повторную операцию из-за инфекции, развившейся вследствие артериального шунтирования левой ноги; у 44-летней женщины пришлось дренировать желчь из брюшной полости после операции на желчном пузыре; три пациента повторно оперировались из-за послеоперационного кровотечения; 63-летний мужчина перенес остановку сердца после операции коронарного шунтирования; у 66-летней женщины неожиданно разошелся шов брюшной стенки и внутренности едва не вывалились наружу. Случай мисс Уильямс, моя неудавшаяся трахеотомия, был лишь одним из пунктов в подобном списке. Дэвид Эрнандес, старший ординатор-травматолог, проанализировал записи и поговорил со мной и остальными участниками. Когда настало время, именно он встал перед аудиторией и поведал о случившемся.
Эрнандес — высокий жизнерадостный человек, славный парень и отличный рассказчик, но презентации на M&M неизменно отличаются бесстрастностью и краткостью. Он сказал что-то вроде: «Пациенткой была 34-летняя женщина, не справившаяся с управлением и перевернувшаяся в автомобиле. Пострадавшая демонстрировала стабильные жизненные показатели на месте происшествия, но находилась в бессознательном состоянии и была доставлена скорой помощью неинтубированной. Ее состояние по прибытии оценивалось в 7 баллов по ШКГ». ШКГ означает «шкала комы Глазго», по которой оценивается тяжесть травм головы, от 3 до 15; 7 баллов соответствуют коматозному состоянию. «В отделении неотложной помощи были осуществлены безуспешные попытки интубации, которые могли привести к полному перекрытию дыхательных путей. Попытка крикотиреоидотомии оказалась неудачной».
Эти презентации зачастую вызывают чувство неловкости. Случаи для рассмотрения выбирают старшие ординаторы, а не штатные врачи. Это заставляет штатных врачей быть честными — никто не может скрыть ошибку, — но ставит старших ординаторов, являющихся все-таки подчиненными, в сложное положение. Успешная презентация на M&M неизбежно умалчивает о некоторых деталях и содержит множество пассивных глаголов. Никто не проваливает крикотиреоидотомию. Вместо этого говорят: «Попытка крикотиреоидотомии оказалась неудачной». Суть, однако, ни от кого не ускользает.
Эрнандес продолжил: «У пациентки остановилось сердце, потребовался непрямой массаж сердца. Была проведена анестезия с целью установки педиатрической интубационной трубки, и жизненные показатели пациентки восстановились. Трахеостомия была завершена в операционной».
Итак, Луиз Уильямс оставалась без кислорода достаточно долго, чтобы у нее остановилось сердце, и все знали, чтó это означает: весьма вероятно, она перенесла инвалидизирующий инсульт, если не хуже. Эрнандес перешел к описанию благополучного исхода: «Обследование не выявило устойчивого повреждения мозга или других тяжелых травм. Трахеостомическая трубка была удалена на второй день. Пациентка была выписана на третий день в удовлетворительном состоянии». К огромному облегчению близких (и моему), она проснулась наутро, чувствуя легкую слабость, но голодная, активная, в здравом рассудке. Через несколько недель на память о случившемся у нее останется только шрам.
Но кого-то же надо призвать к ответу за случившееся. С первого ряда донесся голос: «Что значит „попытка крикотиреоидотомии оказалась неудачной“?» Я залился краской и вжался в кресло.
«Это был мой случай», — раздался голос доктора Болла из переднего ряда. Эта короткая фраза, с которой начинает выступление каждый штатный врач, вмещает целый мир врачебной культуры. Несмотря на восхваление преимуществ «горизонтальной организационной структуры» в бизнес-школах и корпоративной Америке, хирурги сохраняют традиционное чувство иерархии. Что бы ни стряслось, предполагается, что штатный врач примет ответственность на себя. Не важно, что рука ординатора соскользнула и повредила аорту; не важно, что штатный врач был дома в постели, когда сестра дала больному неправильную дозу лекарства, — разбирательства на M&M возлагают бремя ответственности на него.
Болл вышел и рассказал, что штатный врач отделения неотложной помощи не смог интубировать Уильямс, а его самого не было рядом, когда ситуация вышла из-под контроля. Он описал плохое освещение и очень толстую шею пациентки, но не в оправдание, а лишь констатируя факты. Некоторые штатные врачи согласно закивали, несколько человек задали вопросы, проясняя детали. Болл неизменно говорил объективно и отстраненно, словно репортер CNN, описывающий беспорядки в Куала-Лумпуре.
Как всегда, последний вопрос задал главный хирург, отвечающий за качество всей работы нашего хирургического отделения. Он хотел знать, что Болл сделал бы иначе. Болл ответил, что не потребовалось бы много времени, чтобы нормализовать состояние пациента с колотой раной в операционной, и ему, видимо, следовало отправить Эрнандеса в отделение неотложной помощи или оставить его зашивать брюшную полость, а самому подняться к нам. Все закивали. Урок был усвоен. Мы перешли к следующему случаю.
Никто из присутствующих на M&M не спросил, почему я не позвал на помощь раньше или почему не обладал навыками и знаниями, необходимыми, чтобы помочь Уильямс. Это не значит, что мои действия были сочтены приемлемыми, однако в соответствии с иерархией разбирать мои ошибки должен был Болл. На следующий день после произошедшего он перехватил меня в холле и отвел в сторону. В его голосе звучала скорее горечь, чем злость, когда он прошелся по моим личным промахам. Во-первых, объяснил он, при экстренной трахеостомии лучше делать вертикальный разрез, поскольку при этом остаются в стороне кровеносные сосуды шеи, расположенные продольно, — об этом я должен был знать хотя бы из учебников. Тогда мне было бы гораздо легче добраться до дыхательных путей пострадавшей. Во-вторых, и это, на его взгляд, хуже обычного невежества, он не понимает, почему я не вызвал его несмотря на явные признаки развития нарушения дыхания. Мне нечем было оправдаться. Я пообещал, что лучше подготовлюсь к подобным случаям и буду быстрее обращаться за помощью.
Даже после того, как Болл скрылся в холле, залитом флуоресцентным светом, меня продолжал жечь стыд. Это не было чувство вины: вину ощущаешь, когда сделал что-то неправильное. Но я испытывал стыд: я сам был неправильным. В то же время я знал, что у хирурга слишком часто бывают поводы для подобных переживаний. Одно дело — сознавать свои ограничения, другое — терзаться сомнениями в себе. Один хирург, известный на всю страну, рассказал мне об операции на брюшной полости, во время которой он утратил контроль над кровотечением, удаляя то, что оказалось доброкачественной опухолью, и пациент умер. «Это было чистой воды убийство», — сказал он. После этого он едва сумел заставить себя снова оперировать, а когда все-таки встал к столу, то действовал слишком осторожно и неуверенно. Тот случай несколько месяцев сказывался на его работе.
Однако еще хуже потери уверенности в себе защитная реакция. Некоторые хирурги готовы видеть ошибки везде, только не у себя. У них нет ни вопросов, ни страхов в отношении собственных возможностей. В результате они не делают выводов из своих ошибок и ничего не знают о своих ограничениях. Как мне сказал один коллега, это редкое, но опасное явление — хирург, не ведающий страха: «Если ты совершенно не боишься, когда оперируешь, то неизбежно грубо нарушишь интересы пациента».
Сама атмосфера на M&M призвана противодействовать обоим вариантам неправильного отношения к ошибкам — как сомнению в собственных силах, так и отрицанию своей вины, поскольку мероприятие представляет собой культурный ритуал, прививающий хирургу «верный» взгляд на ошибки. «Что бы вы сделали иначе?» — спрашивает председательствующий в случаях, когда вреда можно было избежать. Ответ «ничего» редко является приемлемым.
В своем роде совещание M&M на удивление продуманный и человечный институт. В отличие от суда или СМИ, оно признает, что большинство человеческих ошибок невозможно предотвратить наказаниями в принципе. Согласно духу M&М, избегание ошибок, главным образом, вопрос воли: нужно всегда быть достаточно информированным и бдительным, чтобы предвосхищать бесчисленные возможности неблагоприятного развития событий, и стараться предупредить каждую из потенциальных проблем, прежде чем она возникнет. Если ошибка случается, в этом нет ничего ужасного, но этого следует стыдиться. На самом деле этика M&M может показаться парадоксальной. С одной стороны, она подкрепляет характерную для Америки нетерпимость к ошибкам, с другой — само существование этого совещания, а также то, что оно непременно присутствует в еженедельном расписании, означает признание того, что ошибки — неотъемлемый элемент медицины.
Почему они случаются так часто? Лусиан Лип, ведущий эксперт по ошибкам в медицине, отмечает, что во многих других сферах деятельности — будь то производство полупроводников или обслуживание клиентов в «Ритц-Карлтон» — количество ошибок попросту не учитывается так тщательно, как в больницах. Авиационная индустрия снизила частоту операционных ошибок до одной на 100 000 полетов, и бóльшая часть из них не имеет негативных последствий. В General Electric в ходу «Шесть сигм»: цель этой концепции — сделать производственные дефекты такими редкими, чтобы, согласно терминологии статистики, они более чем на шесть стандартных отклонений отличались от случайности — почти один брак на миллион.
Конечно, пациенты намного более сложны и индивидуальны, чем самолеты, и медицина не сводится к производству определенного продукта или даже ассортимента продуктов; вполне возможно, что она сложнее практически любой другой сферы человеческой деятельности. Тем не менее все, чему мы научились в последние 20 лет, — благодаря когнитивной психологии, инженерии, учитывающей человеческий фактор, изучению таких бедствий, как аварии на АЭС Три-Майл-Айленд и химическом заводе в Бхопале, — подтверждает: все люди ошибаются, более того, ошибаются часто и предсказуемо, по определенной схеме. Системы, не учитывающие этих реалий, могут усугубить, а не предупредить ошибки.
Британский психолог Джеймс Ризон утверждает в своей книге «Человеческая ошибка»{2}, что наша предрасположенность к просчетам определенного типа является платой за поразительную способность мозга мыслить и действовать интуитивно: быстро просеивать информацию от органов чувств, которая постоянно на нас обрушивается, не тратя время на попытки осмыслить каждую ситуацию. Таким образом, системы, рассчитывающие на совершенство человека, несут, в терминологии Ризона, «латентные ошибки». Медицина изобилует подобными примерами. Возьмем выписку рецепта — механическую процедуру, опирающуюся на память и внимание, на которые, как мы знаем, полагаться нельзя. Неизбежно врач когда-нибудь да укажет неверную дозировку или назначит не то лекарство. Даже если рецепт выписан правильно, всегда имеется риск, что его неверно прочтут. (Компьютеризованные системы заказа лекарств могут практически исключить подобные накладки, но внедрены лишь в немногих больницах.) Медицинское оборудование, часто создаваемое производителями без учета того, что им будут пользоваться люди, — еще одна сфера, изобилующая латентными ошибками: врачи обречены на проблемы при использовании кардиологического дефибриллятора, поскольку этот прибор не имеет стандартной конструкции. Можно также предположить, что изнуряющая перегруженность, вечный хаос и недостаточная коммуникация в команде врачей представляют собой латентные ошибки нашей системы.
Джеймс Ризон делает еще одно важное наблюдение: бедствия не только случаются, но и накапливаются. В сложных системах единственный сбой редко приводит к вредным последствиям. Люди поразительно хорошо приспосабливаются, когда ошибка становится очевидной, и многие системы имеют встроенные защитные механизмы. Например, фармацевты и медсестры привычно проверяют и перепроверяют предписания врачей. Но ошибки не всегда становятся явными, а поддерживающие системы, предназначенные для обнаружения и исправления ошибок, сами часто отказывают вследствие латентных ошибок. Фармацевт забывает проверить один из тысячи рецептов. Сигнал тревоги в приборе не срабатывает. Единственный присутствующий на тот момент хирург-травматолог застревает в операционной. Когда ситуация ухудшается, это обычно происходит из-за цепи накладок, которые, накапливаясь, вызывают катастрофу.
На M&M ничто из этого не учитывается, поэтому многие эксперты сомневаются в таком подходе к анализу ошибок и улучшению показателей в медицине. Недостаточно спросить врача, что он мог или хотел бы сделать иначе, чтобы он сам и остальные могли учесть это в следующий раз. Врач часто является последним действующим лицом в цепочке событий, приводящих его к провалу. Специалисты по ошибкам убеждены, что пристального изучения и коррекции требует сам процесс, а не участвующие в нем индивиды. В определенном смысле они хотят индустриализировать медицину и уже могут привести примеры успеха, скажем клинику Шоулдайса — «специализированную фабрику» по проведению герниопластики — или, если рассмотреть вопрос шире, все направление анестезиологии, в котором были восприняты их рекомендации, что привело к выдающимся результатам.
В центре эмблемы Американского общества анестезиологов одно слово: «Бдительность». Когда вы погружаете пациента в сон при общей анестезии, то получаете почти полный контроль над его телом. Тело парализовано, головной мозг в бессознательном состоянии, аппараты контролируют дыхание, сердцебиение, кровяное давление — все жизненные функции. Из-за сложности оборудования и тела человека варианты неблагоприятного развития событий практически бесконечны, даже при малой операции. Анестезиологи, однако, убедились, что, если проблемы обнаружены, их можно решить. В 1940-х гг. происходила одна смерть из-за анестезии на каждые 2500 операций, между 1960-ми и 1980-ми гг. смертность стабилизировалась на уровне одного-двух случаев на 10 000 операций.
Однако Эллисон (Джип) Пирс всегда считал даже этот уровень чрезмерно высоким. С 1960-х гг., когда молодой анестезиолог начал практиковать в Северной Каролине и в Университете Пенсильвании, он вел подробные досье обо всех смертельных случаях при анестезии, известных ему по чужому или собственному опыту. Один из таких случаев особенно потряс Пирса. Его друзья привезли в больницу 18-летнюю дочь, чтобы под общим наркозом удалить зуб мудрости. Анестезиолог поставил ей дыхательную трубку в пищевод, а не в трахею — довольно частая ошибка — и не заметил этого, что уже редкость. Без доступа кислорода девушка умерла в считаные минуты. Пирс знал, что один случай смерти на 10 000 операций, с учетом того, что анестезия в США, по оценкам, делается 35 млн раз в год, означает 3500 подобных смертей, которых можно было бы избежать{3}.
В 1982 г. Пирс был избран вице-президентом Американского общества анестезиологов и получил возможность повлиять на этот показатель. В том же году в информационном тележурнале АВС «20/20» вышло расследование, вызвавшее серьезные сдвиги в сфере анестезиологии. Сюжет начинался с обращения: «Если вы собираетесь подвергнуться анестезии, значит, вы готовитесь к долгому путешествию, в которое не следует пускаться, если есть хоть какой-то способ этого избежать. В большинстве случаев общий наркоз безопасен, но существует риск из-за человеческой ошибки, небрежности и фатальной нехватки анестезиологов. В этом году 6000 пациентов погибнут или получат повреждение мозга». В программе было описано несколько ужасных происшествий в разных частях страны. В промежуток времени между небольшим кризисом, вызванным этой программой, и резким ростом страховых выплат за недобросовестное лечение, который тогда произошел, Пирс сумел мобилизовать общество анестезиологов на решение проблемы ошибок.
Он обратился за идеями не к врачу, а к инженеру Джеффри Куперу, ведущему автору революционной статьи 1978 г. «Предотвратимые проблемы при анестезии: исследование человеческого фактора»{4}. Скромный и дотошный человек, Купер в 1972 г. в возрасте 26 лет был принят на работу в биоинженерный отдел Массачусетской больницы общего профиля и занялся разработкой приборов для исследований в области анестезиологии. Его, однако, интересовало происходящее в операционных, и он часами наблюдал за работой анестезиологов. Прежде всего, среди прочего он отметил крайне неудачную конструкцию наркозных аппаратов. Например, поворот тумблера по часовой стрелке в почти половине приборов уменьшал концентрацию мощных анестетиков, а в других — увеличивал. Купер решил воспользоваться методом так называемого анализа критических случаев, применявшимся с 1950-х гг. для изучения нештатных ситуаций в авиации, чтобы оценить роль оборудования в ошибках анестезиологов. Метод заключается в проведении подробных опросов с целью получить максимум деталей об опасных инцидентах, их развитии и сопутствующих факторах. На основе этой информации ищутся паттерны, общие для разных случаев.
Определяющим фактором здесь является откровенность, честное описание событий. Федеральное управление гражданской авиации имеет формализованную систему анализа и отчета об опасных авиационных инцидентах, колоссальный успех которой в повышении безопасности полетов опирается на два краеугольных камня: пилоты, сообщающие об инциденте в течение десяти дней, автоматически освобождаются от наказания, а отчеты поступают в незаинтересованную стороннюю организацию, НАСА, у которой нет мотивов использовать полученную информацию против пилотов. Преимуществом Джеффри Купера было то, что он являлся инженером, а не врачом, поскольку анестезиологи видели в нем скромного исследователя, а не угрозу.
Результатом его работы стал первый углубленный научный анализ ошибок в медицине. Детальное рассмотрение 359 ошибок позволило взглянуть на анестезиологию совершенно по-новому. Вопреки господствующему убеждению, что самым опасным этапом является начальный («аналгезия»), выяснилось, что накладки чаще происходят в середине действия наркоза, когда бдительность врачей ослабевает. Самый распространенный тип инцидентов оказался связан с нарушениями поддержания дыхания пациента, а это обычно является результатом оставшегося незамеченным разрыва соединения или неправильного присоединения дыхательной трубки, ошибки в использовании трубки или наркозного аппарата. Что не менее важно, Купер составил список сопутствующих факторов, включивший недостаточный опыт, слабое знакомство с оборудованием, неслаженное взаимодействие между членами хирургической бригады, торопливость, невнимательность и усталость.
Исследование вызвало широкое обсуждение среди анестезиологов, но целенаправленные усилия по решению проблем не предпринимались, пока инициативу не взял на себя Джип Пирс. Сначала через общество анестезиологов, а затем с помощью основанного им фонда Пирс направил финансирование на поиск способов устранения проблем, выявленных Купером, стал спонсором международной конференции, целью которой был сбор идей со всего мира, и привлек к обсуждению вопросов безопасности самих конструкторов наркозных аппаратов.
Эти меры сработали. Часы работы анестезиологов-ординаторов были сокращены. Производители начали перестраивать свои приборы с учетом возможности человеческой ошибки. Стандартизованные ручки настройки стали вращаться в одном направлении, были установлены блокираторы, исключающие случайное введение более чем одного наркотического газа, изменены блоки управления, чтобы предотвратить снижение подачи кислорода до нуля.
В отношении ошибок, которые невозможно было устранить напрямую, анестезиологи начали искать надежные средства их более раннего обнаружения. Например, из-за очень близкого расположения трахеи и пищевода нельзя исключить такую ошибку, как введение дыхательной трубки не в тот просвет. Анестезиологи традиционно проверяли правильность установки трубки, прослушивая с помощью стетоскопа дыхание в обоих легких, но Купер обнаружил удивительно много ошибок, связанных с незамеченной интубацией пищевода, подобных той, что погубила дочь друзей Пирса. Здесь требовались более эффективные решения. Оказалось, что устройства, выявляющие эту ошибку, существовали уже много лет, но, отчасти из-за высокой стоимости, использовались немногими анестезиологами. Прибор одного типа позволял обнаружить, что трубка находится в трахее, регистрируя углекислый газ, выделяемый из легких. Другой тип, пульсовый оксиметр, измерял содержание кислорода в крови, позволяя выявлять на ранней стадии проблемы с дыхательной системой пациента. Под давлением Пирса и других энтузиастов общество анестезиологов установило в качестве стандарта использование обоих типов приборов при каждой операции под общим наркозом. Сегодня случаи смерти пациентов во время операции под общим наркозом из-за неверного подключения дыхательного аппарата или интубации в пищевод вместо трахеи практически не известны. За десятилетие общий уровень смертности упал всего до одного случая на более чем 200 000 операций — меньше одной двадцатой от прежнего уровня.
На этом реформаторы не остановились. Дэвид Габа, профессор анестезиологии в Стэнфорде, сосредоточился на повышении качества работы человека. В авиации, отметил он, опыт пилота считается бесценным, но недостаточным: пилоты уже практически не сталкиваются с серьезными отказами самолетов, поэтому должны проходить ежегодную подготовку на тренажерах с имитацией кризисных ситуаций. Так почему бы врачам не делать того же?
Габа, врач с инженерным образованием, возглавил разработку системы имитации анестезии Eagle Patient Simulator. Это управляемый компьютером манекен в натуральную величину, удивительно реалистично воспроизводящий строение и функции человеческого организма. У него есть кровообращение, сердечный ритм и легкие, которые вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Если вводить ему лекарства или выполнять ингаляционную анестезию, манекен определяет ее тип и объем и его пульс, кровяное давление и оксигенация соответствующим образом меняются. У «пациента» можно вызвать отек дыхательных путей, кровотечение и нарушения сердечного ритма. Манекен лежит на операционном столе в помещении, оборудованном как настоящая операционная. Здесь ординаторы и опытные штатные врачи учатся эффективно работать при любых опасных, подчас экстремальных сценариях, будь то сбой в работе наркозного аппарата, отключение электропитания, остановка сердца у пациента во время операции или перекрытие дыхательных путей во время кесарева сечения с показанием к экстренной трахеостомии.
Анестезиология стала первой в анализе «системных» ошибок и попытках их исправления, но и в других областях медицины наблюдаются признаки перемен. Например, Американская медицинская ассоциация в 1997 г. основала Национальный фонд безопасности пациентов и пригласила Купера и Пирса в совет директоров. Организация финансирует исследования, организует конференции и способствует выработке новых стандартов для систем заказа лекарств в больницах, которые могли бы значительно снизить ошибки в назначении и выдаче препаратов — самом распространенном типе медицинских ошибок.
Даже в хирургии происходят обнадеживающие изменения. Например, операция не на том колене, стопе или другой части тела была хотя и редкой, но регулярной ошибкой. Типичная реакция состояла в увольнении хирурга. Недавно, однако, больницы и врачи стали признавать, что это предсказуемо в силу двусторонней симметрии тела человека. В 1998 г. Американская академия ортопедической хирургии внедрила простую меру предупреждения: стандартной практикой для хирургов стало обозначение маркером части тела, которая будет оперироваться, до того, как пациент поступит на операцию.
Деятельность «Группы по изучению сердечно-сосудистых заболеваний Северной Новой Англии» с центром в Бартмуте — еще одна история успеха{5}. Эта группа не занималась углубленным изучением ошибок, подобно Джеффри Куперу, но показала, как много можно сделать с помощью обычного статистического мониторинга. В этот консорциум входит шесть больниц, отслеживающих случаи смерти и другие негативные результаты (такие как инфицирование раны, неконтролируемое кровотечение и инсульт) при операциях на сердце и выявляющих факторы риска. В результате исследований был, например, обнаружен относительно высокий уровень смертности пациентов, у которых развилась анемия после шунтирования, причем чаще всего это осложнение наблюдалось у некрупных людей. Раствор, используемый для заправки аппарата искусственного кровообращения и дыхания, провоцировал анемию, поскольку разжижал кровь, и чем миниатюрнее пациент (и, соответственно, меньше объем крови в его теле), тем более выражен эффект. Участники консорциума нашли несколько перспективных решений. В результате другого исследования обнаружилось, что группа врачей некой больницы совершала ошибки при передаче данных — например, результатов предоперационных лабораторных анализов членам хирургической бригады. Для решения проблемы был разработан пилотный контрольный список для проверки всех пациентов, попадающих в операционную. Эти меры повысили уровень стандартизации, что за период 1991−1996 гг. снизило смертность в шести больницах-участницах с 4 до 3 %. Это означает 293 спасенные жизни. Однако эта кардиологическая группа из Северной Новой Англии, даже при ее узкой направленности и специализированных методиках, остается исключением; надежной информации о неблагоприятном развитии событий по-прежнему очень мало. Имеются разрозненные данные о латентных ошибках и системных факторах, которые могут приводить к ошибкам хирургов: отсутствие стандартных протоколов, неопытность хирурга, недостаточная квалификация у врачей больницы, плохо разработанные технологии и методы, нехватка персонала, неумение работать в команде, время суток, влияние системы управляемого медицинского обеспечения и корпоративной медицины и т. д. и т. п. Но какие факторы риска являются основными? Мы до сих пор этого не знаем. Хирургия, как и бóльшая часть медицины, ждет своего Джеффа Купера.
Шла рутинная операция на желчном пузыре в самый обычный день. На операционном столе лежала мать семейства на пятом десятке, укрытая синими бумажными простынями, за исключением округлого живота, обработанного антисептическим раствором. Желчный пузырь представляет собой мягкий, длиной с палец, мешочек с желчью, болтающийся, словно сдувшийся оливково-зеленый воздушный шарик, под печенью. Когда в нем образуются камни, то они могут вызывать приступы невыносимой боли, что и случилось у этой пациентки. Мы удалим ее желчный пузырь, и боли больше не будет.
Этой операции и сейчас сопутствуют риски, но значительно менее серьезные, чем в прошлом. Всего десять лет назад хирургам приходилось делать разрез брюшной стенки длиной 15 см, и пациенты почти неделю лежали в больнице только для того, чтобы рана зажила. Теперь мы научились удалять желчный пузырь при помощи миниатюрной камеры и инструментов, которыми управляем через крохотные проколы. Операция называется лапароскопической холецистэктомией и часто требует лишь однодневной госпитализации. Сегодня полмиллиона американцев в год расстаются с желчным пузырем таким способом{6}; в одной только нашей клинике ежегодно проводится несколько сот этих операций.
Когда штатный врач разрешил мне приступать, я вырезал маленький полукруг длиной 2,5 см в коже над пупком, прошел сквозь жир и фасции, проник в брюшную полость и установил «порт» — трубку шириной чуть больше сантиметра, сквозь которую вводятся инструменты. Мы подсоединили газовую трубку к боковой прорези порта и пустили углекислый газ, наполнивший брюшную полость, пока она не раздулась, как накачанная шина. Я ввел туда миниатюрную камеру. На видеомониторе, расположенном на расстоянии метра от нас, возникло изображение внутренностей. В раздутой брюшной полости теперь хватало места для перемещения камеры, и я повернул ее в направлении печени. Можно было видеть желчный пузырь, торчащий из-под ее края.
Мы вставили еще три порта через совсем уж крохотные отверстия, разнесенные по вершинам квадрата в области живота. В них штатный врач ввел два длинных зажима, похожих на маленькие копии устройства, которым работник магазина достает шляпу с верхней полки. Управляя зажимами, глядя на экран, он добрался до края печени, схватил желчный пузырь и вытянул его на видное место. Мы были готовы продолжать.
Удаление желчного пузыря — относительно нехитрая манипуляция. Отрезаешь его от протока и кровеносных сосудов и вытаскиваешь эластичный мешочек из брюшной полости через отверстие возле пупка. Выпускаешь из живота углекислый газ, удаляешь порты, накладываешь несколько стежков на крохотные отверстия, заклеиваешь бактерицидным пластырем — и готово. Есть, однако, потенциальная опасность. Проток желчного пузыря является ответвлением единственного канала печени (общего желчного протока), по которому желчь поступает в кишечник для переваривания жиров. Если случайно повредить общий желчный проток, желчь идет обратно и начинает разрушать печень. От 10 до 20 % пациентов, с которыми это происходит, умирают. Выжившие часто получают стойкое повреждение печени и нуждаются в ее пересадке. Согласно учебнику, «повреждения общего желчного протока почти всегда являются результатом неудачной операции и, следовательно, серьезным укором для хирургов». Это настоящая хирургическая ошибка, и, как любая бригада, выполняющая лапароскопическую холецистэктомию, мы были полны решимости ее избежать.
Инструментом для препарирования я осторожно отслоил волокнистые белые ткани и желтый жир, окружающие и скрывающие основание желчного пузыря. Теперь можно было видеть его широкую шейку и короткий участок, на котором он сужается до протока — трубочки не толще стебля маргаритки, — выглядывающего из окружающих тканей, но увеличенного на экране до размеров водопроводной трубы. Затем, просто чтобы быть совершенно уверенными, что перед нами пузырный проток, а не общий желчный проток, я отслоил еще немного окружающей ткани. В этот момент мы со штатным врачом остановились, как всегда, и обсудили анатомию. Шейка желчного пузыря вела прямо в трубку, на которую мы смотрели. Значит, это нужный нам проток. Мы раскрыли достаточно длинный участок, не нашли ничего похожего на общий желчный проток и сошлись на том, что все в полном порядке. «Продолжайте», — сказал штатный врач.
Я просунул внутрь клипсонакладыватель, инструмент, который обжимает металлическими клипсами V-образной формы все, что вы зажмете его браншами. Обхватив браншами проток, я приготовился наложить клипсу, как вдруг заметил на экране маленький шарик жира, лежащий поверх протока. Это не было чем-то из ряда вон выходящим, но мне показалось, что здесь что-то не так. Кончиком клипсонакладывателя я попробовал отвести его в сторону, но вместо маленького шарика появился целый слой тонкой, невидимой прежде ткани, под которой мы разглядели у протока разветвление. Сердце у меня замерло. Если бы не моя излишняя придирчивость, я бы перерезал общий желчный проток.
Вот он, парадокс ошибки в медицине. Казалось бы, благодаря тщательно разработанным методикам и неослабевающему вниманию при идентификации элементов анатомии перерезать общий желчный проток невозможно ни при каких обстоятельствах. Это парадигма предотвратимой ошибки. В то же время, как показывают исследования, даже чрезвычайно опытные хирурги наносят это тяжкое повреждение примерно один раз на каждые 200 лапароскопических холецистэктомий. Иначе говоря, пусть в тот день я избежал трагедии, но, согласно статистике, несмотря на все старания я почти наверняка ошибусь по крайней мере однажды за свою карьеру.
И все же это еще не приговор, как показывают когнитивные психологи и специалисты по ошибкам в промышленности. Результаты, достигнутые в анестезиологии, свидетельствуют, что можно добиться радикального улучшения, занявшись процессами, а не людьми, тем не менее «индустриализация» как лекарство от ошибок имеет заметные ограничения, несмотря на огромную важность систем и структур в медицине{7}. Для каждого из нас, медиков, было бы смерти подобно отказаться от веры в способность человека к совершенствованию. Пусть статистика утверждает, что когда-нибудь я поврежу общий желчный проток пациента, но всякий раз, приступая к операции на желчном пузыре, я верю, что при достаточном желании и старании смогу обойти статистику{8}. Дело не только в профессиональной гордости. Это необходимая часть качественной медицины даже при идеальной «оптимизации» систем. Такие операции, как лапароскопическая холецистэктомия, показали мне, как легко ошибиться, но также продемонстрировали важность моих личных усилий и то, что усердие и внимание к мельчайшим деталям могут стать спасением{9}.
Вероятно, поэтому врачи избегают обсуждения «системных проблем», «постоянного повышения качества» и «процесса реинжиниринга». Это сухой язык структур, а не людей. Я не исключение: что-то во мне требует признания собственной независимости, что означает также и принятие на себя ответственности за совершенные ошибки. Вернемся в смотровую отделения неотложной помощи в пятницу вечером, в тот момент, когда я стоял с ножом в руке над Луиз Уильямс, у которой посинели губы, распухла гортань, шла кровь и вдруг оказался перекрыт доступ воздуха в легкие. Инженер-системщик мог бы предложить ряд полезных изменений. Возможно, под рукой всегда должен быть запасной отсос, так же как и возможность без лишних усилий улучшить освещение. Возможно, меня должны были лучше натаскать на случай подобных кризисных ситуаций, дать мне провести еще несколько учебных операций на козлах. Возможно, экстренные трахеостомии настолько трудны при определенных условиях, что следовало бы разработать для этого автоматизированное устройство, которое справилось бы с этой задачей лучше.
Тем не менее, хотя ситуация была против меня, это не означало, что я не имел шанса добиться успеха. Суть хорошего врачевания — извлечь максимум возможного из имеющегося, а я этого не смог. Бесспорный факт: я не позвал на помощь, пока было можно, а когда приставил нож к шее пациентки и сделал горизонтальный разрез, то максимума моих возможностей оказалось недостаточно. Ей и мне просто повезло, что доктору О’Коннору удалось вовремя поставить дыхательную трубку.
По множеству причин было бы неправильно отобрать у меня лицензию или потащить в суд — и все они меня ни в коей мере не оправдывают. При всех ограничениях совещания по вопросам заболеваемости и смертности (M&M), продвигаемая им строжайшая этика личной ответственности за ошибки является колоссальным достоинством. Несмотря на все принимаемые меры, врачи иногда ошибаются, и неразумно требовать от нас совершенства. Разумное требование — чтобы мы никогда не переставали к нему стремиться.
Девять тысяч хирургов
— Вы собираетесь на конференцию? — спросил штатный врач.
Я удивился.
Имелась в виду близившаяся конференция Американской коллегии хирургов{1}; мне не приходило в голову, что я могу на нее поехать.
Конференции — очень важные события в медицине. Мои родители-врачи исправно посещали профильные конференции в течение 30 лет и иногда брали меня с собой, так что у меня остались от этих мероприятий смутные детские воспоминания чего-то грандиозного, насыщенного впечатлениями и восхитительного. Будучи ординатором, я привык, что график плановых операций становится менее плотным каждый год в середине октября, когда хирурги клиники массово разъезжаются по ежегодным конференциям. Но мы, ординаторы, остаемся с ограниченным составом штатных врачей, с теми, кому не повезло (обычно самыми молодыми), чтобы заниматься травмами и другими ситуациями, требующими срочной медицинской помощи, которые продолжают возникать. В этот период мы много времени проводим в ординаторской — темноватой затхлой норе с вытертым коричневым ковролином, разваливающимся диваном, сломанным гребным тренажером, пустыми банками из-под колы и двумя телевизорами, смотрим финальные матчи баскетбольного сезона на том, который еще работает, и едим китайскую еду навынос.
Каждый год, однако, участникам конференции составляют компанию несколько старших ординаторов. На шестой год мне сказали, что я достиг стадии обучения, позволяющей мне стать одним из них. Оказалось, у клиники есть небольшой фонд, из которого оплачивается эта поездка. Через несколько дней у меня был билет на самолет до Чикаго, забронированный гостиничный номер в «Хайятт Ридженси» и пропускной бейджик на 86-ю ежегодную конференцию Американской коллегии хирургов. Лишь на борту «Боинга-737», на высоте 9000 км где-то над Нью-Гемпширом, оставив наших троих детей на попечение жены на целую неделю, я, наконец, задумался, для чего люди вообще ездят на подобные мероприятия.
В огромном чикагском конференц-центре «Маккормик Плейс» (McCormick Place) я оказался одним из 9312 хирургов (ежедневная специальная газета конференции вела учет). Здание напоминало терминал аэропорта, а суета в нем царила, как на Пенсильванском вокзале в час пик. Я поднялся по эскалатору на галерею над центральным холлом и окинул взглядом столпотворение внизу. Потрясающее зрелище: в одном этом здании собралось поговорить о хирургии почти столько же людей, сколько было жителей в городках в штате Огайо, рядом с которыми я вырос. Хирурги — в основном мужчины среднего возраста, одетые с легкой небрежностью в темно-синие пиджаки, мятые рубашки и консервативные галстуки, — собирались по двое-трое, обменивались улыбками и рукопожатиями, делились последними новостями. Почти все были в очках и слегка сутулились, словно склоняясь над операционным столом. Немногие стояли в одиночестве, просматривая брошюры с программой и решая, с чего начать.
Каждому из нас по прибытии вручили 388-страничное расписание предлагаемых мероприятий — от курса по усовершенствованной биопсии груди под визуальным контролем, проводившегося этим утром, до дискуссионного форума «Амбулаторное лечение заболеваний аноректальной области — как далеко мы можем зайти?» в последний, шестой день конференции. Наконец, я тоже устроился в укромном уголке и стал усердно листать страницы, отмечая синей шариковой ручкой то, что меня заинтересовало. Я был уверен, что найду все самое новое и лучшее, что здесь помогают приблизиться к совершенству, и считал себя обязанным посетить все, что только смогу. Скоро моя брошюра была синей от кружков. В одно только первое утро можно было выбирать из более чем 20 полезных для меня программ. Я обдумывал, пойти ли на лекцию о правильном способе рассечения шеи или на обсуждение нововведений в лечении огнестрельных ран, но все-таки выбрал семинар, посвященный лучшему способу ушивания паховых грыж.
Я прибыл заранее, но аудитория на 1500 мест была заполнена. «На грыжу» остались только стоячие места. Я присоединился к толпе у задней стены. Оттуда высоко поднятая кафедра для докладчиков едва виднелась, но гигантский видеоэкран позволял хорошо рассмотреть каждого выступающего. Одиннадцать хирургов один за другим выходили на возвышение, чтобы быстро продемонстрировать слайды презентации и обсудить данные.
Проведенное нами исследование, провозгласил первый выступающий, свидетельствует, что операция грыжесечения по Лихтенштейну является самым надежным методом операционного лечения паховых грыж. Нет, возразил второй, операция Лихтенштейна нерациональна, методика клиники Шоулдайс доказала свое превосходство. Вышел третий хирург и заявил: вы оба ошибаетесь, нужна лапароскопия. Его сменил четвертый: я нашел еще более эффективный способ, нужен специальный инструмент, который я как раз запатентовал. Так продолжалось 2,5 часа. Иногда начинали бушевать страсти. Из аудитории раздавались острые вопросы. К единому ответу так и не пришли, но к концу дискуссии зал был столь же полон, что и вначале.
После обеда я пошел в кино. Организаторы устроили три кинозала на 300−400 мест каждый, где каждый день круглосуточно, без перерыва, демонстрировались записи реальных операций. Я увидел рискованные операции, замысловатые операции, гениально простые операции. Первый фильм, на который я попал, был снят в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга на Манхэттене. Он начинался с крупного плана вскрытой брюшной полости. Хирург, невидимый, за исключением рук в окровавленных перчатках, выполнял исключительно сложную и опасную операцию — удаление раковой опухоли в хвосте поджелудочной железы. Опухоль находилась глубоко, окруженная кишечными петлями, хитросплетением кровеносных сосудов, желудком и селезенкой, но хирург работал словно играючи, обходя хрупкие сосуды и прорезая ткани в миллиметрах от жизненно важных органов. Он показал нам пару хитростей, позволяющих избежать проблем, а следующее, что мы увидели, — половина поджелудочной железы в лотке.
В другом видеосюжете команда из французского Страсбурга удалила рак толстой кишки из глубины таза пациентки и зашила все разрезы в брюшной полости полностью лапароскопическим методом — через крохотные отверстия, которые после операции достаточно заклеить лейкопластырем. Это было завораживающее действо в духе трюков Гудини — нечто вроде вытаскивания модели корабля из бутылки и изготовления на его месте действующей модели автомобиля при помощи одних лишь палочек для еды. Зрители не верили собственным глазам.
Однако запись самой элегантной операции пришла из Хьюстона. Хирург поделился секретом процедуры устранения дефекта пищевода — так называемого дивертикула Ценкера. Обычно операция по поводу этой аномалии длится не меньше часа и требует разреза в боковой части шеи, но хирург из фильма сумел проделать ее через рот пациента за 15 минут вообще без какого либо разреза. Я смотрел фильмы почти четыре часа. Когда в зале зажегся свет, я вышел притихший, моргающий и переполненный впечатлениями.
Заседания по клинической хирургии продолжались каждый день до 22:30, и, похоже, все они проходили так же, как первые два, которые я посетил. Выступления были самыми разными — от скучно педантичных до блестящих, от самых заурядных до выдающихся. Впрочем, зачастую я начинал сомневаться, действительно ли сие собрание затевалось именно ради подобных программ. Скоро стало ясно, что съезд являлся в той же мере выставкой-продажей, в какой и обучающей конференцией. Реклама потрясающих, доселе невиданных новинок — степлера для тканей, не использовавшего скобы, оптоволоконного прибора, дающего трехмерное изображение, — день и ночь шла по телевизору в моем номере и даже на экране в автобусе, возившем нас в конференц-центр. Производители лекарств и медицинских приборов рассылали приглашения на ежевечерние бесплатные обеды в разных местах города. На конференции зарегистрировалось более 5300 торговых представителей около 1200 компаний — больше одного на каждых двух хирургов.
Средоточием их деятельности служил многолюдный холл «технической выставки» размером с футбольное поле, где они установили стенды для продвижения своих товаров. Слово «стенд» и близко не передает характера возведенных сооружений. Там были киоски высотой с двухэтажный дом, мигающие огни, витрины из матированной стали, мультимедийные презентации. Одна компания даже соорудила операционную. Хирурги — это люди, для которых в порядке вещей купить ножницы за $200, абдоминальные ретракторы за $16 000 и операционные столы за $50 000, и обхаживают их активно и изобретательно.
Избежать этих обхаживаний невозможно. Организаторы конференции отдали — точнее, продали — торговым представителям лучшее место на всей территории: их зал начинался от стойки регистрации, оказываясь первым, что видели хирурги по прибытии, и единственный путь на научные экспозиции пролегал через этот сверкающий лабиринт. Пробираясь через него на следующий день, чтобы попасть на выставку молекулярной биологии, я так и не добрался до другой стороны холла. Куда ни посмотри, что-нибудь тебя да остановит.
Иногда это было просто бесплатное барахло. На стендах предлагались даровые мячи для гольфа, перьевые ручки, фонарики, бейсболки, самоклеющиеся коврики, сладости — все это, разумеется, в фирменных логотипах и в комплекте с рекламным текстом и брошюрой о новой технологической разработке. Казалось бы, хирурги с шестизначными окладами должны быть невосприимчивы к мелкому подкупу, но нет. Некая фармацевтическая компания развернула один из самых популярных стендов на выставке, вывесив прочные белые холщовые сумки с названием своего лекарства, написанного 10-сантиметровыми синими буквами. Врачи выстраивались за ними в очередь, хотя расплачиваться приходилось личными телефонными номерами и адресами, лишь бы только было куда складывать бесплатные рекламные товары, которые они насобирали. (Впрочем, я слышал сетования одного из них, что улов не столь хорош, как в прошлом году. Тогда он разжился солнцезащитными очками Ray-Ban.)
Некоторые компании старались привлечь хирургов более тонкими методами, например поставив на стенд трех улыбающихся девиц. «Видели нашу кожу?» — спросила меня длинноногая брюнетка с ресницами длиной с трамплин и голосом, тающим как водяной пар. Она имела в виду искусственную кожу для ожоговых больных, но мог ли я противиться соблазну взглянуть? Следующее мое воспоминание: я тыкаю пинцетом в почти прозрачный белый лоскут искусственной кожи в чашке Петри ($95 за прямоугольник 10х15 см), размышляя: «Действительно, отличная штука».
Самой эффективной тактикой, однако, было просто выставить свои товары и дать хирургам возможность поиграть. Например, на лоток сырого мяса и новейший операционный инструмент мы слетелись, как стая воронья на добычу. Меня заворожила выложенная на противень свежая желтоватая индейка почти в 6 кг весом (около $15) и линейка ультразвуковых скальпелей (около $15 000) — электронных устройств, режущих ткани ультразвуковой ударной волной. Целых десять счастливых минут я проторчал у стеклянной стойки, разрезая слои индюшачьей кожи и мышц, снимая тонкие и толстые ломти мяса, пробуя делать глубокие борозды и хитрые рассечения и оценивая, как лежат в руке разные модели. У другого стенда я надел хирургические перчатки и попробовал сшить разрез в курятине несколькими образцами нового шовного материала по $50 за 0,9 м. Я бы полчаса вязал узлы и отрабатывал обвивные швы, если бы не очередь из четырех хирургов за моей спиной. За вечер я успел поприжигать мясное ассорти, воспользовался продвинутым лапароскопическим оборудованием, чтобы удалить «желчные камни» — арахисовые M&Ms — из брюшной полости манекена и зашить автоматическим сшивателем рану в куске мяса, пугающе похожим на человеческое (скрытный торговый представитель так и не признался, что это было).
Отказавшись от надежд успеть в тот день на другие мероприятия, я заметил толпу примерно из 50 хирургов вокруг проекционного экрана и мужчину в деловом костюме и головном микрофоне. Я подошел узнать, из-за чего ажиотаж, и увидел прямую телетрансляцию удаления большого выпавшего внутреннего геморроидального узла в операционной, видимо где-то в Пенсильвании. Производитель рекламировал новое одноразовое устройство (цена $250), обещая, что оно позволит сократить обычную получасовую процедуру до пяти минут. Ведущий с головным микрофоном собирал вопросы зрителей и передавал их хирургу, оперировавшему за тысячи миль отсюда.
— Вы сейчас накладываете кисетный шов? — спросил ведущий.
— Да, — ответил хирург. — Я выполняю кисетный шов в пять или шесть стежков в 2 см от основания геморроидального узла.
Затем он поднес к камере устройство — белое, сверкающее и красивое. Хотя благоразумие требовало заручиться надежными свидетельствами того, что эта технология действительно полезна, эффективна и надежна, все мы были зачарованы.
Когда трансляция закончилась, я заметил всего в нескольких шагах несчастного продавца с рябым лицом, в мятом коричневом костюме, одиноко сидящего у крохотного стенда. Людская толпа текла мимо него, и ни один не остановился взглянуть на его товар. У продавца не было ни видеоэкранов, ни витрин из матированной стали, ни стереотипных бесплатных меток для гольфа, только распечатанная на компьютере вывеска без логотипа («Scientia») и несколько сот старинных книг по хирургии. Пожалев его, я остановился у прилавка и был потрясен. У него, например, нашелся подлинник статьи Джозефа Листера 1867 г. с подробным описанием революционного антисептического метода хирургии. У него имелись первое, 1924 г., издание собрания научных работ великого хирурга Уильяма Халстеда и оригинальные материалы первой в мире конференции по трансплантации органов, проведенной в 1955 г. Были каталог хирургических инструментов 1899 г., 200-летней давности учебник хирургии и полная копия медицинского текста Маймонида[7]. Обнаружился даже дневник участника Гражданской войны, хирурга армии Севера, за 1863 г. Его ящики и полки оказались настоящей сокровищницей, и я зарылся в них до конца вечера.
Листая хрупкие пожелтевшие страницы, я почувствовал, что наконец нашел нечто подлинное. Повсюду на конференции — не только на коммерческом этаже, но и в лекционных залах — я постоянно ловил себя на подозрении, что меня пытаются облапошить. Безусловно, там можно было найти новые лекарства, инструменты и приборы, обладающие настоящей и не сиюминутной ценностью, но они тонули в фальшивом блеске и показухе. Только здесь я встретил нечто, без сомнения заслуживающее благоговения.
На конференции имелось еще одно место, где знакомили с безусловно великими достижениями. Далеко от главного холла — где показывали фильмы, проводили практикумы и сбывался товар — во множестве маленьких переговорных проводились «Хирургические форумы». Там каждый день обсуждали свою работу исследователи всевозможных направлений, от генетики до иммунологии, от физики до демографической статистики. Дискуссии посещались слабо и по большей части были выше моего разумения — в наши дни невозможно иметь достаточное понимание хотя бы основной терминологии во всех рассматриваемых сферах. Но, сидя там и слушая разговоры ученых, я прикоснулся к передовому краю науки, к доступным нам рубежам.
Многократно обсуждаемой темой этого года была тканевая инженерия — направление исследований, стремящееся с точностью установить, как развиваются органы, и на основе этих знаний научиться с нуля выращивать новые органы для замены поврежденных или больных. Прогресс оказался на удивление стремительным. Года два назад во всех газетах появились изображения знаменитого уха, выращенного в чашке Петри и пересаженного на спину мыши. Казалось, однако, что до более сложных структур и уж точно до попыток пересадить их людям остается еще лет десять, если не больше, но вот ученые демонстрируют фотографии сердечных клапанов, кровеносных сосудов и сегментов кишечника, выращенных в лабораториях. Разговор шел уже не о том, как создавать такие вещи, а как делать это лучше. Например, сердечные клапаны, пересаженные в порядке эксперимента свиньям, работали хорошо, но недостаточно долго для трансплантации их людям. Аналогично сегменты кишечника оказались поразительно функциональными при пересадках крысам, но поглощали питательные вещества хуже, чем ожидалось, и ученым еще предстояло выяснить, как получать их фрагментами длиной в футы, а не в дюймы. Команда клиники «Седар Синай» в Лос-Анджелесе достаточно продвинулась, чтобы начать пробные пересадки временной, искусственно выращенной печени людям.
Ученые продемонстрировали данные по первому десятку своих пациентов, находившихся в последней стадии печеночной недостаточности — состояния, при котором 90 % больных обычно умирают в ожидании пересадки печени. Благодаря печени, полученной биотехнологическими методами, все они дожили до момента, когда была найдена донорская печень, во многих случаях десять дней и больше — невероятное достижение! Что еще более замечательно, четырем пациентам в конечной стадии недостаточности из-за передозировки наркотиков вообще не понадобилась трансплантация. Выращенная учеными печень выиграла им столько времени, что их собственная печень успела восстановиться и регенерировать. У меня голова закружилась, когда я услышал, что совершили эти врачи. Возможно, нечто подобное чувствовали коллеги Джозефа Листера по Королевскому хирургическому колледжу почти полтора века назад, когда он впервые представил свои данные о применении антисептиков.
Было ли что-нибудь из этого — обучение, выставка-продажа, научные доклады, презентации научных исследований — причиной, по которой тысячи хирургов потратили неделю бесценного отпускного времени в сумрачном Чикаго? На той же неделе в городе проходила еще одна конференция, Всемирный конгресс пиарщиков — «ежегодное собрание специалистов со всего мира по связям с общественностью» (тема: «Развитие нашего таланта для решения сложных проблем в современном мире»). Они тоже съехались в огромном количестве. Отели были переполнены хирургами и пиарщиками. Порядок проведения наших собраний оказался практически одинаковым. У них тоже было множество образовательных мероприятий (например, семинары по решению проблем с PR в интернете и по организации собственной PR-фирмы, а также лекция под названием «Телеконференция: рентабельный способ обращения к клиентам и прессе»). Они также посвятили целый день презентациям научных исследований. У них повсюду мелькала корпоративная реклама, а холл был забит выставками PR-фирм, служб распространения пресс-релизов и производителей сверхскоростных факсовых аппаратов. Недельное мероприятие завершилось, как и у нас, приветственной речью условной знаменитости. Какие-то моменты эти конференций были до смешного похожи, причем именно те, которые, как казалось, и привлекли толпы участников. Однако, бродя как-то утром по конференции пиарщиков, я заметил, что их аудитории заполнены не больше чем наполовину, а холлы, наоборот, переполнены. Даже на нашей конференции чувствовалось, что воодушевление и стремление действительно чему-то научиться быстро слабеют. К середине недели уже не было проблемы найти свободное кресло на лекции, многие присутствующие дремали или уходили раньше времени, чтобы побродить по коридорам.
Антрополог Лоуренс Коэн описывает конференции и съезды не столько как научные мероприятия, сколько как карнавалы — «масштабные события, где научная деятельность отодвигается на задний план профессиональной политикой, ритуальным утверждением границ в той или иной отрасли, сексуальной лиминальностью, туризмом и торговлей, личными и национальными распрями, поддержанием и укреплением профессионального единства и необъятностью дискурса». Применительно к хирургии это, безусловно, справедливо. Здесь быстро понимаешь, что одни явились, только чтобы их заметили, другие — чтобы прославиться, третьи — ради самого действа. Были битвы за должности (избирались новые президент и члены правления) и заседания больших шишек за закрытыми дверями. Были встречи старых друзей по ординатуре. Были вечеринки в «Спаго» и наверняка любовные интрижки.
В то же время было еще и ощущение, что собравшихся привлекло нечто важнее карнавала. Например, это чувствовалось в нашем автобусе. Каждый день хирурги курсировали между конференц-центром и отелями в длинных экскурсионных автобусах (похожих на междугородние «грейхаунды» до Атлантик-Сити, за исключением того, что в наших имелись экраны, на которых крутилась реклама «хирургических молний»). Все мы были по большей части чужаками друг для друга — я не встретил ни одного знакомого, — но, увидев нас со стороны, вы бы решили иначе. Взять хотя бы такую простую вещь, как рассаживание. Обычно люди, оказавшись в автобусе, самолете или поезде, ведут себя как отталкивающиеся магниты, держась на уважительном расстоянии, позволяющем сохранить анонимность, и подсаживаясь к кому-то лишь при необходимости. Мы же, поднявшись в салон, предпочитали садиться по двое, даже если оставались свободные сиденья. Правила социального взаимодействия нарушались сами собой, без договоренности. В любом другом автобусе в Чикаго вы почувствовали бы почти физическую угрозу, если бы незнакомый человек подсел к вам, когда три четверти сидений свободны. Здесь, наоборот, человек, севший отдельно, вызвал бы ощущение неловкости. Чувствовалось, что находишься среди своих, являешься частью группы, хотя никого в ней не знаешь. Казалось естественным поздороваться. Более того, не сделать это было бы невежливо.
В одной из поездок я сел рядом с человеком лет 40, в блейзере и без галстука. Мы почти сразу разговорились. Он приехал из штата Мичиган, из захолустного городка с населением 3500 человек, где являлся одним из всего лишь двух хирургов общей практики на 50 миль вокруг. Они с партнером вдвоем оперировали все: последствия аварий пикапов, перфоративные язвы, аппендициты, рак толстой кишки, рак груди, временами даже принимали экстренные роды. Он рассказал, что живет там уже два десятка лет и, как и мои родители, родился в Индии. Поразительно, что он привык к зимам. Я поделился тем, как почти 30 лет назад мои родители в поисках места для практики сузили выбор до Афин в Огайо или Хэнкока в Мичигане, на верхнем полуострове. Прилетев в Хэнкок на винтовом самолете в середине ноября, они увидели, что земля уже покрыта метровым слоем снега. Сделав шаг-другой в своем сари, моя мать сразу же выбрала Афины, хотя еще не бывала там. Мой сосед по автобусу расхохотался и сказал, что все настоящие северяне по поводу морозов замечают: «Что вы, это не так уж и страшно!» Мы беседовали о погоде и детях, о моей и его ординатуре, об инструменте для лапароскопии, который он приглядел на выставке и подумывал купить. Вокруг нас шло такое же оживленное общение. Спорили о бейсболе (шла серия матчей между «Янки» и «Метс»), о политике (Гор или Буш?), об этике хирургов (растет она или падает). Во время автобусных поездок на той неделе я обменялся историями лечения травм с хирургом общей практики из Слипи-Ай в Миннесоте, узнал о работе китайских больниц от сосудистого хирурга с британским акцентом, приехавшим из Гонконга, обсудил аутопсии с главой отделения хирургии Университета Вирджинии и узнал, какие фильмы рекомендует к просмотру хирург-ординатор из Кливленда.
Думаю, специалисты по связям с общественностью назвали бы это созданием сети профессиональных связей. Однако такое понятие не передает жажды общения и чувства общности врачей в этих автобусах и всюду на конференции. У каждого из нас были веские практические причины приехать сюда: возможность познакомиться с новыми идеями и чему-то научиться, опробовать чудеса техники, повысить статус, вырваться из-под гнета бесконечных обязанностей. Но в конце концов я пришел к мысли, что нас притягивало нечто более значимое и в чем-то трогательное.
Врачи принадлежат к обособленному миру — миру геморроев, лабораторных анализов и разрезанных людей. Мы немногие здоровые, живущие среди больных. Это провоцирует отчуждение от опыта, а порой и ценностей остальной цивилизации. Наш мир чужд даже нашим близким. Наш опыт в чем-то близок опыту спортсменов, солдат и профессиональных музыкантов. В отличие от них, однако, мы не только отделены от остального мира, но и одиноки. Когда вы закончили ординатуру и осели в Слипи-Ай, на северном полуострове Мичигана или даже на Манхэттене, поток пациентов и изолированность практики отрывают вас от всех, кто знает не понаслышке, каково это, вырезать у пациентки рак желудка и потерять ее из-за пневмонии, отвечать на обвиняющие вопросы родственников или сражаться со страховой компанией, чтобы твою работу оплатили.
Раз в год у нас есть место, где собирается множество людей, которые это знают. Они тут везде, куда ни посмотришь. Они подходят и садятся на соседнее с вами место. Организаторы конференции называют ее ежегодным «конгрессом хирургов», и это правильно. Но главное — на несколько дней, со всеми сопутствующими плюсами и минусами, мы превращаемся в отдельную нацию — нацию врачей.
Как хорошие врачи становятся плохими
Хэнк Гудман — бывший хирург-ортопед 56 лет, ростом выше 180 см, с густыми взъерошенными каштановыми волосами и огромными руками; легко представить, как он вправляет вывихнутое колено. Спокойный и уверенный в себе человек, привыкший лечить переломы. Пока у него не отобрали лицензию, это был очень уважаемый и известный хирург. «Он работал блестяще, был одним из лучших», — сказал мне один из его партнеров-ортопедов. Если кому-то из друзей или родственников других врачей требовался ортопед, обращались к нему. Больше десяти лет Гудман был одним из самых востребованных хирургов в своем штате, но постепенно дела пошли на спад. Он начал халтурить, стал небрежным. Это отражалось на пациентах, некоторые серьезно пострадали. Коллеги, когда-то восхищавшиеся им, приходили в ужас. Прошли, однако, годы, прежде чем его остановили.
Когда заходит речь о плохих врачах, обычно описываются монстры, например Гарольд Шипман{1} из Северной Англии, обвиненный в убийстве 15 пациентов смертельными дозами наркотиков и подозревавшийся в трех сотнях отнятых жизней. Джон Рональд Браун, хирург из Сан-Диего, работая без лицензии, провел несколько неудачных операций по смене пола и ампутировал левую ногу здоровому мужчине, скончавшемуся затем от гангрены{2}. Джеймс Бёрт, печально знаменитый гинеколог из Огайо, подверг несколько сотен женщин, многих из которых погрузил в наркоз для других процедур, чудовищной уродующей операции — с удалением клитора и «переформированием» вагины, — которую называл «любовной хирургией»{3}.
Однако проблема плохих врачей не имеет ничего общего с этими жуткими отклонениями. Речь идет о просто плохих врачах, которых вы встречаете в повседневной жизни, таких как Хэнк Гудман. Любому медицинскому работнику известны подобные примеры: прославленный кардиолог, впадающий в старческое слабоумие, но не желающий уходить на покой, многоуважаемая акушерка-алкоголичка, хирург, отчего-то потерявший былую хватку. С одной стороны, есть убедительные свидетельства того, что ошибки не являются исключительной прерогативой этой меньшей части докторов. Ошибки слишком обычны и повсеместны, чтобы иметь такое простое объяснение. С другой стороны, проблемные врачи действительно существуют. Даже хорошие врачи могут стать плохими, и, когда это происходит, коллеги обычно оказываются безоружными.
Мы с Гудманом общались целый год. Он сам, как никто, был ошеломлен тем, что с ним произошло, но согласился рассказать свою историю, чтобы она послужила другим уроком. Он даже свел меня со своими бывшими коллегами и пациентами, попросив только не называть его настоящее имя.
Один случай произошел жарким августовским днем 1991 г. Гудман работал в больнице — разветвленном современном, залитом светом комплексе с высящимся в центре зданием из красного кирпича, от которого разбегались во все стороны корпуса поменьше. Обширная сеть окрестных клиник и близлежащая медицинская школа поставляли сюда пациентов. Длинный коридор первого этажа главного здания вел к операционным — белоснежным, просторным, гулким, где под мощными осветительными приборами лежали пациенты, а бригады медиков в синей униформе делали свое дело. В одной из них Гудман закончил операцию, стянул с себя хирургический балахон и подошел к телефону на стене ответить на сообщения, пока операционную моют. Одно из сообщений поступило от его ассистента, находившегося в кабинете в полуквартале отсюда. Он хотел поговорить с Гудманом о миссис Д.
Миссис Д., 28-летняя мать двоих детей, жена менеджера местной кузовной мастерской, обратилась к Гудману из-за безболезненного, но не проходящего скопления жидкости в колене. Он рекомендовал операцию, и женщина согласилась. Неделю назад Гудман провел операцию по удалению жидкости, однако, как сообщил ассистент, пациентка вернулась: она чувствовала себя плохо, ее лихорадило, колено невыносимо болело. Осмотр показал, что колено покраснело, стало горячим и болезненным. Ассистент ввел в сустав иглу, и оттуда вышел зловонный гной. Что делать?
Судя по описанию, у женщины была опасная инфекция. Колено следовало как можно быстрее вскрыть и очистить, но Гудман был занят и не собирался этого делать. Он не положил пациентку в больницу, не пошел осмотреть ее, даже не передал коллеге, лишь распорядился выписать антибиотик для перорального приема и отправить домой. Ассистент засомневался, на что Гудман ответил: «Да она просто паникерша».
Еще через неделю пациентка снова пришла на прием, и Гудман, наконец, дренировал ее колено, но было уже слишком поздно. Инфекция уничтожила хрящ, сустав полностью разрушился. Впоследствии женщина обратилась к другому ортопеду, но все, что он мог сделать, — это жестко срастить колено, чтобы избавить ее от постоянной боли из-за трения костей друг об друга.
Я поговорил с пострадавшей. Как ни странно, она отнеслась к случившемуся философски и сказала, что привыкла. Однако с негнущимся коленом она не может бегать, не может присесть и поднять ребенка. Женщина несколько раз падала на лестнице в их разноуровневом доме, и семье пришлось переехать в одноэтажный дом в стиле ранчо ради ее безопасности. Она не может сидеть в креслах самолетов. В кинотеатре ей приходится садиться боком в проходе. Недавно она обсудила с врачом установку искусственного коленного сустава, но повреждения настолько серьезны, что это уже невозможно сделать без определенных рисков.
Конечно, любой врач может принять идиотское, легкомысленное решение, как Гудман, но беда в том, что в последние годы своей практики он принимал их постоянно. Однажды вставил в сломанную лодыжку пациента винт не того размера и не заметил, что тот проник слишком глубоко. Когда пациент пожаловался на боль, Гудман отказался признать, что нужно что-то предпринять. Другому больному он поставил неподходящий по размеру винт в сломанный локоть. Пациент вернулся, когда головка винта прорвалась сквозь кожу. Гудману ничего не стоило укоротить винт, но он не стал ничего делать.
Другой случай был связан с пожилым мужчиной, сломавшим тазобедренный сустав. Казалось, ему нужно поставить лишь несколько стержней, но в операционной нормально собрать сустав не удалось. По словам Гудмана, он понимал, что нужно изменить стратегию лечения и провести полное замещение сустава, но день выдался напряженный, врач не мог вынести перспективы более длительной операции и ограничился стержнями. Сустав впоследствии разрушился и инфицировался. Всякий раз, как пациент приходил к нему, Гудман утверждал, что никаких мер не требуется. Прошло время, кость почти полностью разрушилась. Наконец, пострадавший обратился за независимым заключением к одному из коллег Гудмана, которого увиденное повергло в ужас. «Он игнорировал мольбы пациента о помощи, — сказал мне этот хирург. — Гудман просто ничего не стал делать. Отказал в госпитализации, проигнорировал очевидные данные рентгеновского снимка. Еще немного — и он убил бы этого человека».
В последние несколько лет практики против Гудмана была подана череда исков из-за врачебной халатности, которые он старался как можно скорее уладить в досудебном порядке. Случаи его вопиющей небрежности не сходили с повестки дня совещаний по вопросам заболеваемости и смертности в отделении, где хирург работал.
Завтракая с ним в ресторане в центре города, я спросил, как это могло случиться. Он искал, но не находил слов, и наконец прошептал: «Я не знаю».
Гудман вырос в маленьком городке на северо-западе страны. Второй из пятерых детей электрика-подрядчика, он сам, как и окружающие, не мог даже представить, что станет врачом. В колледже при университете штата Гудман поначалу был ничем особо не интересовавшимся, посредственным студентом. Однажды ночью, когда он за кофе и сигаретой делал выписки для статьи о романе Генри Джеймса, его вдруг посетила мысль: «А не пойти ли мне в медицину?» По его словам, это не было озарением в полном смысле слова: «Я просто принял решение, хотя не видел для этого особых оснований». «Это больше похоже на призвание, чем то, что я сам когда-либо чувствовал», — сказал ему священник.
Гудман стал прилежным студентом, попал в прекрасную медицинскую школу, по окончании которой решил специализироваться в хирургии. Исполнив воинский долг в качестве офицера общей специальности медицинской службы ВВС, он был зачислен в одну из ведущих программ подготовки ординаторов-ортопедов в стране. Работа приносила ему огромное удовлетворение, хотя и изматывала. Гудман прекрасно с ней справлялся. Люди поступали с чрезвычайно болезненными, инвалидизирующими повреждениями (вывихами, переломами тазобедренного сустава, конечностей, ребер), и он решал их проблемы. По его словам, это были четыре лучших года в его жизни. Гудман получил дополнительную подготовку по узкой специализации, хирургии кисти, и в 1978 г. мог выбирать место работы из множества вариантов. В конце концов он вернулся на северо-запад, где провел следующие 15 лет.
«Когда Гудман приехал сюда, в клинику, здесь было трое пожилых замшелых хирургов-ортопедов, — вспоминает его коллега-педиатр. — Они отстали от времени и подрастеряли навыки, к тому же были не слишком добры к людям. И вот является этот парень, добрейшей души, продвинутый и никому не говорящий „нет“. Звонишь ему в восемь вечера, потому что у ребенка инфицирован тазобедренный сустав, и Гудман приезжает и помогает, хотя даже не он сегодня дежурит по вызову». Гудман удостоился награды за преподавание от своих студентов-медиков. Привлек колоссальное количество клиентов. Он просто упивался работой.
Около 1990 г., однако, все изменилось. Благодаря умению и опыту Гудман, как никто другой, знал, что нужно сделать для миссис Д., пожилого человека с поврежденным тазобедренным суставом, и для многих других пациентов, но не делал этого. Что случилось? Как он сумел мне объяснить, в последние несколько лет все просто шло не так. Он привык радоваться, что стоит в операционной и помогает людям, но с какого-то момента хотел одного — развязаться со всеми пациентами как можно быстрее.
Возможно, дело было в деньгах? Сначала Гудман зарабатывал около $200 000 в год, и чем больше пациентов принимал врач, чем за большее число случаев брался, тем больше зарабатывал. Оказалось, что, подгоняя себя, можно сделать $300 000. Подгоняя себя еще больше, так что уже голова шла кругом, он зарабатывал $400 000. Хирург был загружен намного сильнее любого из коллег, и постепенно это становилось для него важнейшим свидетельством профессионализма. Лишь отчасти шутя, он стал называть себя «добытчиком». Далеко не один его коллега в разговоре со мной заметил, что Гудман зациклился на статусе «зарабатывателя № 1».
В то же время самоощущение как профессионала не позволяло ему отказывать людям (в конце концов, он был «парень, никому не говорящий „нет“»). Как бы то ни было, нагрузка стала чрезмерной. Гудман работал по 80, 90, 100 часов в неделю существенно дольше десяти лет. У него были жена и трое детей (сейчас они уже взрослые), но он их почти не видел. Чтобы выдерживать чрезвычайно плотное расписание, требовалась абсолютная эффективность. Гудман начинал, скажем, с полной замены тазобедренного сустава в 7:30 и старался закончить операцию часам к двум. Затем снимал хирургический костюм, разделывался с бумажной работой и, пока операционную мыли, устремлялся из дверей главной башни, не замечая, солнце на улице, дождь или снег, в центр амбулаторной хирургии, до которого было с полквартала. На столе его уже ждал следующий пациент — простой случай, например артроскопия коленного сустава или раскрытие запястного канала. К концу процедуры он подавал знак сестре, чтобы та позвонила и попросила доставить следующего пациента в операционную в главном здании, зашивал кожу своего второго подопечного и мчался обратно в главную башню — к третьему. Весь день Гудман бегал туда-сюда, но, как бы ни старался все успеть, накапливались маленькие накладки: тут задержка с подготовкой операционной, там новый пациент в отделении неотложной помощи или неожиданная проблема в ходе операции. Со временем помехи стали для него невыносимыми, и именно тогда ситуация приняла угрожающий характер. Медицина требует стойко принимать все, что бы ни случилось: расписание пошло прахом, процедура затянулась на целый час или уже давно пора заехать за ребенком в бассейн, но, если возникает проблема, вы должны делать то, что необходимо. И время от времени Гудману это не удавалось.
Подобное профессиональное выгорание, как ни странно, обыденность. Считается, что доктора являются более жесткими, уравновешенными, эмоционально выносливыми, чем большинство людей (разве тяготы обучения медицине не отсеивают слабых?), но реальность свидетельствует совсем об ином. Судя по результатам исследований, алкоголизм среди врачей ничуть не менее распространен, чем среди остальных людей. У врачей выше риск привыкания к рецептурным наркотикам и транквилизаторам, к которым они имеют свободный доступ{4}. Примерно у 32 % лиц трудоспособного возраста развивается по меньшей мере одно серьезное психическое нарушение, например глубокая депрессия, маниакальный синдром, паническое расстройство, психоз и аддикция{5}, и нет доказательств того, что эти нарушения сколько-нибудь менее распространены среди врачей. Кроме того, разумеется, врачи болеют, стареют, копят неудовлетворенность, отвлекаются на собственные проблемы, почему и совершают ошибки при лечении пациентов. Всем нам хочется думать, что «проблемный врач» — это отклонение от нормы. Возможно, отклонением от нормы является доктор, который за 40 лет не имел по крайней мере одного-двух сложных лет работы. Конечно, не все врачи с «проблемами» обязательно опасны. Тем не менее, по оценкам, в любой момент времени 3−5 % практикующих врачей находятся не в том состоянии, чтобы принимать больных{6}.
Существует официальная точка зрения на то, как в медицинской среде следует поступать с такими врачами. Предполагается, что коллеги объединенными усилиями отстранят их от практики и сообщат о них учреждениям, ведающим медицинскими лицензиями, которые, в свою очередь, примут дисциплинарные меры или изгонят отступников из профессии. Едва ли это соответствует действительности, так как ни одно сплоченное сообщество не может функционировать подобным образом.
Мэрилин Розенталь, социолог из Мичиганского университета, исследовала, как медицинские сообщества США, Великобритании и Швеции обходятся с проблемными врачами{7}. Она собрала данные о 200 с лишним случаях — от семейного врача, подсевшего на барбитураты, до 53-летнего кардиохирурга, продолжавшего оперировать несмотря на устойчивое повреждение мозга вследствие инсульта. Почти во всех случаях проходили месяцы, а то и годы, прежде чем коллеги принимали эффективные меры против плохого врача, каким бы опасным ни было его поведение.
Это можно было бы назвать заговором молчания, но Розенталь обнаружила не столько сговор, сколько печальное отсутствие какого-либо единодушия. В изученных ею сообществах преобладали реакции неуверенности и отрицания и непоследовательные, слабые попытки вмешаться, словно в семье, члены которой не желают признать, что у бабушки пора отобрать права на вождение автомобилем. Учтем также, что не все проблемы очевидны: коллеги могут подозревать, что доктор такой-то много пьет или стал «слишком старым», но долгое время не быть в этом уверенными. Более того, даже когда проблемы становятся очевидны, коллеги часто не способны принять решительные меры.
Этому есть как достойная, так и недостойная причина. Недостойная заключается в том, что ничего не делать — это проще всего. Нужно очень много усилий и огромная уверенность, чтобы собрать необходимые свидетельства и мнения и оспорить право другого врача на практику. Достойной и, вероятно, главной причиной является то, что никому на это не хватает духу. Когда знающий, толковый, обычно добросовестный коллега, ваш многолетний знакомец и сослуживец, начинает глотать перкодан или погружается в личные проблемы и пренебрегает пациентами, вы хотите помочь ему, а не погубить его карьеру. Однако простого способа помочь не существует. В медицинской частной практике нет ни творческих отпусков, ни увольнительных, только дисциплинарные процедуры и публичные отчеты о неправомерных действиях. Вследствие этого, пытаясь помочь, люди действуют тихо, частным образом. Намерения у них благие, результаты обычно печальны.
Долгое время коллеги пытались помочь Хэнку Гудману. С 1990 г. они начали что-то подозревать. Пошли разговоры о его диких решениях, сомнительных результатах, растущем числе судебных исков. Очевидно, пора было вмешаться.
Несколько врачей старшего возраста по собственной инициативе отводили его в сторону под тем или иным предлогом. Розенталь называет это «ужасно тихим разговором». Коллега, например, подходил к Гудману на вечеринке или просто предлагал подвезти домой, расспрашивал, как у него дела, и говорил, что люди беспокоятся. Другой решил проявить суровость из милосердия: «Я прямо заявил ему, что не знаю, почему он все это творит, но он ведет себя безумно, и, что самое ужасное, я бы ни за что не подпустил его ни к кому из своих близких».
Иногда это помогает. Я расспросил вышедшего на пенсию главу отделения в Гарварде, проведшего в свое время немало «ужасно тихих разговоров». Старший хирург нередко обладает непререкаемым моральным авторитетом. Многие заблудшие врачи, оказавшись один на один с главой отделения, признавали, что у них проблемы, и он делал все возможное, чтобы им помочь: устраивал прием у психиатра, отправлял в центр избавления от наркозависимости или на покой, но не все врачи доводили дело до конца. Другие вообще отрицали, что с ними что-то не в порядке. Некоторые даже доходили до того, что организовывали кампанию в свою защиту: оскорбительные звонки родственников, утверждения лояльных коллег, будто они не видели никаких нарушений, угрозы адвокатов подать в суд.
Гудман слушал, что ему говорили. Кивал и соглашался, что чувствует себя переутомленным, иногда крайне перегруженным. Клялся, что все изменит, сократит прием пациентов и перестанет метаться между ними, будет оперировать как следует. Уходил, пристыженный, полный решимости выполнить обещания, но ничего не менял.
Как часто бывает в подобных случаях, люди, лучше других видевшие, насколько опасен стал Гудман, — интерны, медсестры, младший персонал — имели меньше всего возможностей его остановить. В таких обстоятельствах младший персонал часто принимает меры по защите пациентов. Медсестры потихоньку направляют больных к другим врачам. Сотрудники регистратуры вдруг не могут найти окно в расписании доктора. Старшие хирурги-ординаторы идут на операции уровня интернатуры, чтобы не позволить хирургу навредить пациенту.
Один из ассистентов Гудмана пытался взять на себя эту защитную функцию. Когда он начал работать с Гудманом, помогая собирать обломки костей, контролируя процесс выздоровления пациентов, ассистируя на операциях, то проникся к нему глубоким уважением, но потом заметил, что Гудман стал непредсказуемым: «Он мог прогнать через свой кабинет 40 пациентов за день, не уделив каждому и пяти минут». Чтобы избежать проблем в клинике, ассистент надолго задерживался по окончании рабочего дня, перепроверяя решения Гудмана. «Я постоянно следил за его пациентами и менял его назначения», — пояснил он. Во время операций ассистент пытался мягко давать советы: «Этот винт слишком длинный, верно? Правильно ли выровнено это бедро?» Тем не менее случались ошибки и «много ненужных хирургических вмешательств». По возможности он отваживал пациентов от Гудмана, «но не говорил откровенно, что тот, кажется, спятил».
Так может тянуться немыслимо долго, но, когда запасы доброй воли исчерпаны, когда ясно, что «ужасно тихие разговоры» ни к чему не ведут, а потаенным стараниям коллег нет конца, отношение резко меняется. Любая мелочь способна спровоцировать жесткие меры. В случае Гудмана поводом стали пропуски обязательного еженедельного совещания по вопросам заболеваемости и смертности, которым он начал пренебрегать в конце 1993 г. Несмотря на его халатность — в больнице не было ни одного врача, против которого подавалось столько исков, — коллегам все еще было неловко его осуждать. Когда же Гудман перестал появляться на M&M, у них наконец появилась возможность обвинить его в конкретном нарушении.
Многие все откровеннее предупреждали Гудмана, что он навлечет на себя серьезные проблемы, если не перестанет прогуливать M&M, но, по словам одного из сослуживцев, «он все проигнорировал». Через год такого поведения правление больницы назначило ему испытательный срок, на всем протяжении которого хирург оперировал еще больше и провоцировал гораздо более серьезные осложнения. Прошел еще целый год. Вскоре после Дня труда в 1995 г. правление больницы и адвокат Гудмана наконец вызвали его и, усадив за дальний конец длинного стола для совещаний, заявили, что отстраняют от операций и передают его дело на рассмотрение медицинской комиссии штата. Он был уволен.
Гудман никогда не рассказывал о своих проблемах семье, не сказал и о том, что потерял работу. Неделями он каждое утро надевал костюм и галстук и шел в свой кабинет, как будто ничего не произошло. Врач принял последних пациентов, которые были к нему записаны, и передал нуждавшихся в операции другим хирургам. За месяц от его практики ничего не осталось. Жена почувствовала неладное, нажала на него и заставила во всем признаться. Она была потрясена и испугана: казалось, перед ней чужак, самозванец. Кончилось тем, что он стал валяться дома в постели, порой целыми днями ни с кем не разговаривая.
Через два месяца после отстранения Гудман получил уведомление об очередном иске за халатность — от фермерши, обратившейся к нему с тяжелым артритом плечевого сустава. Он пересадил ей искусственный сустав, но операция оказалась неудачной. Этот иск оказался последней каплей. «У меня ничего не осталось, — сказал мне Гудман. — Да, были друзья и семья, но не было работы». Как у многих врачей, работа определяла его как личность.
В подвале его дома хранился револьвер «Магнум-44», который он купил, собираясь ехать рыбачить на Аляску, чтобы защищаться от медведей. Гудман нашел пули к нему и стал обдумывать самоубийство. Он знал, что нужно сделать, чтобы смерть была мгновенной. В конце концов, он был хирургом.
В 1998 г. на медицинской конференции возле Палм-Спрингс, просматривая плотное расписание лекций, я обратил внимание на необычную презентацию: Кент Нефф, врач, «Двести врачей, обвиненных в опасном поведении»{8}. Лекция читалась в маленькой аудитории в стороне от главного лекционного зала. Присутствовало всего несколько десятков человек. Нефф, элегантный седовласый человек за 50, очень увлеченный, имел одну из самых редких специализаций в медицине: он был психиатром, изучавшим врачей и других специалистов с серьезными поведенческими проблемами. Нефф рассказал, что в 1994 г. возглавил небольшую программу, помогающую больницам и медицинским группам, где имелись проблемные доктора. Вскоре к нему стали направлять врачей отовсюду. На сегодняшний день он принял больше 250 коллег — огромный опыт — и представил собранные данные, словно ученый из Центра контроля и профилактики заболеваний, анализирующий вспышку туберкулеза.
То, что Нефф узнал, не вызывало удивления. Часто опасное поведение врачей не осознается, пока они не причинят серьезный вред. Они редко проходят полноценное освидетельствование на наличие аддикции, психической болезни или других типичных нарушений. Когда же проблемы обнаруживаются, следуют чудовищные кары. Меня впечатлила одинокая, донкихотская попытка Неффа это изменить — у него не было ни грантов, ни содействия правительственных учреждений.
Через несколько месяцев после лекции я полетел в Миннеаполис посмотреть, как работает Нефф. Его программа действовала в клинике Эббот Нортвестерн (Abbott Northwestern Hospital) возле городского района Паудерхорн. Меня направили на пятый этаж кирпичного здания, расположенного на разумном удалении от основного комплекса. Я оказался в длинном, тускло освещенном коридоре с бежевым ковролином и закрытыми дверьми без табличек по обеим стенам. Место не было похоже на больницу. Надпись печатными буквами гласила: «Программа профессиональной оценки». Из-за одной из дверей выглянул Нефф в твидовом пиджаке и очках в металлической оправе и пригласил меня войти.
По воскресеньям вечером сюда прибывают врачи с чемоданчиками, регистрируются в холле и расселяются по помещениям, похожим на комнаты студенческого общежития, где проведут четыре дня и четыре ночи. В неделю моего визита здесь находились три врача-пациента. Им разрешается приходить и уходить, когда захочется, заверил меня Нефф. Тем не менее я знал, что они не вполне свободны. В большинстве случаев больницы, в которых они работают, оплачивают участие в программе в размере $7000 и предупреждают врачей, что если они хотят сохранить практику, то должны поехать в Миннеаполис.
Самым поразительным для меня аспектом программы стало то, что Нефф фактически уговаривал медицинские организации присылать своих сотрудников. Похоже, он добивался этого, просто предлагая помощь. Оказалось, что, несмотря на все сомнения, больницы и клиники рады его содействию. И не только они. Вскоре после начала программы авиакомпании стали направлять сюда своих пилотов. Суды присылают судей, фирмы — генеральных директоров.
Малая часть работы Неффа заключалась в том, чтобы совать нос не в свои дела. Он напоминал одного из тех врачей, к которым приходишь посоветоваться из-за кашля ребенка и слышишь рассуждения о том, как тебе следует жить. Он брался работать с каждым, но, если приславшая клиента организация слишком запустила проблему, не стеснялся ей об этом сообщить. Определенные проявления (в его терминологии — «поведенческие экстремальные события») должны были подсказать окружающим, что с человеком творится что-то серьезное, объяснил Нефф, например если хирург швыряется скальпелями в операционной или пилот во время рейса устраивает истерику. Однако подобные эпизоды раз за разом сбрасываются со счетов. «Он прекрасный врач, — твердят коллеги, — на него просто нашло».
Нефф выделяет минимум четыре типа поведенческих экстремальных событий. Это постоянный неконтролируемый гнев или оскорбительное поведение; странное или эксцентричное поведение (одному врачу обязательно нужно было каждый день пару часов наводить порядок на своем столе; у него было диагностировано тяжелое навязчиво-маниакальное расстройство); нарушение профессиональных норм (Нефф работал с семейным врачом, который имел обыкновение приглашать молодых пациентов мужского пола поужинать вдвоем, а одному даже предложил вместе провести отпуск: у него были выявлены навязчивые фантазии о сексе с половозрелыми юношами). Наконец, более знакомый показатель — непропорционально много судебных исков или жалоб (как в случае Гудмана). В ходе своей программы Нефф убедил немало больниц и клиник, а также авиакомпаний и корпораций воспринимать такие проявления серьезно. Многие организации теперь включают в трудовой договор пункт, согласно которому поведенческие экстремальные события могут стать поводом для профессиональной аттестации.
По существу, однако, его работа состояла в консультации клиента — так кардиолог консультирует пациента, жалующегося на боль в груди. Он осматривал направленного к нему человека, проводил ряд тестов и давал формальное заключение о ситуации, о том, безопасно ли держать его на работе и как могут развиваться события. Нефф был готов делать именно то, чего все остальные всеми силами избегают, — судить (или, как он предпочитает говорить, «оценивать») собрата-врача, причем более тщательно и объективно, чем смогли бы коллеги обследуемого.
Первым этапом работы Неффа с тремя врачами, встретившимися с ним на неделе, которую я провел в его центре, являлся сбор информации. Начав в понедельник утром, он и четыре консультанта на протяжении двух дней по отдельности опрашивали каждого из докторов, заставляя не меньше пяти раз рассказать свою историю, чтобы избежать уловок и недоговоренностей, преодолеть естественную оборонительную позицию и выяснить все детали. До прибытия своих подопечных Нефф собрал на каждого объемистое досье, а в течение недели, не колеблясь, звонил их коллегам, чтобы устранить противоречия и неточности в представленных ими версиях событий.
Кроме того, пациенты Неффа прошли полное обследование, включая анализ крови, чтобы убедиться, что опасное поведение не было вызвано физическим заболеванием. (У одного врача, направленного к Неффу после многочисленных случаев, когда он застывал в разгар операции, была обнаружена запущенная болезнь Паркинсона.) Они сдают тест на алкоголь и наркотики и проходят психологическое тестирование по всему спектру — от игромании до параноидальной шизофрении.
В последний день Нефф собрал свою команду за столом в тесном обшарпанном кабинете, чтобы принять решение. Врачи тем временем ждали у себя в комнатах. Члены группы около часа рассматривали данные по каждому случаю, после чего всей командой приняли три отдельных решения. Во-первых, они поставили диагноз. У большинства докторов обнаруживались психические заболевания: депрессия, биполярное расстройство, наркотическая или алкогольная зависимость, даже откровенный психоз: почти во всех случаях они не диагностировались и не лечились. Другие просто переживали сильный стресс, развод, скорбь, болезнь и т. д. Во-вторых, команда решала, в состоянии ли врач вернуться к практике. Нефф показал мне несколько типичных отчетов. Оценка всегда четкая, однозначная: «По причине алкоголизма доктор Х. не может в настоящее время заниматься практикой с достаточной степенью профессионализма и безопасности». В-третьих, они писали персональные рекомендации. В отношении тех докторов, которым можно было вернуться к работе, давался совет принять меры предосторожности: выборочное тестирование на предмет употребления наркотиков, формальный контроль со стороны уполномоченных для этого коллег, особые ограничения во врачебной деятельности. Для признанных профнепригодными Нефф и его команда обычно определяли минимальный период отстранения от практики, детальный курс лечения и четко описанные процедуры переосвидетельствования. После обсуждения Нефф приглашал каждого пациента в свой кабинет и знакомил с итоговым отчетом, который затем отсылался в его больницу или клинику. «Обычно люди удивляются, — сказал мне Нефф. — Девяносто процентов из них ожидают более мягких рекомендаций».
Нефф неоднократно напоминал мне, что его выводы носят сугубо рекомендательный характер. Однако, как только он изложил их на бумаге, больнице или медицинской группе трудно не последовать им и не обязать освидетельствованных докторов следовать предложенному плану. Преимущество подхода Неффа состоит в том, что, если возникает проблема, дальнейшее происходит автоматически: Миннеаполис, оценка, диагноз, план. Коллегам не нужно изображать судей и присяжных, а проблемные доктора получают помощь. Нефф и его команда спасли сотни карьер от краха и, возможно, тысячи пациентов от ущерба.
Программа Неффа не единственная в своем роде. В последние десятилетия медицинские общества в США и за рубежом создали несколько систем диагностики и лечения «больных» врачей. Однако его программа является одной из немногих независимых и отличается более последовательной методикой, чем любая другая.
Тем не менее через несколько месяцев после моего визита она была свернута. «Программа профессиональной оценки» хотя и вызвала большой интерес по всей стране и стремительно расширялась, испытывала финансовые трудности и никогда не окупалась. Неффу не удалось убедить руководство клиники Эббот Нортвестерн продолжать ее финансирование. Когда мы общались в последний раз, он искал средства, чтобы возродить ее в другом месте.
Удастся ему это или нет, но Нефф показал нам, что можно сделать. Трудный вопрос — как для врачей, так и в еще большей мере для их пациентов — можем ли мы согласиться с таким подходом. Сутью подобных программ является очевидный компромисс — возможно, слишком очевидный. Врачебное сообщество согласно сообщать о проблемных коллегах, часто встречающихся рядовых недобросовестных врачах, но только в том случае, если это в итоге приведет к постановке диагноза и лечению, а не к аресту и судебному преследованию. Однако здесь нужна готовность видеть в них не социопатов, а нормальных людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. Подход Неффа, по его собственной формулировке, «жéсток к поведению, но мягок к человеку». Возможно, люди предпочитают жить по закону «не спрашивай, не говори». Задумайтесь, согласны ли вы принять систему, реабилитирующую наркозависимых анестезиологов, кардиохирургов с маниакальным психозом или педиатров с влечением к маленьким девочкам, если предполагается выявлять таких врачей в бóльшем количестве? Иными словами, готовы ли вы снова увидеть Хэнка Гудмана в операционной?
Хэнк Гудман — один из тех, чью жизнь и, возможно, карьеру спас Кент Нефф. Гудман позвонил ему в середине декабря 1995 г., поймав себя на мысли о самоубийстве: его адвокат слышал о программе и дал ему телефон. Нефф велел приезжать немедленно. Гудман выехал на следующий день и после часовой встречи почувствовал, что снова может дышать. Нефф был откровенен, держался по-товарищески и сказал, что сумеет ему помочь, что его жизнь не кончена. Гудман поверил ему.
Он включился в программу на следующей неделе, оплатив ее самостоятельно. Это были трудные, порой конфликтные четыре дня. Гудман не был готов признать все свои промахи и принять все выводы команды Неффа. Основной диагноз — застарелая депрессия. Вывод был показательно безжалостным: врач «не способен безопасно заниматься практикой в настоящее время из-за глубокой депрессии и не сможет этого делать в течение неопределенного периода времени». При должном продолжительном лечении, говорилось в отчете, «имеется перспектива полного возвращения к самостоятельной работе».
По совету Неффа Гудман лег в психиатрическую клинику. После выписки его вели местный психиатр и терапевт. Ему выписали прозак, затем эффексор. Он строго следовал курсу лечения. «В первый год мне было все равно, жить или умереть, — вспоминал он. — На второй год я захотел жить, но не вернуться на работу. На третий год захотел работать». Наконец психиатр, терапевт и Нефф согласились, что он к этому готов. Главным образом по их совету медицинская комиссия штата дала Гудману разрешение вернуться к практике, хотя и с ограничениями. Сначала ему позволили работать не более 20 часов в неделю и только под контролем; он был обязан регулярно посещать психиатра и лечащего врача и не имел права оперировать по меньшей мере шесть месяцев после возвращения в клинику. Затем мог участвовать в операциях только как ассистент, пока переосвидетельствование не покажет, что все ограничения можно снять. Ему также следовало проходить выборочные тесты на наркотическую и алкогольную зависимость.
Но кто возьмет его на работу? Только не бывшие партнеры — «слишком много хлопот». Гудман почти решился принять предложение поработать в приозерном городке в глуши, где у него был загородный дом: в маленькой больнице, которую посещало 45 000 человек в летние месяцы, не было хирурга-ортопеда. Здешние доктора знали о его прошлых проблемах, но одобрили кандидатуру Гудмана после многолетних безуспешных поисков специалиста. Однако на получение страховки от профессиональных рисков ушел почти год, да и сам Хэнк счел благоразумным не торопиться с возвращением к стрессам полноценной практики и начать с проведения медосмотров для страховой компании.
Недавно я был у Гудмана в его скромном кирпичном доме в стиле ранчо, полном собак, кошек и птиц, с украшенной безделушками гостиной. В углу кухни приткнулись его компьютер и библиотека ортопедических журналов и книг на компакт-дисках. Одетый в рубашку поло и брюки цвета хаки, он выглядел расслабленным, уравновешенным и почти праздным. Кроме времени, проводимого с семьей, и восполнения упущенного в своей области, у него было мало занятий. Его жизнь не имела ничего общего с жизнью хирурга, но Гудман чувствовал, что страсть к работе возвращается. Я попытался снова представить его в зеленом хирургическом костюме, в операционной, когда другой ассистент спрашивает по телефону, что делать с пациенткой, у которой воспалилось колено. Кто знает, как повернулось бы дело?
Все мы, чем бы ни занимались, зависим от людей, которым свойственно ошибаться. Трудно принять этот факт, но от него никуда не деться. У каждого врача есть пробелы в знаниях, все еще не заполненные, способность выносить суждения, которая иногда подводит, сила воли, которая может сломаться. Сильнее ли я сейчас, чем этот человек? Больше ли заслуживаю доверия? Более ли ответственен? Вижу ли свои ограничения и проявляю ли необходимую осторожность? Хотелось бы верить в это, и, пожалуй, я должен так думать, чтобы выполнять свою повседневную работу. Но я не знаю этого наверняка. И никто не знает.
Мы с Гудманом отправились в город пообедать, и, когда проезжали мимо его бывшей клиники, сверкающей, современной, я захотел туда зайти, заверив, что ему не обязательно меня сопровождать. За минувшие четыре года он был в этом здании не больше двух или трех раз. Поколебавшись, Гудман решил присоединиться ко мне. Через автоматические раздвижные двери мы вошли в элегантный белый холл. Жизнерадостно прозвенел сигнал оповещения. Я заметил, что Гудман жалеет, что пришел.
«Неужели это доктор Гудман! — улыбнулась из-за регистрационной стойки дородная седовласая женщина. — Я несколько лет вас не видела. Где вы были?»
Гудман застыл, долго не мог подобрать слова и наконец сказал: «Я ушел на покой».
Она недоуменно покачала головой: Гудман выглядел прекрасно, лет на 20 моложе ее. Затем во взгляде женщины мелькнуло понимание — она догадалась, в чем тут дело, и мило выкрутилась: «Надеюсь, вам это в радость».
Он неловко упомянул о своих достижениях в рыбной ловле. Мы повернули к выходу. В дверях он остановился и снова обратился к ней: «Я еще вернусь».
Часть II
ТАЙНА
Пятница, 13-е; полнолуние
Джек Никлаус не сыграл бы и раунда в гольф без трех пенсов в кармане. Майкл Джордан всегда надевал под форму «Чикаго Буллз» боксерские трусы с эмблемой Университета Северной Каролины. Дюк Эллингтон не играл сам и не позволял играть своим джазменам в любом предмете одежды желтого цвета. Для людей, зарабатывающих на жизнь публичными выступлениями, суеверия почти обязательны. Славятся суеверностью, например, бейсболисты. Уэйд Боггс, бывший игрок третьей базы и звезда «Бостон Ред Сокс», обязательно ел курятину перед каждой игрой. Томми Ласорда, когда руководил «Лос-Анджелес Доджерс», всегда ел лапшу — под красным соусом с морепродуктами, если его команде противостоял подающий правша, либо под белым, если против них играл левша. Даже на этом фоне выделяется подающий «Нью-Йорк Метс» Тёрк Уэнделл. Чтобы в игре сопутствовала удача, он надевает ожерелье из клыков животных, всегда обходится без носков, на поле никогда не наступает на лицевую линию и чистит зубы между иннингами. Подписав контракт на сезон 1999 г., он потребовал, чтобы его вознаграждение составило ровно $1 200 000,99, объяснив журналистам: «Мне просто нравится число 99».
Однако врачей с подобными суевериями я пока не встречал. Врачи несгибаемо рациональны, особенно хирурги. Дело в том, что одно из главных удовольствий от научной деятельности, в особенности от оперирования людей, — это успех благодаря рациональному планированию и мышлению. Если таково кредо практической медицины, значит, для врача важно быть здравомыслящим, и мы обычно отторгаем, а то и презираем мистику. Самое большее, найдется хирург, имеющий любимую пару хирургических тапочек или привычку странным способом накладывать повязку на зашитую рану, но и он постарается дать своим причудам логичное, хотя бы внешне, объяснение, например: «другие тапочки менее удобны» или «от этого перевязочного материала могут образовываться нарывы» (хотя больше никто подобных проблем не испытывает). Едва ли вы услышите от врача признание, что нечто кажется ему несчастливым предзнаменованием.
Поэтому я был поражен, когда мы с другими хирургами-ординаторами сели делить месячные ночные дежурства в отделении неотложной помощи и никто не захотел брать пятницу, 13-е. Мы выбирали даты по очереди, и первые несколько раундов все шло как обычно. Сначала у нас остались все пятницы, поскольку дежурить по выходным никто не любит, но, когда и их почти разобрали, стало ясно, что одну пятницу сознательно избегают. Что за нелепость, подумал я и, когда подошла моя очередь, вписал свое имя на эту ночь. «Отдохни как следует, — посоветовал один из ординаторов. — У тебя будет хлопотное дежурство». Я пренебрежительно рассмеялся.
Заглянув через несколько дней в календарь, я заметил, что в ту пятницу будет еще и полнолуние. Затем кто-то упомянул, что произойдет и лунное затмение. На миг — всего лишь на миг, уверяю вас, — моя решимость пошатнулась. Что, если мне действительно выдастся тяжелая ночь… Однако, будучи трезвомыслящим и грамотным врачом, я не поддаюсь подобным мыслям. Безусловно, действительность опровергает эти абсурдные страхи! Просто чтобы в этом убедиться, я пошел в библиотеку.
Мне удалось найти ровно одно научное исследование, в котором выяснялось, действительно ли пятница, 13-е, является несчастливым днем{1}. (Не знаю, чему удивляться больше: тому, что этот вопрос был исследован, или что такая работа обнаружилась. В конце концов, в нашем мире имеются исследования практически всего, что только можно себе представить. Однажды, роясь в библиотеке, я наткнулся на отчет о распределении слюны во рту при жевании резинки.) Исследование 1993 г., опубликованное в British Medical Journal, сравнивало показатели госпитализации пострадавших в дорожных авариях в пятницу 13-го числа и в пятницу 6-го числа в предместье Лондона. Хотя 13-го движение на автомагистрали было менее интенсивным, чем 6-го, жертв аварий было доставлено в больницу на 52 % больше. «Пятница, 13-е, является несчастливым днем для некоторых людей, — сделали вывод авторы. — Рекомендуется оставаться дома». Как избежать невезенья дома, они не объяснили.
Я сказал себе не делать далеко идущих выводов из единственного исследования одной пятницы в одном городке. Рост числа автомобильных аварий, вероятно, объяснялся случайной вариацией. Только стабильные плохие результаты в нескольких исследованиях выглядели бы убедительно, но и тогда зависимость требовалось бы доказать.
Что уже доказано, так это что людям свойственно усматривать воображаемые паттерны (плохие или хорошие) там, где их нет. Так работает наш мозг. Полная случайность часто кажется нам закономерностью. Статистик Уильям Феллер привел классический ныне пример. Во время Второй мировой войны, когда гитлеровцы интенсивно бомбили Южный Лондон, на некоторые его районы бомбы падали во много раз чаще, чем на остальные, а другие вообще не пострадали. Казалось, бомбардировщики намеренно обходят уцелевшие места, и жители пришли к выводу, что там сидят германские шпионы. Однако, проанализировав статистику попадания бомб, Феллер обнаружил, что распределение было случайным{2}.
Склонность видеть несуществующие паттерны называется ошибкой меткого стрелка{3}. Как снайпер, стреляющий в стену сарая, а затем рисующий мишень вокруг дырок от пуль, мы в первую очередь замечаем необычные совпадения, например четыре неприятности в один день, после чего подбираем под них паттерн. Думаю, мы могли бы с тем же успехом бояться четверга, 13-го, или пятницы, 5-го. Тем не менее страх перед пятницей, 13-го, встречается повсеместно. Дональд Досси, бихевиорист из Северной Каролины, провел исследование и заключил, что от 17 до 21 млн американцев испытывают тревогу от легкой до сильной или меняют свои планы из-за параскаведекатриафобии (от греч. «страх пятницы, 13-го»). Они проводят ритуалы, прежде чем выйти из дома, отпрашиваются с работы под предлогом болезни, отменяют полеты или крупные покупки, что обходится бизнесу в $750 млн ежегодно.
Еще более серьезные суеверия касаются Луны. По данным опроса 1995 г., 43 % американцев верят, что Луна влияет на поведение человека. Что любопытно, специалисты по психическому здоровью более склонны соглашаться с этим, чем представители других сфер деятельности. Полнолуние веками считается связанным с безумием (отсюда «лунатик»[8]), причем в изолированных друг от друга цивилизациях по всему свету. Безусловно, идея лунных циклов человека представляется более обоснованной, чем вера во влияние пятницы 13-го числа. Ученые когда-то отвергали мысль о биологических циклах, но теперь сходятся на том, что время года может влиять на настроение и поведение и что у каждого из нас имеются «циркадные ритмы», в соответствии с которыми время суток влияет на нашу температуру, активность, память и настроение.
Компьютерный поиск принес около сотни попыток ученых обнаружить лунные (циркалунарные) биоритмы. Самым интригующим оказалось пятилетнее исследование самоотравлений в больнице австралийского штата Новый Южный Уэльс, опубликованное в Medical Journal of Australia{4}. С 1988 по 1993 г. в больницу поступило 2215 пациентов с передозировкой лекарств или отравлением ядовитыми веществами. Ученые попытались соотнести пики частоты этих случаев не только с фазами луны, но и со знаками зодиака и нумерологическими характеристиками пострадавших («рассчитанными согласно формулам из „Энциклопедии древних и запретных знаний Золара“», как указывают авторы). Результат никого не удивил: уровень самоотравления не зависел от того, родился ли пациент под знаком Девы или Весов. Не имели никакого значения и сообщаемые Золаром «число имени», «число месяца» или «число жизненного пути», рассчитываемые по дате рождения. Однако женщины (но не мужчины) на 25 % реже совершали передозировку во время полнолуния, чем во время новолуния.
Как ни странно, это снижение частоты самоотравлений согласовывалось с результатами других исследований. Если между психологией и полнолунием существует какая-то связь, полная луна, видимо, защищает нас. Авторы исследования 1996 г., проанализировавшие самоубийства за десять лет во французском регионе Дордонь, сделали заключение на очаровательно безграмотном английском, что «французы умирают меньше в полную луну и больше в новую луну»{5}. Исследования в округе Кайахога штата Огайо и в округе Дейд во Флориде также выявили снижение количества суицидов в полнолуние, но и в них не были приведены убедительные доказательств благоприятного влияния полной луны. В намного большем числе исследований так и не было обнаружено никакой связи лунных фаз с самоубийствами{6}.
На другие проявления безумия луна, видимо, не влияет. Исследовались обращения в полицию, консультации с психиатрами, случаи домашнего насилия и другие подобные свидетельства, в том числе, как я отметил, обращения в приемные отделения больниц. Устойчивых взаимосвязей с луной выявлено не было.
Успокоенный, я ушел из библиотеки в убеждении, что ни полная луна, ни зловещая дата не угрожают моему ночному дежурству. Через пару недель назначенный вечер настал. Я явился в отделение неотложной помощи в 18:00, готовый заступить на место дневного дежурного ординатора. К моему смятению, помещение уже было переполнено ожидавшими своей очереди пациентами. Едва я начал прием, поступил пострадавший в автомобильной аварии с травмой — бледный, истекающий кровью 28-летний парень без сознания после лобового столкновения на большой скорости. Полицейские и парамедики сказали, что он угрожал своей девушке пистолетом. Когда приехали копы, парень попытался скрыться на своей машине, они бросились в погоню, и все закончилось крупной аварией.
Остальная ночь прошла не лучше. Я был завален работой: носился туда-сюда, не имея возможности присесть ни на минуту и едва различая пациентов.
«Так ведь пятница, 13-е, да еще и полнолуние», — объяснила медсестра.
Я хотел было возразить, что исследования не выявили никакой связи, но мой пейджер зашелся, прежде чем я произнес хоть слово. «Скорая» везла очередного пострадавшего.
Непостижимая боль
У каждой боли есть история. История боли Роланда Куинлана восходит к давнему несчастному случаю, произошедшему, когда ему был 56 лет. Бостонский архитектор и завзятый мореход с шапкой седых волос, любитель галстуков-бабочек и голландских сигарилл, Куинлан возглавлял процветающую фирму, носящую его имя, с офисом на Бикон-стрит и спроектировал такие здания, как медицинская школа Массачусетского университета. В марте 1998 г. он упал с настила на строительной площадке одного из своих объектов — павильона в зоопарке Франклина. Спина не пострадала, но левое плечо было смещено и раздроблено, потребовалось несколько операций. Осенью Куинлан вернулся за чертежный стол, и его скрутил болезненный спазм. Казалось, в спине извивается змея. Приступы повторялись, и, хотя сначала он пытался не обращать на боль внимания, скоро она стала невыносимой. Не раз случалось, что архитектор стоял и разговаривал с клиентом, как вдруг спину пронзала боль и он едва мог сдержать крик, а клиенту приходилось поддерживать его и помогать сесть на диван или на пол. Однажды, когда Куинлан был в ресторане с другом, начался приступ настолько сильной боли, что его вырвало прямо за столом. Скоро он не мог работать больше двух-трех часов в день и был вынужден передать фирму партнерам.
Ортопед сделал множество рентгеновских снимков. Они выявили разве что небольшой артрит, но ничего необычного. Куинлана направили к специалисту по боли, который шприцем с длинной иглой сделал ему в позвоночник инъекцию стероидов и местного обезболивающего. Первые несколько раз эпидуральная анестезия действовала дни и даже недели, но эффект последующих уколов был все менее продолжительным, пока не исчез совсем.
Я видел результаты его КТ (компьютерной томографии) и кипу других тестов и медицинских снимков. Ничто в них не свидетельствовало о сильной боли в спине: ни перелома, ни опухоли, ни инфекции, ни даже признаков артритного воспаления. Позвонки были идеально ровные, как шашки, выложенные в столбик. Ни один из мягких гелеобразных дисков, расположенных, словно прокладки, между позвонками, не был поврежден. В нижнем отделе спины, поясничном, два межпозвонковых диска слегка выпячивались, что нормально для мужчин этого возраста, и выпячивания не давили ни на один нерв. Даже интерн увидел бы, что показания для операции на спине отсутствуют.
К пациентам с хронической болью, не имеющей физических причин, — таких становится все больше — врачи часто относятся пренебрежительно. Мы убеждены, что мир объясним и логичен и что проблемы этого мира можно увидеть, почувствовать или хотя бы измерить с помощью прибора. Следовательно, полагаем мы, причина такой боли, как у Куинлана, исключительно в голове: это не физическая боль, а другая, как бы менее реальная, «психологическая» боль. Ортопед Куинлана посоветовал ему обратиться к психиатру, наряду с физиотерапевтом.
Посетив Куинлана в его доме в приморском городке под Бостоном, я обнаружил архитектора, как выяснилось, на привычном месте — за рабочим столом на кухне, развернутым к окну во всю стену, за которым открывался вид на маленький сад. Рулоны чертежей неоконченного проекта были разбросаны по столу. На одном краю лежала головная гарнитура телефона. Из подставки торчал десяток разных ручек, маленькие линейки и угломер. Куинлан поморщился от боли, поднимаясь, чтобы поздороваться со мной. Я вспомнил о тщательном медицинском освидетельствовании и многочисленных «чистых» снимках его спины. Не прикидывается ли он?
В ответ на мой вопрос Куинлан слабо улыбнулся и сказал, что иногда сам об этом гадает. «Я ведь отлично устроился», — заметил он. Автомобильный знак инвалида, финансовое благополучие и никаких стрессов, связанных с ведением бизнеса, а если не хочется что-нибудь делать, достаточно сказать, что спина его убивает. Однако, несмотря на пластырь на руке, из которого в кожу круглосуточно поступали большие дозы наркотического средства «Фентанила», Куинлан не мог делать простейшие вещи — стоять прямо, подняться по лестнице или хотя бы спать, вытянувшись, дольше четырех часов, — без острого чувства, будто «что-то выкручивает мышцу в спине».
Я спросил его жену, высокую женщину на несколько лет моложе мужа, с правильными чертами лица и печальными глазами, не закрадывалась ли у нее мысль, что он симулирует боль. Она ответила, что день за днем уже десять лет видит его страдания и живет в условиях все больших ограничений, налагаемых болью на его и ее жизнь. Она видит, как боль побеждает его в таких моментах, где гордость не позволила бы ему притворяться. Муж пытается нести покупки, но через несколько мгновений вынужден со стыдом передать их ей. Хотя он любит кино, они не были в кинотеатре уже несколько лет. Несколько раз боль, вызванная движением, была такой сильной, что Куинлан мочился в штаны, не в силах заставить себя дойти до туалета.
Тем не менее некоторые особенности этой боли озадачивали ее и заставляли думать, не была ли она в какой-то степени связана с головой. Женщина заметила, что при тревоге или раздражении боль усиливается, а если Куинлан в хорошем настроении или просто отвлечется, то боль может пройти. У него бывали приступы депрессии, очевидно вызывающие ужасные спазмы почти независимо от его физических действий. Как и врачи, жена удивлялась, что настолько невыносимая боль может быть не связана ни с какими физическими нарушениями, которые так и не были обнаружены. Что можно сказать об условиях, провоцирующих приступ, — мыслях, настроении, хотя иногда боль возникала и при полном отсутствии причины? Эти особенности казались ей необычными и нуждались в объяснении. Однако неприятная правда состоит в том, что случай Роланда Куинлана не является необычным. Среди пациентов с хронической болью это типичная картина{1}.
Доктор Эдгар Росс, 40-летний анестезиолог, является директором центра лечения хронической боли при больнице Бригхэма (Brigham and Women’s Hospital) в Бостоне, где наблюдается Куинлан. К доктору Россу обращаются пациенты со всевозможными разновидностями боли: в спине, в шее, в суставах, во всем теле, с невропатической болью, тазовой, связанной со СПИДом или злокачественными опухолями, с хронической головной болью, с фантомными болями. Зачастую они уже побывали у множества врачей и испробовали множество способов лечения, включая хирургический, но безрезультатно.
Приемная центра внешне не отличается от кабинета любого врача: синий ковролин, старые журналы, ряд пациентов, с отрешенным видом сидящих вдоль стены. В витрине выставлены благодарственные письма. Однако, недавно посетив доктора Росса, я обратил внимание, что эти письма — не типичные отзывы-рекомендации, которые доктора любят выставлять на обозрение. Пациенты благодарили не за то, что их вылечили, а уже за одно то, что к их боли отнеслись серьезно — поверили в нее. Честно говоря, и врачи, такие как я, благодарны специалистам по лечению боли. Мы стремимся объективно относиться ко всем больным, но в глубине души признаем: пациенты с хронической болью — источник фрустрации и раздражения: их болезнь мы не в состоянии ни объяснить, ни облегчить, и это заставляет нас сомневаться в собственных возможностях и компетентности. Все мы рады препоручить их кому-нибудь вроде доктора Росса.
Росс пригласил меня в кабинет. Неторопливый, с негромким голосом, он производил успокаивающее впечатление, что идеально при его специализации. Доктор рассказал, что такую проблему, как у Куинлана, наблюдает чаще всего. Хроническая боль в спине на сегодняшний день — вторая по распространенности причина потери рабочего времени, на которую приходится около 40 % страховых выплат работникам. Фактически можно говорить об эпидемии боли в спине в современных США, и никто не может объяснить ее причин. Принято считать, что эта проблема вызвана механическими факторами и является результатом недопустимой нагрузки на позвоночник, поэтому у нас уже около 60 лет действуют программы гигиены труда, а теперь даже «школы спины», обучающие в том числе «правильному способу поднятия тяжестей». Однако, несмотря на неуклонное сокращение количества занятых ручным трудом, от хронической боли в спине страдает, как никогда, много людей.
Росс утверждает, что «механическое объяснение» почти наверняка ошибочно. Действительно, если неправильно поднять тяжелый предмет, можно растянуть мышцу или сместить позвоночный диск, но такое напряжение когда-нибудь испытывает практически каждый, и у большинства это не вызывает стойкой проблемы. Было проведено множество исследований с целью найти физические факторы, по которым можно предсказать, какие именно острые травмы спины разовьются в хроническую боль, но ничего не было обнаружено. Например, врачи привыкли считать, что поврежденные диски вызывают боль, но недавние исследования этого не подтвердили. Результаты МРТ-сканирования спины показали, что у большинства людей, у которых спина не болит, имеются выпячивания дисков. Наоборот, у значительной доли пациентов с хронической болью в спине, таких как Куинлан, структурные повреждения не выявлены. Даже при наличии повреждений отсутствует связь между их тяжестью и интенсивностью боли.
Если развитие хронической боли в спине зависит не от состояния спины, то тогда от чего? Как оказалось, от повседневных факторов, обычно не учитываемых ни врачами, ни пациентами. Исследования выявили такие «внешние» факторы, как одиночество, судебная тяжба, получение компенсации по нетрудоспособности и неудовлетворенность работой. Рассмотрим, например, эпидемию боли в спине среди самих врачей. Когда-то страховые компании, продающие полисы по инвалидности, считали медиков идеальными клиентами. Ничто не помешает врачу работать — ни годы в полусогнутом положении над операционным столом, ни артрит, ни даже преклонный возраст. Страховщики конкурировали друг с другом, стараясь привлечь медиков снижением ставок и щедрыми бонусами. Однако в последние годы количество докторов с инвалидизирующей болью в спине или шее резко выросло{2}. Разумеется, сложно представить, что в служебные обязанности врачей внезапно включили перетаскивание тяжестей, но один фактор риска был выявлен: с распространением регулируемого медицинского обслуживания их удовлетворенность работой стремительно упала.
Объяснение боли, господствующее в медицине на протяжении значительной части ее истории, было выдвинуто Рене Декартом больше трех столетий назад{3}. Декарт предположил, что боль — чисто физический феномен: повреждение тканей стимулирует определенные нервы, передающие импульс в головной мозг, заставляя его воспринимать боль. Это явление подобно дерганию шнура, отчего в мозге звонит звонок. Трудно переоценить, насколько глубоко укоренилось это представление. Исследования боли в XX в. были посвящены преимущественно поиску и открытию нервных волокон (теперь они называются А-дельта и С-волокна) и путей, отвечающих именно за боль. В повседневной практике врачи рассматривают боль с картезианских позиций — как физический процесс, признак повреждения тканей. Мы ищем разорвавшийся диск, перелом, инфекцию или опухоль и пытаемся устранить нарушение.
Однако давно очевидны ограничения этого механистического определения. Например, во время Второй мировой войны подполковник Генри К. Бичер провел классическое исследование среди солдат с тяжелыми боевыми ранениями{4}. С картезианской точки зрения тяжесть ранения должна предопределять интенсивность боли, как тумблер регулирует громкость. Тем не менее 58 % мужчин — со сложными переломами, огнестрельными ранами, оторванными конечностями — сообщили, что испытывают слабую боль или вообще не чувствуют ее. Только 27 % раненых настолько страдали от боли, что требовалось медикаментозное обезболивание, хотя при аналогичных повреждениях у гражданских лиц применяются наркотики. Очевидно, что-то, происходившее у них в мозге (по мнению Бичера, эйфория от того, что удалось вернуться из боя живыми), противодействовало сигналам от поврежденных тканей. Пришлось признать, что боль намного сложнее односторонней передачи сигнала: повреждение — «ой, больно!».
В 1965 г. канадский психолог Рональд Мелзак и британский психолог Патрик Уолл предложили на смену картезианской модели боли собственную, которую назвали теорией ворот{5}. Мелзак и Уолл утверждали, что, прежде чем достичь головного мозга, сигналы боли проходят через контрольно-пропускной механизм в спинном мозге, который направляет их вниз или вверх. В некоторых случаях эти гипотетические ворота просто не пропускают болевые импульсы к головному мозгу. Исследователи скоро обнаружили ворота боли в участке спинного мозга — задних рогах. Эта теория объяснила некоторые загадочные явления, с которыми мы встречаемся едва ли не каждый день: почему, например, становится легче, если потереть больную ногу (трение посылает в задний рог сигналы, закрывающие ворота для ближних болевых импульсов).
Самое поразительное предположение Мелзака и Уолла заключалось в том, что воротами боли управляют не только сигналы от чувствительных нервов, но и эмоции и другие «вводные данные» от головного мозга. Можно сказать, колокольчик не обязательно звонит, если дернуть шнур. Сам колокольчик — разум — может остановить сигнал. Эта теория породила большое количество исследований с целью изучения возможного влияния на боль таких факторов, как настроение, пол и убеждения{6}. Например, ученые измерили болевой порог и переносимость боли у 52 танцоров британской балетной труппы и 53 студентов университета с помощью стандартного метода — холодового прессорного теста. Тест гениально прост (я сам провел его дома на себе). Подержав руку 2 минуты в воде комнатной температуры, чтобы создать базовые условия, погружаете руку в емкость с ледяной водой и следите за секундомером. Замечаете время, когда появится жжение: это ваш болевой порог. Затем отмечаете время, когда жжение становится слишком сильным, чтобы дальше держать руку в воде: это ваша болевая переносимость. Тест всегда останавливают на 120 секундах во избежание повреждения.
Результаты поражали. В среднем студентки сообщали о боли через 16 секунд и вытаскивали руку из ледяной воды на 32-й секунде. Танцовщицы оказались почти в три раза терпеливее по обоим показателям. Мужчины в обеих группах имели более высокие болевой порог и переносимость боли, как и ожидалось, поскольку исследования свидетельствуют, что женщины более восприимчивы к боли, чем мужчины (за исключением последних нескольких недель беременности), но разница между мужчинами-танцорами и студентами оказалась почти столь же велика. Почему? Возможно, из-за психологии артистов балета — группы, отличающейся самодисциплиной, хорошей физической формой, духом соперничества, а также высоким уровнем хронических травм. Личная увлеченность и культурная среда, способствующая конкуренции, делают их менее чувствительными к боли, поэтому они могут выступать несмотря на растяжения и усталостные переломы, и у половины танцоров развиваются хронические травмы. (Как и другие мужчины не из мира балета, я почувствовал боль примерно на 25-й секунде, но без проблем продержал руку в ледяной воде все 120 секунд. Предоставляю другим рассуждать об этом свидетельстве долготерпения, воспитываемого у хирургов-ординаторов.)
Другие исследования показали, что экстраверты терпят боль лучше интровертов, у наркозависимых низкие показатели переносимости боли и болевого порога, а болевую чувствительность можно уменьшить путем тренировки. Имеются также поразительные свидетельства того, что очень простые ментальные установки могут оказывать мощное воздействие на боль. В одном исследовании с участием 500 пациентов во время стоматологических процедур наименьший дискомфорт испытывали те из них, кому был сделан укол плацебо и внушено, что это обезболивающее. Они страдали от боли не только меньше тех, кому дали плацебо и ничего не сказали, но и тех, кому был дан настоящий анестетик без утверждения, что это им поможет. На сегодня более чем очевидно, что мозг активно участвует в ощущении боли, что это никоим образом не «колокольчик на шнурке». Сегодня в любом учебнике медицины теория ворот описана как факт. Однако с ней связана одна проблема: она не объясняет такие случаи, как у Роланда Куинлана.
Теория ворот разделяет картезианский взгляд, согласно которому то, что вы ощущаете как боль, является сигналом от поврежденной ткани, передающимся через нервы в головной мозг, но добавляет идею о том, что мозг контролирует ворота, через которые проходит сигнал. Однако где же повреждение в случае хронической боли в спине у Куинлана? Или рассмотрим, например, фантомные боли. После ампутации конечности большинство пациентов переживают период постоянного некупируемого жжения или судорог, которые ощущаются так, словно конечность до сих пор на месте, но при отсутствии конечности нет и нервных импульсов, которые могли бы контролироваться воротами. Что же вызывает боль? Ни шнура, ни язычка не осталось, но колокольчик по-прежнему звенит.
Однажды весной 1994 г. доктор Фредерик Ленц, нейрохирург в больнице Джона Хопкинса, оперировал пациента с тяжелым тремором рук. Пациенту, назовем его Марком Тейлором, было всего 36 лет, но в течение нескольких лет его руки начали так сильно дрожать, что для него стало немыслимо трудно совершать простейшие действия — писать, застегнуть рубашку, выпить из стакана, набрать текст на клавиатуре компьютера (он работал агентом по закупкам). Лекарства не помогли, и он уже несколько раз терял работу из-за своих проблем. Отчаянно желая вернуться к нормальной жизни, он согласился на тонкую процедуру — операцию на мозге, которая уничтожила бы клетки маленькой структуры, таламуса, о котором было известно, что он участвует в избыточной стимуляции рук.
У Тейлора была еще одна серьезная проблема: он 17 лет страдал от тяжелого панического расстройства. По меньшей мере раз в неделю, на работе за компьютером или дома, когда он кормил на кухне ребенка, его неожиданно скручивала ужасная боль в груди, как при сердечном приступе. Сердце колотилось, в ушах звенело, он начинал задыхаться и испытывал непреодолимую потребность спасаться бегством. Тем не менее психолог, с которым проконсультировался Ленц, уверил его, что психическое нарушение не станет помехой для операции.
Сначала, по словам Ленца, все шло, как он и предполагал. Он ввел местное обезболивающее — операция проводится на бодрствующем пациенте — и сделал небольшой разрез на макушке Тейлора. Затем осторожно ввел длинный тонкий электрод глубоко внутрь, в таламус. Ленц все время разговаривал с Тейлором, предлагая высунуть язык, пошевелить рукой, выполнить десятки других действий, показывающих, что с ним все в порядке. Опасность операций этого типа заключается в том, что можно уничтожить не те клетки: клетки таламуса, ответственные за тремор, расположены всего в доле миллиметра от клеток, обеспечивающих чувствительность и двигательную активность. Поэтому перед прижиганием электродом большего размера хирург должен найти нужные клетки, стимулируя их слабым электрическим разрядом. Электрод находился в отделе таламуса Тейлора, обозначенном Ленцем как участок № 19, и он подал на него низкое напряжение. Он уже делал это тысячи раз. Обычно подача разряда на этот участок вызывает у пациентов ощущение покалывания в предплечье, почувствовал его и Тейлор. Ленц подал разряд на прилегающую зону, которую назвал участком № 23, стимуляция которой обычно вызывает слабое, заурядное пощипывание в груди, однако Тейлор ощутил неожиданно сильную боль — такую же, как при панических атаках, а также удушье и внезапное чувство приближающейся смерти, которые всегда их сопровождали. Он закричал и едва не соскочил с операционного стола. Как только Ленц прекратил стимуляцию, ощущение прошло и Тейлор мгновенно успокоился. Изумленный Ленц снова подал разряд на участок № 23 и наблюдал тот же эффект. Он остановился, извинился перед Тейлором за доставленное неудобство и вернулся к поиску клеток, отвечающих за тремор. Он прижег их, и операция завершилась успешно.
Пока Ленц заканчивал процедуру, его ум лихорадочно работал. До сих пор он лишь однажды наблюдал подобный эффект у 69-летней женщины с давней историей трудно купируемой стенокардической боли, вызываемой не только физической нагрузкой, но и минимальным физическим усилием, которое не должно было бы сказываться на сердце. При аналогичной операции Ленц обнаружил, что стимуляция микроскопической области мозга, обычно приводящая к слабой болезненности в груди, у этой больной, как и у Тейлора, провоцирует намного более тяжелую и знакомую боль — ощущение, которое она описывала как «сильная щемящая боль, вызывающая страх». Последствия этого легко было проглядеть, но Ленц много лет изучал боль и понял, что наблюдал важный и показательный эффект. Как он впоследствии отметил в отчете, опубликованном в журнале Nature Medicine, отклик этих двух пациентов был совершенно не пропорционален стимулу{7}. Области мозга, управляющие обычными ощущениями, оказались аномально сенситивными — склонными активизироваться в ответ на безопасные стимулы. У пациентки боль в груди началась как сигнал о сердечной болезни, но теперь проявлялась в условиях, ничем не напоминающих приближающийся сердечный приступ. Еще более странным оказался случай Тейлора: появление боли было связано не с каким-либо телесным повреждением, а с паническим расстройством, которое считается психологическим состоянием. Результаты Ленца заставляют предположить, что в действительности любая боль — «от головы» и что иногда, как в случаях Марка Тейлора и, возможно, Роланда Куинлана, не требуется физического повреждения для возбуждения системы передачи болевых импульсов.
Такова новейшая теория боли. Ее главным создателем является упомянутый выше Мелзак, отказавшийся в конце 1980-х гг. от теории ворот и призвавший коллег-скептиков еще раз пересмотреть свои представления о боли{8}. По его утверждению, имеющиеся данные должны заставить нас перестать считать боль или любое другое ощущение сигналом, пассивно «принимаемым» головным мозгом. Действительно, ранение порождает нервные импульсы, идущие через ворота спинного мозга, но именно головной мозг формирует телесный опыт боли и может делать это даже в отсутствии внешних стимулов. Если безумный ученый не оставит от вас ничего, кроме мозга в банке, говорит Мелзак, вы все равно сможете чувствовать боль — более того, будете иметь полный спектр чувственного восприятия.
Согласно новой теории, боль и другие чувства рассматриваются как «нейромодули» в мозге, наподобие отдельных компьютерных программ на жестком диске или дорожек компакт-диска. Если вам больно, значит, ваш мозг запустил нейромодуль, продуцирующий опыт боли, как будто кто-то нажал кнопку воспроизведения CD-плеера. Нажать эту кнопку может очень многое (помимо нейрохирурга, попавшего в нужный нейрон низковольтовым электрическим разрядом). В трактовке Мелзака «нейромодуль боли» является не отдельной анатомической структурой, а сетью, связывающей компоненты практически всех областей мозга. Входные данные поступают от чувствительных нервов, центров памяти, настроения и других центров, выступающих в роли членов комиссии, решающей, исполнять ли эту мелодию. Если сигналы достигают определенного порога, то они запускают нейромодуль. Тогда начинает воспроизводиться не одна нота. Боль — это симфония, сложный отклик, включающий не только конкретное ощущение, но и двигательную активность, изменение эмоционального состояния, концентрацию внимания, новое воспоминание.
Оказывается, даже простая боль в ушибленном пальце далеко не так проста. С этой точки зрения сигнал от пальца также проходит через ворота спинного мозга, но затем соединяется в головном мозге со множеством других сигналов, порожденных памятью, ожиданиями, настроением, отвлекающими факторами. В совокупности они могут активировать нейромодуль «боль в пальце». У некоторых людей, однако, физические стимулы могут быть нейтрализованы, и они едва заметят, что ушибли палец. Пока удивляться нечему, но представим — и это самое радикальное следствие из идей Мелзака, — что тот же нейромодуль может сработать, вызывая настоящую боль в пальце, хотя палец не был ушиблен. Нейромодуль, как зона № 23 в мозгу Марка Тейлора, превращается во взведенный спусковой крючок. Теперь практически все может его спустить: прикосновение, страх, внезапное разочарование, просто воспоминание.
Новая теория психологии боли указала направление в поиске способов фармакологического лечения боли, хотя это и кажется противоестественным. Для фармакологов «священный Грааль» лечения хронической боли — это таблетка, более эффективная, чем морфин, но без его побочных эффектов: зависимости, вялости и двигательных нарушений. Если источником проблемы является гиперактивная нервная система, следовательно, нужно лекарство, которое погасит эту избыточную активность. Десять лет назад это могло бы показаться странным, но теперь специалисты по боли все чаще прописывают самым трудноизлечимым пациентам противоэпилептические средства, такие как «Карбамазепин» и «Габапентин». В конце концов, их действие в этом и заключается: они перенастраивают клетки головного мозга, меняя их возбудимость. На данный момент эти лекарства помогают лишь некоторым — Куинлан больше шести месяцев принимал «Габапентин» без особого эффекта, — но фармацевтические компании активно работают над новым поколением нейростабилизаторов.
Например, Neurex, маленькая биотехнологическая компания из Кремниевой долины (теперь она называется Elan Pharmaceuticals), с опорой на эту идею недавно разработала лекарство от боли из яда морского моллюска конуса (Conus). Очевидно, что яды биологически активны и, в отличие от большинства белков природного происхождения, которые ученые пытались использовать в качестве лекарств, не подвержены действию механизмов расщепления белков в нашем организме. Вся хитрость состоит в том, чтобы подчинить себе яд, модифицировать его, сделав полезным для медицины. Известно, что яд конуса убивает, блокируя особые пути в головном мозге, необходимые для активизации нейронов. Немного изменив его, ученые Neurex создали «Зиконотид», лекарство, лишь слегка угнетающее эти пути. Вместо того чтобы отключать клетки мозга, оно просто приглушает их возбудимость. В ходе первых клинических испытаний «Зиконотид» эффективно справился с хронической болью, вызываемой раком и СПИДом. Другой анальгетик нового поколения, находящийся в разработке в Abbott Laboratories, — это АВТ-594, препарат из яда эквадорской лягушки (Epibpedobates tricolor). В опытах на животных, результаты которых опубликованы в журнале Science, АВТ-594 как средство для облегчении боли оказался в 50 раз эффективнее морфина. У компаний есть и другие наработки, в том числе особый класс лекарств, антагонисты NMDA-рецептора, действие которых также основано на снижении нервной возбудимости. Одно из них может оказаться спасительным для Куинлана и подобных ему пациентов{9}.
Эти лекарства, однако, в лучшем случае половинчатое решение. Фундаментальная проблема, стоящая перед исследователями, заключается в первую очередь в том, как не позволить болевой системе подобных пациентов разбалансироваться. Истории, которые люди рассказывают о возникновении своей хронической боли, обычно начинаются с первичной травмы. Традиционно мы пытались предупредить хроническую боль, предотвращая разрушительные нагрузки, на этом основана целая индустрия эргономики. Данные, полученные в клинике Росса и операционной Ленца, свидетельствуют, что предвестники боли находятся где угодно, только не в мышцах и не в костях пациентов. Действительно, некоторые формы хронической боли поразительно похожи на социальные эпидемии.
В Австралии в начале 1980-х гг. среди рабочих, в особенности операторов машинного набора, разразилась неожиданная вспышка инвалидизирующей боли в руках{10}, которую врачи назвали «травмой от повторяющихся нагрузок» (RSI)[9]. Это был не легкий писчий спазм, а сильная боль, начинавшаяся небольшим дискомфортом во время печатания или других подобных повторяющихся действий и прогрессировавшая до инвалидности. В среднем до наступления нетрудоспособности проходило 74 дня. Как и в случае хронической боли в спине, стойких физических нарушений и эффективного лечения найти не удалось, но RSI распространялась, словно инфекция. До 1981 г. она практически не наблюдалась, однако на пике, в 1985 г., охватила огромное количество работников. В двух австралийских штатах RSI поразила до 30 % занятых в определенных сферах деятельности; в то же время некоторые группы работников практически не были затронуты. Кластеры возникали даже в рамках одной организации. Например, в компании Telecom Australia заболеваемость телефонистов RSI в разных отделах сильно отличалась. Ученым не удалось найти связей между этой производственной травмой и физическими условиями работы — повторяемостью действий или эргономичностью оборудования. Эпидемия прекратилась так же неожиданно, как и началась. К 1987 г. она практически исчезла. В конце 1990-х гг. австралийские исследователи жаловались, что не могут найти достаточно пациентов с RSI для изучения.
Хроническая боль в спине известна людям так давно, что трудно с точки зрения общего осмысления — и даже политики — взглянуть на нее со стороны и признать ее социальное происхождение, тем более установить, какие культурные факторы выводят из равновесия болевую систему индивида. Австралийская эпидемия боли показывает, что эти факторы способны спровоцировать настоящую инвалидизирующую боль в масштабе страны, но наше знание об этих причинах и их контроле совершенно недостаточны. Из разнообразных исследований мы знаем, что наличие социальной поддержи — скажем, счастливый брак и приносящая удовлетворение работа — предохраняют от боли в спине, ограничивающей движение. Статистические данные говорят о том, что сама постановка определенного диагноза и получение выплат по нетрудоспособности (то есть своего рода официальное признание и подтверждение) могут способствовать появлению хронической боли. Например, многие исследователи считают двумя главными факторами, спровоцировавшими эпидемию в Австралии, клеймо диагноза RSI и поспешность правительства в обеспечении выплат в связи с этим синдромом как профзаболеванием. Когда врачи «разлюбили» этот диагноз, а получить пособие по инвалидности стало труднее, симптомы расстройства практически исчезли. Оказалось также, что предварительное оповещение о возможных проявлениях боли в руках и предпринятые в некоторых местах скоординированные кампании по информированию о синдроме или по повышению эргономичности рабочего места лишь способствовали эпидемии. Сравнительно недавно в США разгорелись споры о первопричинах аналогичной производственной эпидемии, называемой по-разному: туннельный синдром, расстройство вследствие повторяющегося движения или (предпочитаемое ныне) кумулятивное травматическое расстройство. Опять-таки основные факторы риска оказались социальными, а не физическими.
Не только боль в спине и руке может иметь нефизическую причину. Исследования показали, что социальные условия играют преобладающую роль во многих хронических болевых синдромах, включая синдром хронической тазовой боли, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, хроническую тензионную головную боль и многое другое. Повторюсь, из этого не следует, что пациенты симулируют боль. Судя по данным Мелзака, боль, причиной которой является не физическое повреждение, ничуть не менее реальна, чем боль вследствие повреждения, — для мозга это совершенно одно и то же. Гуманный подход к хронической боли предполагает изучение ее социальных, а не только физических слагаемых. Решение проблемы связано скорее с тем, что происходит вокруг, а не внутри нас. Это, пожалуй, самое удивительное следствие новой теории боли, имеющее и самые далеко идущие последствия: оно делает боль политическим вопросом.
Невыносимая тошнота
Когда Эми Фицпатрик начало тошнить, казалось, что беспокоиться не о чем. Она была на 8-й неделе беременности — УЗИ показало, что у нее близнецы, — и по опыту сестры и подруг знала, что тошноты ей не избежать. Однако первый же приступ оказался нетипичным. Она ехала на работу в своей «хонде» по нью-йоркской автомагистрали им. Франклина Рузвельта в плотном утреннем потоке на скорости около 80 км/ч и поняла, что ее вот-вот вырвет.
Эми Фицпатрик было 29 лет. Высокая брюнетка со светлой кожей ирландки и ямочкой на подбородке, она выглядела так молодо, что ее не всегда принимали всерьез, несмотря на степень МВА Уортонской школы бизнеса. Эми жила на Манхэттене, была замужем за инвестиционным банкиром и постоянно ездила в Манхассет на Лонг-Айленде, где работала консультантом по менеджменту в фирме North Shore Health System. Тем прекрасным мартовским утром ей срочно понадобилось остановиться и облегчить желудок.
Когда Эми свернула с магистрали на съезд к мосту Трайборо, у нее кружилась голова и бурлило в животе. Говоря научным языком, она находилась в «продромальной стадии рвоты»{1}. При этом усиливается слюноотделение, иногда очень сильно. Зрачки расширяются. Колотится сердце. Кровеносные сосуды в коже сужаются, вызывая бледность, — ученые НАСА даже используют кожные датчики для выявления «космической болезни» у астронавтов, которые не желают признавать, что их тошнит. Проступает холодный пот. В считаные минуты наваливается слабость и нередко сонливость. Внимание, рефлексы и концентрация падают.
Между тем желудок развивает аномальную электрическую активность, которая не позволяет ему опустошаться и заставляет расслабляться. Пищевод сокращается, приподнимая верхнюю часть желудка из брюшной полости через диафрагму в грудную клетку, образуя своего рода воронку между желудком и пищеводом. Затем единым движением, которое называется «гигантским ретроградным сокращением», верхний тонкий кишечник исторгает содержимое обратно в желудок, что является подготовкой к рвоте. В нижнем тонком кишечнике более слабые ритмические сокращения выталкивают содержимое в толстую кишку.
Когда Фицпатрик съехала с эстакады, где полосы движения веерообразно расходились, водители вокруг стали перестраиваться. Не найдя просвета, чтобы уйти направо к обочине, она решила прорываться налево, к островку безопасности между пунктом взимания платы и полосами встречного движения. Начались позывы на рвоту, она нашарила пустой пластиковый пакет, и ее вырвало, частью на одежду, частью в пакет, который она держала свободной рукой. Она заставляла себя не закрывать глаза и вести машину ровно и смогла выбраться из потока движения; остановилась, перегнулась через ремень и освободила желудок от того, что в нем еще оставалось.
Собственно, акт рвоты имеет две фазы. Фаза позывов включает несколько циклов скоординированных сокращений мышц брюшной полости, диафрагмы и дыхательных мышц. Пока наружу ничего не выходит. В экспульсивной фазе диафрагма и брюшная полость испытывают мощное длительное сокращение, создавая сильное давление на желудок. Когда пищевод расслабляется, эффект такой, как будто кто-то вытащил заглушку из пожарного гидранта.
После рвоты обычно становится лучше, хотя бы ненадолго, но Фицпатрик легче не стало. Мимо неслись машины; она сидела, понапрасну дожидаясь, когда ее перестанет мутить. Наконец, все еще испытывая тошноту, она проехала мост, развернулась, добралась до дома и легла в постель. В следующие несколько дней она лишилась аппетита, сильные запахи стали невыносимыми. В выходные они с мужем, Бобом, поехали на машине в Александрию в Вирджинии встретить Пасху с родителями Эми. Она с трудом выдержала поездку, всю дорогу пролежав на заднем сиденье. Вернуться в Нью-Йорк ей удалось лишь через несколько месяцев.
В родительском доме симптомы резко усилились. В праздники она вообще не могла ни есть, ни пить. Произошло серьезное обезвоживание. В понедельник после Пасхи Эми провела несколько часов в больнице, получая жидкость внутривенно. Врач-акушер, знакомая ее матери, заверила ее, что тошнота и рвота во время беременности нормальны, и дала обычные советы: избегать сильных запахов, не пить холодного и пытаться есть понемногу при любой возможности, например сухие крекеры и другие углеводные продукты. Поскольку симптомы Фицпатрик были нормальными, врач не захотела прописывать лекарства, заметив, что ранний токсикоз обычно проходит к 14-й, максимум к 16-й неделе беременности.
Эми твердо решила следовать советам, но обнаружила, что не может удержать в желудке ничего, кроме кусочка крекера или тоста. К концу недели она снова была обезвожена, и врач организовала визиты медсестры для проведения внутривенных вливаний на дому. Фицпатрик постоянно чувствовала, что ее вот-вот вырвет. Раньше она ела практически все, теперь даже нейтральный запах пищи вызывал у нее дурноту. Эми всегда обожала аттракционы, от которых некоторых мутит, но теперь не то что поездка в автомобиле, даже попытка встать или поднять голову вызывала тяжелую двигательную тошноту. Она не могла спуститься по лестнице. Даже лежа в кровати, женщина не могла смотреть телевизор или сосредоточиться на журнальной странице — кружилась голова. В следующие две недели ее рвало пять-шесть раз в день. Эми похудела на 4 кг, вместо того чтобы набирать вес, как положено женщине, беременной двойней. Хуже всего было чувство, что она больше не управляет собственной жизнью. Менеджер-руководитель, Фицпатрик не могла с этим смириться. Эми снова оказалась в доме, в котором выросла. Ее матери пришлось прервать преподавание в школе, чтобы ухаживать за беременной. Эми чувствовала себя беспомощным ребенком.
Что такое тошнота, это странное и ужасное состояние? Данному вопросу уделяется мало внимания в медицинских школах, хотя после боли тошнота самая частая причина обращений к врачам. Это типичный побочный эффект приема лекарств. Рвота после анестезии настолько распространена, что возле кровати в каждой послеоперационной палате стоит «почкообразный лоток»{2}. Большинство пациентов, проходящих химиотерапию, страдают тошнотой и стабильно называют ее худшим аспектом лечения{3}. От 60 до 85 % беременных испытывают утреннюю тошноту, или «ранний токсикоз беременности»{4}. Практически все мы знакомы с двигательной тошнотой. Морская болезнь является серьезной проблемой военнослужащих со времен Древней Греции (английское слово nausea[10] происходит от греческого «корабль»). Киберукачивание осложняет развитие устройств виртуальной реальности. Космическая болезнь — частая, хотя и редко упоминаемая проблема астронавтов.
Самое удивительное в тошноте — то, что она вызывает огромное отвращение (Цицерон заявлял: «Пусть меня лучше убьют, чем снова страдать от мук морской болезни»), и не только в тот момент, когда это происходит. Когда боль родов давно забылась, матери в красках вспоминают, как страдали от тошноты; для некоторых женщин она становится причиной никогда больше не беременеть. Это особое свойство тошноты. Сломав ногу на горнолыжной трассе, вы снова встанете на лыжи, как только сможете, хотя боль от травмы бывает очень сильной, но после одного неудачного знакомства с бутылкой джина или устрицей люди годами не решаются повторить этот опыт. В «Заводном апельсине» Энтони Бёрджесса власти «кодируют» главного героя, Алекса, от склонности к насилию, создавая у него рефлекторную реакцию на позывы к жестокости, заключающуюся не в боли, а в рвоте. Был период, когда аналогичные усилия предпринимались в некоторых городах Германии. В рукописи 1843 г. рассказывается, как несовершеннолетних преступников помещали в ящик позади здания муниципалитета, и полицейский сильно раскручивал ящик вокруг оси, пока юнец не одаривал собравшуюся толпу «отвратительным зрелищем».
Сама омерзительность тошноты и рвоты представляется биологически закономерной. Польза рвоты после того, как съедено что-то ядовитое или испорченное, очевидна: токсин исторгается из организма, а мучительность сопутствующих ощущений гарантирует, что вам никогда больше не захочется съесть что-то подобное. Это объясняет, почему лекарства, химиотерапия и препараты для общего наркоза так часто вызывают тошноту и рвоту: все это яды, хотя и применяемые под контролем, и тело так устроено, чтобы от них избавляться.
Другие причины тошноты и рвоты объяснить сложнее, но ученые начинают понимать смысл этого природного механизма. Казалось бы, ранний токсикоз беременности является эволюционным недостатком, поскольку растущему эмбриону необходимо питание. Однако в знаменитой статье 1992 г. эволюционный биолог Марджи Профет убедительно доказала, что это защитный механизм{5}, поскольку очень многие природные продукты питания, безопасные для взрослых, небезопасны для эмбрионов. Все растения вырабатывают токсины, и мы можем их есть, потому что у нас сформированы развитые системы детоксикации. Однако они не полностью уничтожают опасные химические соединения, а зародыш может быть чувствителен даже к крохотным дозам. (Например, оказалось, что токсины картофеля вызывают у животных внутриутробные пороки развития нервной системы даже в концентрации, нетоксичной для беременных самок; возможно, интенсивное потребление картофеля в Ирландии объясняет самый высокий в мире уровень дефектов развития, таких как spina bifida.)
Профет предположила, что ранний токсикоз беременности развился в ходе эволюции с целью снижения воздействия природных токсинов на эмбрион. Женщины с токсикозом оказывают выраженное предпочтение простой пище, которой трудно отравиться (например, хлебу и крупам), и демонстрируют особую непереносимость продуктов с высоким содержанием природных токсинов — с горьким и острым вкусом, а также животных продуктов, за исключением самых свежих. Эта теория также объясняет, почему тошнота наблюдается преимущественно в первом триместре. Именно тогда у эмбриона формируются органы и он наиболее уязвим для токсинов; в то же время эмбрион мал и необходимые ему калории легко обеспечить за счет жиров в рационе матери. В общем, у женщин с ранним токсикозом от среднего до сильного реже случаются выкидыши, чем у женщин со слабой тошнотой или вообще не испытывающих тошноты.
Труднее объяснить назначение двигательной тошноты{6}, или укачивания. В 1882 г. гарвардский психолог Уильям Джеймс заметил, что некоторые глухие люди не страдают морской болезнью, и с тех пор огромное внимание уделялось роли вестибулярной системы — компонентам внутреннего уха, которые позволяют нам отслеживать свое положение в пространстве. Ученые пришли к мысли, что интенсивное движение вызывает сверхстимуляцию этой системы, заставляя посылать в головной мозг сигналы, которые провоцируют тошноту и рвоту. Однако, как отмечает специалист в области авиакосмической физиологии из Массачусетского технологического института Чарльз Оман{7}, эта теория не объясняет многие характеристики двигательной тошноты. Почему такие виды активности, как бег, прыжки или танцы, почти никогда не вызывают дурноты, в отличие от движения, которое вы не контролируете, например аттракцион на сельской ярмарке; почему автомобилисты или пилоты самолетов гораздо менее подвержены тошноте, чем пассажиры; наконец, почему проблема обычно уменьшается с опытом? Двигательная тошнота может начаться даже в отсутствие движения, как в случае киберукачивания или связанного с ним явления «болезни синерамы», возникающей при просмотре очень широкоформатного кино. Оман обнаружил, что одним из самых сильных провоцирующих космическую болезнь стимулов для астронавтов является просто вид другого астронавта, перемещающегося вниз головой, — это мгновенно может вызвать у них ощущение, что они сами находятся в перевернутом положении, и в результате возникает приступ тошноты.
Теперь ученые знают, что двигательная тошнота появляется в случае противоречия между движением, которое мы испытываем, и ожидаемым движением. Чтобы сбалансировать положение головы на плечах, а корпуса на бедрах и стопах, нужно невероятно точно настроенное «чувство тела» — система, которая учится предугадывать движение на основе данных, поступающих от зрения, мышц и особенно от среднего уха. Тошнота возникает, когда головной мозг получает непредугаданные сенсорные сигналы, скажем, когда человек, не привычный к мореплаванию, чувствует, как опора под ногами ходит вверх-вниз, а новичок в шлеме виртуальной реальности видит себя движущимся, хотя его тело знает, что остается неподвижным. (Если в руках у вас руль, вы лучше управляете ситуацией и чувствуете, как перемещаетесь.) Двигательная тошнота — это в действительности тошнота от незнакомого движения.
Почему незнакомое движение заставляет нас плохо себя чувствовать? Самое распространенное объяснение опирается на понятие тошноты и рвоты как механизма защиты от токсинов. В эпоху плейстоцена, когда развивался наш биологический вид, у людей не было возможности находиться в продолжительном пассивном движении, как сейчас, на корабле или в машине. Однако очень похожее ощущение может возникнуть при приеме многих токсинов-галлюциногенов, что подтвердит любой, кому случалось напиться. Итак, тошнота и рвота, сопутствующие укачиванию, могут являться современным побочным следствием работы нормальной системы очищения организма от ядов и воспитания у нас привычки их избегать. Впрочем, эта теория далеко не так хорошо изучена, как объяснение раннего токсикоза беременности, и у нас до сих пор нет убедительного объяснения того, почему людей мутит от тревоги, вида крови или самой рвоты.
Несмотря на роль тошноты и рвоты как приспособительного механизма, при гиперемезисе, как у Эми Фицпатрик, эти рефлексы выходят из-под контроля. До Второй мировой войны и развития современных методов замещения жидкостей неукротимая рвота часто оказывалась смертельной, если не прерывалась беременность. Даже сегодня, хотя случаи смерти редки, возможна серьезная травма вследствие тяжелой рвоты, включая разрыв пищевода, коллапс легких и надрыв селезенки. Никто не назвал бы состояние Фицпатрик хоть сколько-нибудь полезным. Ей требовалась помощь.
Когда Эми похудела на 4 кг, врачи выписали ей лекарства, предупреждающие тошноту и рвоту, чтобы она снова могла есть и пить. Сначала попробовали «Реглан», который часто используется для лечения тошноты после общего наркоза. Фицпатрик поставили устройство, которое круглосуточно впрыскивало лекарство ей в ногу, однако это не помогло; наоборот, возникли пугающие неврологические побочные действия — тремор, спазм жевательных мышц, оцепенелость и затрудненное дыхание. Врач попробовала «Компазин», не оказавший действия, и «Фенерган» в виде суппозиториев, вызвавший сонливость, но не ослабивший рвоту.
Действие всех этих средств заключается в блокировании рецепторов дофамина в головном мозге. Есть, однако, новейший класс противорвотных препаратов — блокаторы рецепторов серотонина, объявленные прорывом в лечении тошноты и рвоты. Они недешевы — курс приема самого продаваемого, «Зофрана», стоит от $125 в день, — но, как показывают исследования, заметно помогают пациентам, проходящим химиотерапию, а также некоторым пациентам, страдающим от рвоты после операции. Никакой связи с врожденными дефектами плода выявлено не было, поэтому Фицпатрик несколько недель получала «Зофран» внутривенно, но опять-таки безрезультатно.
Врач также назначила анализы крови, ультразвуковые обследования и консультации с многочисленными специалистами. Тошнота может свидетельствовать об обструкции пищеварительного тракта, тяжелой инфекции или отравлении, но никакой причины выявить не удалось.
«Я знаю, что врачи делают все возможное», — говорила Фицпатрик и сама делала все возможное. Что ж, придется здесь зависнуть, сказала себе Эми и, будучи настоящим управленцем, сумела организовать свой быт. По всему дому в нужных местах были расставлены пластиковые чаши для рвоты, рядом с кроватью разместился аспиратор с пластмассовой насадкой для отсасывания неприятной слюны изо рта. Однако большую часть времени если она не склонялась над чашей, то лежала пластом с закрытыми глазами.
Между тем небольшая инициативная группа из родственников и друзей методично собирала информацию о вариантах лечения, и не только традиционных{8}. Фицпатрик опробовала фитотерапию, китайский массаж и воду с лимоном. Она употребляла имбирь, поскольку одно исследование продемонстрировало его эффективность при ее состоянии. Она надевала акупрессурные браслеты от укачивания Sea-Band, оказывающие постоянное давление на «точку Нэй-гуань» на внутренней стороне каждого запястья на три пальца ниже запястной складки между сухожилиями (акупрессуру продвигают как средство от тошноты вследствие беременности, химиотерапии и движения, хотя исследования не выявили устойчивого эффекта). Тошнота не ослабла, хотя массаж ей понравился.
Еще большее беспокойство вызвало то, что симптомы не облегчались со временем, на что рассчитывали врачи. К четвертому месяцу беременности Эми тошнило все так же сильно — чрезвычайно редкое исключение. Она выглядела пугающе больной, похудела больше чем на 5 кг. Врач госпитализировала ее в больницу Университета Джорджа Вашингтона, в отделение сохранения беременности. Ей назначили внутривенное питание, и Эми наконец стала прибавлять в весе. В следующие несколько месяцев она провела в больнице больше времени, чем дома.
Для врачей Фицпатрик превратилась в вечное наглядное свидетельство их неудачи — в пациентку, само существование которой служит упреком им самим и их опыту. Медики имеют несколько способов обращения с подобными пациентами, и ей пришлось все их испытать. Некоторые доктора продолжали уверять ее, что еще неделя-другая — и Эми пойдет на поправку. Один спросил, не хочет ли она вернуться в Нью-Йорк, оставив у нее четкое впечатление, что он просто пытается от нее избавиться. Другой, похоже, думал, что она не старается есть, как будто приступы тошноты можно было контролировать. Их разочарование было очевидно. Через некоторое время врачи посоветовали ей обратиться к психиатру. Рекомендация не была необоснованной; тревога и стресс могут способствовать тошноте, а пациентка была готова испробовать любое средство. Однако психиатра во время консультации интересовало одно — не бесят ли ее младенцы и способна ли она принять роль жены и матери. Удивительно много врачей до сих пор верят в давно уже развенчанную теорию Фрейда, будто гиперемезис может быть вызван неосознанным неприятием беременности.
Ситуация вышла из-под контроля врачей и, более того, за пределы их понимания. Естественно, Фицпатрик искала средство справиться со своим состоянием. В какой-то момент она и ее семья заставили медиков применить лечение, о котором узнали из статьи о гиперемезисе у Марии Шрайвер. Лечение состояло в постоянной инфузии «Дроперидола» — транквилизатора, который часто используется для устранения тошноты и рвоты у послеоперационных больных. Врачи согласились, однако во время инфузии состояние Эми ухудшилось. Ее начало рвать каждые десять минут, в пищеводе образовались мелкие разрывы, в рвотных массах появилась кровь.
Она ужасно страдала. Нередко женщины делают аборт из-за неукротимой рвоты, так как не в состоянии ее переносить. Через коридор лежала пациентка, решившаяся на прерывание беременности, и врачи предложили эту меру Фицпатрик, но Эми отказалась, будучи убежденной католичкой, а также потому, что медсестра каждый день приносила портативный прибор для УЗИ и она слышала, как в ее утробе бьются два крохотных сердца. Это помогало ей держаться.
Универсального противорвотного средства не существует. Пластырь со скополамином уменьшает двигательную тошноту и послеоперационную рвоту, но практически не помогает беременным женщинам и пациентам, проходящим химиотерапию. Антагонист рецепторов дофамина «Фенерган» часто эффективен при беременности и двигательной тошноте, но не при химиотерапии. Даже такое передовое средство, как «Зофран» (по значимости его часто сравнивают с пенициллином, только в области борьбы с тошнотой), нередко оказывается неэффективным. «Зофран» может очень хорошо справляться с рвотой, вызванной химиотерапией и анестезией, но, судя по данным исследований, не помогает при двигательной тошноте и гиперемезисе беременных. (Кстати, курение марихуаны оказалось действенным, хотя и слабым средством для пациентов, проходящих химиотерапию, но для плода это столь же токсично, как и табак{9}.)
Это закономерно, поскольку тошноту провоцируют совершенно разные стимулы: незнакомое движение, дурной запах, ядовитое лекарство и гормональные изменения при беременности. Согласно научному объяснению, в головном мозге имеется программа («модуль») рвоты, получающая все типы сигналов: от хеморецепторов в носу, ЖКТ и мозге, от рецепторов, регистрирующих переполнение желудка и раздражения небного язычка, от органов восприятия движения в среднем ухе, а также от высших центров мозга, управляющих памятью, настроением и мышлением. Каждое из имеющихся в настоящее время лекарств, предположительно, оказывает преобладающее влияние лишь на некоторые пути, отсюда различие эффектов в разных условиях.
Более того, хотя мы привыкли считать тошноту и рвоту элементами одного и того же явления, они могут возникать независимо друг от друга, вероятно задействуя разные программы в головном мозге, и лекарство, влияющее на одно состояние, может не оказать действия на другое. Рвота не всегда сопровождается тошнотой. Я помню шестилетнего ребенка, способного вызвать у себя рвоту усилием воли, без пальцев во рту и прочего, не чувствуя ни малейшего недомогания. У людей с редким расстройством, синдромом срыгивания, наблюдается необъяснимая склонность извергать содержимое желудка обратно в рот после каждого приема пищи — без сопутствующей тошноты. (Они снова проглатывают пищу или выплевывают ее, «в зависимости от социальных условий», как говорится в одной научной статье{10}.) Напротив, даже тяжелая тошнота необязательно приводит к рвоте, а лекарства, останавливающие рвоту, необязательно устраняют тошноту, однако, к сожалению, этого не понимают многие врачи и медсестры. Например, медицинские работники высоко оценили «Зофран», чего не скажешь о пациентах. В результате исследования под руководством Гэри Морроу, специалиста по тошноте из медицинской школы Рочестерского университета, было установлено, что широкое применение «Зофрана» и его аналогов снижает частоту рвоты у пациентов, проходящих химиотерапию, но не выраженность тошноты{11}. Сегодня пациенты жалуются на более длительные периоды тошноты, чем в годы до появления «Зофрана».
Наблюдения за пациентами, проходящими химиотерапию, которые поневоле являются объектом исследования для ученых, изучающих причины тошноты и рвоты, позволило выявить еще более удивительное явление. Обнаружилось три разных типа этих состояний. «Острый» тип наблюдается в пределах от нескольких минут до нескольких часов после получения дозы токсичного вещества и постепенно сходит на нет — именно так должна выглядеть реакция на отравление. Однако у многих состояние возвращается через день или два, этот эффект называется «отложенной рвотой», а примерно у четверти пациентов даже развивается «ожидаемая тошнота и рвота», симптомы которой наблюдаются до введения лекарств. Морроу документировал ряд поразительных характеристик этих типов{12}. Чем сильнее первоначальная острая тошнота, тем тяжелее ожидаемая. Чем больше курсов химиотерапии проходит пациент, тем более общими становятся факторы, провоцирующие ожидаемую тошноту: рвота может впервые произойти при виде медсестры, которая вводит лекарства, затем при виде любой сестры или больничном запахе, затем при въезде на больничную парковку перед прохождением курса химиотерапии. У одной пациентки Морроу начиналась рвота, стоило ей увидеть дорожный указатель поворота к больнице.
Разумеется, эти реакции являются знакомыми следствиями психологического состояния — эффект «заводного апельсина» в действии. Вероятно, они играют важную роль в затяжной тошноте и в других условиях, включая беременность. Как бы то ни было, если развивается отложенная или ожидаемая тошнота, нынешние лекарства не помогают. Исследования Морроу и других ученых показали, что только методы коррекции поведения, например гипноз или приемы глубокой релаксации, значительно снижают обусловленную рвоту — и то лишь у некоторых пациентов.
Медицинский арсенал средств от тошноты и рвоты все еще весьма примитивен. С учетом распространенности этих проблем и готовности огромного числа людей платить за то, чтобы от них избавиться, фармацевтические компании вкладывают миллионы долларов в поиск более эффективных лекарств. Например, Merck разработала многообещающую формулу, которая в настоящее время называется МК-869. Это один из новых классов веществ — «антагонистов субстанции Р»{13}. Эти лекарства привлекли большое внимание после сообщения Merck об их вероятной клинической эффективности против депрессии. Меньшей шумихой сопровождалась публикация в New England Journal of Medicine данных, что МК-869 очень хорошо справляется с тошнотой и рвотой, возникающей вследствие химиотерапии.
Результаты были необычны по двум причинам. Во-первых, лекарство существенно снижало как острую, так и отложенную рвоту. Во-вторых, МК-869 не только предупреждало рвоту, но и уменьшало тошноту. Доля пациентов, сообщавших, что испытывают нечто большее, чем минимальную тошноту, в течение пяти дней после химиотерапии, благодаря этому лекарству снизилась с 75 до 51 %.
Однако у всех наших лекарств есть свои ограничения, и, какими бы многообещающими ни казались подобные новинки, многим больным они не помогут. Даже МК-869 не смог избавить от тошноты половину пациентов, проходящих химиотерапию. (Кроме того, его безопасность и эффективность у беременных, вероятно, еще на какое-то время останется невыясненной. Из-за медицинских и юридических сложностей фармацевтические компании обычно избегают тестировать лекарства на беременных женщинах.) Таким образом, панацеи от тошноты в ближайшем будущем не ожидается. Неконтролируемая тошнота остается нерешенной проблемой. Между тем совершенно новое клиническое направление, так называемая «паллиативная медицина», осуществляющая амбициозный проект — научное изучение страдания, как ни удивительно, находит решения там, где другие терпят неудачу.
Специалисты по паллиативной медицине являются экспертами в уходе за умирающими, прежде всего в повышении качества, а не увеличении продолжительности их жизни. Казалось бы, для этого не нужна специализация, но имеются свидетельства большей эффективности паллиативной медицины в этом вопросе{14}. Многие умирающие пациенты испытывают боль. Многих тошнит. У некоторых так плохо работают легкие, что, хотя им хватает кислорода, чтобы жить, они постоянно испытывают ужасающее состояние удушья, как будто тонут и не могут вдохнуть достаточно воздуха. Это пациенты с неизлечимыми заболеваниями, но специалисты по паллиативной медицине очень успешно им помогают. Дело в том, что они воспринимают физические страдания серьезно, как отдельную проблему. Мы, медики, привыкли воспринимать подобные симптомы лишь как сигналы, позволяющие понять, с каким заболеванием мы столкнулись и что можем предпринять. Как правило, именно устранение физического нарушения — удаление воспаленного аппендикса, фиксация сломанной кости, лечение пневмонии — облегчает страдания (я не стал бы хирургом, если бы думал иначе). Но так бывает не всегда, и ни в чем это не проявляется так ярко, как в случае тошноты. Чаще всего тошнота не признак патологии, а нормальная реакция, например, на путешествие, беременность или даже полезное для организма воздействие: химиотерапию, антибиотики или общий наркоз. Пациент, как мы говорим, «в норме», но ему от этого не легче.
Рассмотрим показатели жизненно важных функций организма. Во время госпитализации примерно каждые четыре часа медсестра заносит их в карточку больного, висящую на кровати, чтобы медперсонал знал, как меняется его состояние со временем. Во всем мире это делается одинаково. Принято считать, что к четырем основным показателям жизненно важных функций относятся: температура, кровяное давление, пульс и частота дыхания. Действительно, они многое говорят о том, улучшается или ухудшается физическое состояние человека, но ничего не сообщают о страдании, о чем-то кроме того, как функционирует тело. Специалисты по паллиативной медицине пытаются это изменить. Они хотят сделать боль — сообщаемый пациентом уровень дискомфорта — пятым жизненным показателем. Их усилия призваны заставить нас, врачей, признать, как часто мы недооцениваем боль. Они также разрабатывают лучшие стратегии лечения в целом. Например, теперь очевидно, что, как только возникли и развились симптомы тяжелой тошноты (или боли), они все менее поддаются любым способам лечения. Самое лучшее, как выяснили специалисты по паллиативной медицине, — это начать лечение, когда симптомы слабо выражены, в некоторых случаях — когда они еще не проявились, и это оказалось верным как для пассажира корабля, так и для ракового больного, готовящегося к химиотерапии. (Американское общество клинической онкологии приняло общие принципы, поддерживающие подобный превентивный подход в отношении пациентов, проходящих химиотерапию.) Раньше, когда врачи не колеблясь выписывали противорвотные средства при обычном раннем токсикозе беременности (по меньшей мере треть беременных принимали эти лекарства в 1960−1970-х гг.), неукротимая рвота была гораздо менее распространенной. Однако врачи изменили эту практику после судебных исков, вынудивших убрать с рынка популярное средство «Бендектин», якобы вызывающее врожденные дефекты плода (несмотря на многочисленные исследования, не обнаружившие никаких подтверждений этому{15}). Стало нормой не прописывать лекарства, пока, как в случае Фицпатрик, рвота не приведет к серьезному обезвоживанию или истощению. Вследствие этого число госпитализаций по поводу гиперемезиса беременных удвоилось.
Пожалуй, самым поразительным выводом специалистов по паллиативной медицине является то, что симптом и страдание не одно и то же. Как отмечает врач Эрик Дж. Касселл в своей книге «Природа страдания и цели медицины»{16}, некоторым пациентам достаточно обрести определенную меру понимания — узнать причину своего бедственного состояния, иначе взглянуть на его смысл или просто принять, что не всегда возможно одолеть природу, — чтобы контролировать свои страдания. Врач все-таки способен помочь, даже если лекарства оказались бессильны.
Эми Фицпатрик сказала, что больше всего ей нравились те немногие врачи, которые признавали, что не могут объяснить ее тошноту и не знают, что с ней делать. Они честно говорили, что не встречали подобного случая, и она видела, что они сочувствуют ей. Эми созналась, что подобная откровенность вызывала у нее противоречивые чувства. Иногда она сомневалась, знающие ли доктора ею занимаются, не упускают ли они чего-нибудь. Однако, какие бы методы лечения она и медики ни пробовали, тошнота не отступала. Этот случай действительно выходил за рамки чьего бы то ни было понимания.
Первые месяцы превратились в ужасную пугающую борьбу, но со временем Эми почувствовала, что меняется, что ее дух крепнет, иногда у нее даже появлялась мысль, что все не так уж плохо. Она каждый день молилась и верила, что двое детей, растущих внутри нее, — это дар Божий и что со временем она сможет увидеть в своих испытаниях просто цену, которую ей придется заплатить за это огромное счастье. Она перестала искать панацею и через 26 недель беременности попросила больше не применять к ней экспериментальных методов лечения. Тошнота и рвота никуда не делись, но она решила, что не позволит им себя победить.
Постепенно ее состояние слегка улучшилось. К 30-й неделе Эми обнаружила, что может крохотными порциями есть странный набор из четырех продуктов — бифштекс, спаржу, тунца и мятное мороженое, а также удержать в желудке белковый напиток. Тошнота осталась, но чуть ослабла. На 33-й неделе, на семь недель раньше срока, у Фицпатрик начались схватки. Ее муж успел приехать из аэропорта Ла Гуардиа как раз к родам. Врачи предупреждали, что близнецы будут маловесными, около 1,4 кг, но 12 сентября в 22:52 родилась Линда, весом чуть больше 2 кг, а в 22:57 — Джек, 2,26 кг, оба совершенно здоровые.
Вскоре после родов Эми снова вырвало, но, по ее словам, это было в последний раз. На следующее утро она выпила большой стакан апельсинового сока, а вечером съела огромный гамбургер с голубым сыром и картофелем фри. «Это было так вкусно!» — вспоминает она.
Постыдный румянец
В январе 1997 г. Кристин Друри стала ведущей ночного эфира на 13-м канале новостей (Channel 13 News), телестанции — филиала NBC в Индианаполисе. Это первый шаг в карьере сотрудников телевизионных новостных программ и ток-шоу (Дэвид Леттерман начал свой путь с прогноза погоды на той же станции.) Друри работала с 21:00 до 5:00, делая информационные сюжеты и после полуночи читая 30-секундные и 2,5-минутные сводки новостей. Если ей везло и среди ночи появлялись экстренные новости, она получала больше эфирного времени, освещая их из студии или с места событий. При особой «удаче» — например, сходе поезда с рельсов в Гринкасле — она оставалась еще и на утреннюю программу.
Друри было 26 лет, когда она получила эту работу. С самого детства в Кокомо (штат Индиана) Кристин мечтала попасть на телевидение (а особенно — стать ведущей) и вырабатывала уверенность и выдержку, которыми отличались женщины в студии. Однажды, еще старшеклассницей, она встретила в торговом центре Индианаполиса Ким Худ, в то время ведущую 13-го телеканала новостей в прайм-тайм. «Я мечтала стать такой, как она», — вспоминает Друри. Каким-то образом благодаря этой случайной встрече цель стала казаться ей достижимой. Учась в Университете Пердью, она специализировалась в области телекоммуникаций и однажды проходила летнюю практику на 13-м новостном телеканале. Через полтора года после завершения образования Друри пришла на эту телестудию на стартовую должность ассистента телережиссера — отвечала за телесуфлер, расставляла камеры, выполняла всевозможные поручения. В следующие два года Кристин доросла сначала до подготовки текстов новостей и наконец — до ночного эфира. Начальство считало ее перспективным сотрудником. Друри писала прекрасные новостные сводки, имела готовый «телевизионный» голос и, что немаловажно, «смотрелась», то есть была привлекательной в универсальном, всеамериканском стиле, напоминая Мег Райан: прекрасные белые зубы, голубые глаза, светлые волосы, естественная улыбка.
Оказалось, однако, что в эфире она краснеет и ничего не может с этим поделать. Ей было достаточно любой мелочи, чтобы залиться краской. Стоило, читая новости, запнуться или понять, что говорит слишком быстро, как девушка тут же становилась пунцовой. В груди возникало жжение, как от электронагревателя, распространявшееся на шею, уши и голову. С точки зрения физиологии это было всего лишь перенаправление потока крови. На лице и шее под кожей находится необычайно много сосудов, способных переносить больше крови, чем сосуды аналогичного диаметра в любой другой части тела. Под влиянием определенных неврологических сигналов они расширяются, когда другие периферийные сосуды сжимаются: руки становятся белыми и холодными, даже если лицо пылает. Для Друри хуже физической реакции был сопровождающий ее стресс: все мысли улетучивались, она начинала спотыкаться на словах. Ее охватывало непреодолимое желание закрыть лицо руками, отвернуться от камеры, спрятаться.
Сколько Друри себя помнила, она легко краснела, и румянец ярко выделялся на ее белой коже ирландки. Кристин была из тех детей, которые неминуемо заливаются краской смущения, когда приходится выходить к доске или искать свободное место в школьной столовой. Став взрослой, она вспыхивала, если кассир в магазине задерживал обслуживание очереди, чтобы проверить цену взятых ею хлопьев, или когда другие водители сигналили ей на дороге. Казалось бы, странно, что такой человек захотел оказаться перед телекамерой, но Друри всегда боролась с привычкой смущаться. В старших классах она была чирлидером, входила в команду по теннису и была избрана в свиту королевы выпускного бала, в Пердью играла в теннис, занималась командной греблей и к выпускному курсу вошла в студенческое общество «Фи Бета Каппа». Друри работала официанткой и младшим менеджером в супермаркете Walmart и даже руководила персоналом в процедуре ежеутреннего приветствия. Благодаря общительности и социальным навыкам у нее всегда было много друзей.
Однако перед камерой ей никак не удавалось справиться с румянцем. При просмотре записей ее первых эфиров, где она рассказывает о росте штрафов за превышение скорости, отравлении едой в отеле или 12-летнем выпускнике колледжа с IQ 325, краснота бросается в глаза. Затем Друри начала надевать водолазки и накладывать на лицо толстый слой консилера Merle Norman Cover Up Green, а поверх него — тональную основу MAC Studiofix. Лицо становилось темноватым, но румянец практически не был заметен.
Тем не менее зрители могли увидеть: что-то не в порядке. Теперь, краснея, что со временем стало происходить практически в каждом выпуске новостей, Кристин цепенела, взгляд останавливался, движения становились механическими. Друри начинала говорить быстрее и более высоким голосом. «Ошарашенная, как олень в свете фар», — охарактеризовал ее один из продюсеров телеканала.
Девушка отказалась от кофеина. Освоила методы контроля дыхания. Купила книгу по самосовершенствованию для работников телеэфира и представляла, что камера — это ее собака, подруга или мама. Какое-то время она пыталась, находясь в эфире, держать голову определенным образом, совершенно неподвижно. Ничто не помогало.
Из-за времени выхода в эфир и чрезвычайно маленькой аудитории ведущий ночных программ не самая желанная работа. Обычно ее выполняют около года, совершенствуют навыки и переходят на лучшую должность, но с Друри этого не произошло. «Она, безусловно, не была готова работать перед камерой в дневные часы», — сказал продюсер. В октябре 1998 г., почти два года проработав в этой должности, Кристин записала в дневнике: «Я по-прежнему буксую. Проплакала целый день. Еду на работу и вижу, что мне не хватит бумажных платочков. Не представляю, почему Господь подарил мне работу, которую я не могу выполнять. Мне придется узнать, как это делать. Я сдамся не раньше, чем испробую все».
Что представляет собой это любопытное явление — краска смущения? Кожную реакцию? Выражение эмоций? Сосудистое проявление? Ученые не могут дать точного ответа. Румянец имеет одновременно физиологическую и психологическую природу. С одной стороны, он является столь же непреднамеренным, неконтролируемым и внешним, что и сыпь, с другой стороны, требует мыслить и чувствовать на высочайшем уровне мозговой деятельности. «Человек — единственное животное, наделенное способностью — или потребностью — краснеть», — писал Марк Твен.
Наблюдатели часто считают румянец всего лишь внешним проявлением стыда. Например, на этой позиции стояли последователи Фрейда, утверждавшие, что это замена эрекции вследствие подавления сексуального желания{1}. Однако, отметил с удивлением Дарвин в эссе 1872 г., не стыд заставляет нас краснеть, а возможность разоблачения и унижения. «Человек может чувствовать ужасный стыд из-за сказанной им маленькой лжи, нисколько не покраснев, — писал он, — но при одном подозрении, что уличен, он моментально краснеет, особенно если его поймал на лжи тот, кого он уважает»{2}.
Если нас тревожит унижение, почему мы краснеем, когда нас хвалят? Или поют нам «С днем рожденья тебя»? Майкл Льюис, профессор психиатрии Университета медицины и стоматологии в Нью-Джерси, любит демонстрировать этот эффект на занятиях{3}. Он объявляет, что случайным образом выберет студента, что этот выбор ничего не значит и не отражает никакого мнения об этом человеке, затем закрывает глаза и указывает. Все оглядываются посмотреть, на кого именно, и жертву неизбежно охватывает огромное смущение. Года два назад социальные психологи Дженис Темплтон и Марк Лири провели необычный эксперимент{4}, подключив к лицу испытуемых датчики температуры и поставив их перед односторонним зеркалом. Затем зеркало убрали, и за ним обнаружилась толпа наблюдателей. В половине случаев на зрителях были темные очки. Как ни странно, испытуемые краснели, только когда видели глаза зрителей.
Пожалуй, самыми неприятными в склонности краснеть являются ее вторичные эффекты. Она сама по себе смущает и может вызвать сильную неловкость, стеснение и дезориентацию. (Дарвин, пытаясь объяснить причины этого явления, предположил, что прилив крови к лицу заставляет ее отливать от мозга.)
Зачем нам этот рефлекс, непонятно. Согласно одной теории, способность краснеть нужна для демонстрации смущения, как улыбка — для проявления счастья. Это объяснило бы, почему такая реакция наблюдается только на видимых частях тела (на лице, шее и верхней части груди). Но почему в таком случае краснеют чернокожие? В ходе исследований обнаружено, что краснеют практически все, независимо от цвета кожи и несмотря на то, что у многих людей этот эффект практически не заметен. Да и незачем становиться красным, чтобы окружающие поняли, как вы растерянны. Судя по результатам исследований, наше смущение замечают до того, как мы покраснеем. Чтобы залиться румянцем, нужно 15−20 секунд, а большинству людей требуется меньше пяти секунд, чтобы понять, что другой смутился: мы понимаем это по почти мгновенному движению глаз, обычно вниз и влево, или по глуповатой робкой улыбке, появляющейся через секунду. Таким образом, сомнительно, что мы краснеем исключительно с целью выражения эмоций.
Все больше ученых придерживаются альтернативного взгляда. Возможно, эффект усиления смущения не случаен и мы краснеем именно ради него. Идея не так нелепа, как кажется. Люди ненавидят чувство неловкости и всеми силами избегают его демонстрировать, но оно служит важной цели. В отличие от горя, гнева и даже любви, это, по сути, нравственная эмоция. Проистекающее из чувствительности к тому, что о нас думают другие, смущение служит болезненным напоминанием, что мы преступили границу, а для окружающих — своего рода просьбой о прощении. Это заставляет нас вести себя достойно. Если румянец способствует обострению этой чувствительности, он в конечном счете идет нам на пользу.
Но как перестать краснеть? Смущение вызывает румянец, румянец порождает смущение — как разорвать замкнутый круг? Непонятно, каким образом, но у некоторых людей этот механизм выходит из-под контроля. На удивление большое число людей часто неконтролируемо краснеют, причем довольно сильно. Они описывают эту реакцию как «интенсивную», «непредсказуемую» и «унизительную». Один мужчина, с которым я это обсуждал, краснел, даже когда дома в одиночестве видел по телевизору, как кто-то оказывался в неловком положении. Он потерял работу консультанта по вопросам управления, потому что начальству показалось, что он неуверенно вел себя с клиентами. Другой мужчина, нейробиолог, променял карьеру в клинической медицине на замкнутый образ жизни ученого-исследователя почти исключительно из-за привычки краснеть, но даже тогда не смог от нее избавиться. Его исследование наследственной болезни мозга оказалось таким успешным, что на него посыпались приглашения прочесть доклад и выступить на телевидении, от которых ему пришлось отбиваться. Однажды он спрятался от съемочной группы CNN в туалете. Как-то ему предложили рассказать о своей работе 50 ведущим ученым мира, в том числе пяти нобелевским лауреатам. Обычно он справлялся с выступлением, выключив свет и демонстрируя слайды, но на сей раз кто-то из слушателей сразу остановил его, задав вопрос, и ученый стал пунцовым. Промямлив что-то, он спрятался за кафедрой, тайком включил пейджер и, посмотрев на экран, объявил, что его срочно вызывают и, к сожалению, он вынужден уйти. Остаток дня он провел дома. И это человек, зарабатывающий на жизнь изучением мозговых и нервных нарушений! Справиться с собственным состоянием ему не удалось.
Этот синдром не имеет официального наименования, но часто называется «тяжелым» или «патологическим» блашинг-синдромом. Сколько людей страдает им, неизвестно: по самым примерным оценкам, от 1 до 7 % населения. В отличие от большинства людей, у которых тенденция краснеть уменьшается, когда они выходят из подросткового возраста, лица с хроническим блашинг-синдромом жалуются, что с возрастом его проявления усиливаются. Сначала проблемой считалась интенсивность румянца, но оказалось, дело не в этом. Например, в одном исследовании ученые использовали датчики для контроля цвета лица и температуры испытуемых, затем поставили их петь перед зрителями гимн или танцевать. Люди с хроническим блашинг-синдромом становились не пунцовее остальных, но краснели гораздо легче. Кристин Друри так описала этот порочный круг: боишься покраснеть, краснеешь, а затем краснеешь от стыда, что покраснел. Она не знала, с чего все начиналось, с красноты или со смущения, просто хотела избавиться от этого.
Осенью 1998 г. Друри обратилась к терапевту. «Это пройдет само», — уверял тот, но под нажимом пациентки согласился попробовать медикаментозное лечение. Что именно выписывать, было неясно. В учебниках медицины ничего не сказано о патологическом румянце. Некоторые врачи назначают успокоительные, например валиум, предполагая, что первопричиной является тревожность, другие — бета-блокаторы, снижающие реакцию организма на стресс, третьи — прозак или другие антидепрессанты. Однако некоторые успехи продемонстрировало не медикаментозное лечение, а метод поведенческой коррекции, так называемая парадоксальная интенция, активно заставляющая пациентов краснеть вместо того, чтобы пытаться не покраснеть. Сначала Друри принимала бета-блокаторы, затем антидепрессанты и, наконец, прошла курс психотерапии. Улучшений не было.
К декабрю 1998 г. ее краснота стала невыносимой, выходы в эфир превратились в сплошное унижение, и карьера практически была загублена. Она записала в своем дневнике, что готова уволиться. Однажды, ища в интернете информацию о блашинг-синдроме, Друри узнала о шведской больнице, врачи которой избавляли от него хирургическим путем. В ходе операции перерезались определенные нервы в грудной клетке в том месте, где они выходят из позвоночника и направляются в голову. «Я читала о людях, имевших ту же проблему, и не могла этому поверить, — рассказывала она. — По лицу текли слезы». На следующий день Кристин сказала отцу, что решилась на операцию. Мистер Друри редко подвергал сомнению решения дочери, но это стало исключением. «Если честно, меня это шокировало, — вспоминает он. — Когда об этом узнала ее мать, то была еще больше потрясена. У нее в голове не укладывалось, что дочь может отправиться в Швецию и лечь на операционный стол».
Друри согласилась не торопиться и больше узнать об операции. Она прочитала несколько статей в медицинских журналах, поговорила с хирургами и их бывшими пациентами. За две недели ее решимость лишь укрепилась. Кристин сказала родителям, что едет в Швецию, и, когда стало ясно, что она не отступится, отец решил ее сопровождать.
Операция называется «эндоскопическая торакальная симпатэктомия» (endoscopic thoracic sympathectomy — ETS). В ходе нее перерезаются волокна симпатической нервной системы, являющейся частью вегетативной, или «автономной», нервной системы, контролирующей дыхание, сердцебиение, пищеварение, потоотделение и, наряду со многими другими базовыми функциями, покраснение. В задней части грудной клетки по обеим сторонам позвоночника тянутся две гладкие белые «струны» — симпатические стволы, путепроводы, по которым проходят симпатические сигналы, прежде чем достичь отдельных органов. В начале XX в. хирурги пытались удалять ветви этих стволов — выполняли торакальную симпатэктомию — по самым разным показаниям: эпилепсия, глаукома, некоторые случаи слепоты. По большей части, эксперименты приносили больше вреда, чем пользы, но оказалось, что в двух случаях симпатэктомия помогает: она устраняет некупируемую боль в груди у пациентов с тяжелой неоперабельной болезнью сердца, а также потливость ладоней и лица при гипергидрозе — усиленном потоотделении.
Поскольку изначально операция проводилась на открытой грудной клетке, она была редкой, но в последние годы некоторые хирурги, особенно в Европе, начали осуществлять ее с использованием эндоскопов, которые вводятся через маленькие разрезы. Среди них были три врача из шведского Гётеборга, заметившие, что многие пациенты с гипергидрозом после операции перестают заливаться не только пóтом, но и румянцем. В 1992 г. группа из Гётеборга прооперировала нескольких пациентов с жалобами на блашинг-синдром, повлекший недееспособность. Когда о результатах было сообщено в прессе, на врачей обрушился вал обращений больных. С 1998 г. хирурги провели операцию более чем 3000 пациентов с тяжелым блашинг-синдромом.
В настоящее время эта операция проводится по всему миру, но хирурги из Гётеборга относятся к числу немногих, публикующих свои результаты{5}: 94 % пациентов сообщили о существенном ослаблении симптомов, в большинстве случаев они совершенно исчезли. В исследованиях, охвативших послеоперационный период около восьми месяцев, 2 % пациентов жалели о решении из-за побочных эффектов и 15 % были разочарованы результатом. Побочные эффекты не несут угрозы жизни, но и незначительными их не назовешь. Самым серьезным осложнением, наблюдающимся в 1 % случаев, является синдром Хорнера, при котором неустранимое повреждение симпатических нервов глаза вызывает сужение зрачка, опущение верхнего века и снижение тонуса глазного яблока. Менее серьезной является невозможность потеть от сосков и выше, причем у большинства в качестве компенсации усиливается потоотделение в нижней части тела. (Согласно долгосрочному исследованию, изучавшему пациентов с жалобами на потливость ладоней в течение десятилетия после ETS, доля удовлетворенных результатом снижается до 67 %, главным образом из-за компенсаторного потоотделения.) Около трети пациентов также заметили необычную реакцию, так называемый аурикулотемпоральный синдром — потоотделение при ощущении определенных вкусов или запахов. Наконец, поскольку удаляются ветви симпатической системы, ведущие к сердцу, пациенты испытывают примерно 10 %-ное уменьшение частоты сердечного ритма; некоторые жалуются на физическую утомляемость. По всем этим причинам данная операция является крайней мерой, прибегать к которой, по мнению хирургов, следует лишь после того, как все консервативные методы лечения оказались неэффективными. К моменту обращения в Гётеборг люди зачастую уже отчаялись. Как сказал мне один пациент после операции: «Я бы решился на нее, даже если бы мне сказали, что имеется 50 %-ный риск погибнуть».
14 января 1999 г. Кристин Друри с отцом прибыла в Гётеборг — портовый город с 400-летней историей на юго-западном побережье Швеции. Было холодно, снежно и очень красиво. Медицинский центр Карландерска (Carlanderska) располагался в старом небольшом здании со стенами, увитыми плющом, и высокой аркой входа с двустворчатыми деревянными дверями. Внутри было темновато и тихо, как в подземелье. Лишь теперь Друри в полной мере осознала происходящее. Что она здесь делает, за 14 400 км от дома, в больнице, о которой почти ничего не знает? Тем не менее Кристин зарегистрировалась, медсестра взяла у нее кровь для обычного лабораторного анализа, проверила историю болезни и попросила оплатить $6000. Друри расплатилась кредитной карточкой.
Больничная палата с белоснежными простынями и синими покрывалами приятно контрастировала с холлом чистотой и современным обликом. Кристер Дротт, хирург, навестил пациентку на следующий день рано утром. Он говорил на безупречном британском английском и произвел на нее успокаивающее впечатление: «Он держал меня за руки, буквально излучая сострадание. Эти врачи повидали тысячи таких случаев. Я просто влюбилась в него».
Тем же утром в 9:30 санитарка пришла подготовить ее к операции. «Мы совсем недавно делали сюжет о ребенке, умершем из-за того, что анестезиолог заснул во время операции, — рассказывает Друри. — Поэтому я попросила анестезиолога не засыпать и не позволить мне умереть. „О’кей“, — ответил он со смешком».
Когда Друри была под наркозом, Дротт, в стерильном хирургическом костюме, протер ее грудную клетку и подмышечные впадины антисептиком и обложил стерильными простынями, оставив открытыми только подмышки. Нащупав нужную точку между ребрами в левой подмышечной впадине, он сделал концом скальпеля 7-миллиметровый прокол и через него ввел в грудную клетку ширококанальную иглу. Через иглу было закачано 2 литра углекислого газа, чтобы сдвинуть левое легкое книзу. Затем Дротт ввел резектоскоп, длинную металлическую трубку с окуляром, оптоволоконным освещением и электродом для прижигания на конце. В принципе, это инструмент для урологических операций, настолько тонкий, что проходит через уретру (хотя, разумеется, пациентам с урологическими заболеваниями он все-таки кажется недостаточно тонким). С помощью окуляра хирург стал искать левый симпатический ствол пациентки, следя за тем, чтобы не повредить крупные кровеносные сосуды, отходящие от сердца, и обнаружил гладкую, похожую на веревку структуру, тянущуюся вдоль головок ребер в месте их присоединения к позвоночнику. Он прижег ствол в двух точках, у второго и третьего ребер, уничтожив лицевые ветви, кроме тех, что ведут к глазу. Затем, убедившись в отсутствии кровотечения, извлек инструмент, вставил катетер для отсасывания углекислого газа, чтобы легкое вновь расправилось, и зашил разрез в полсантиметра длиной. Обойдя операционный стол, хирург повторил процедуру с правой стороны грудной клетки пациентки. Все прошло идеально. Операция заняла всего 20 минут.
Что происходит, если лишить человека способности краснеть? Получаем ли мы хирургическую версию консилера-цветокорректора, удаляющего румянец смущения, но не способность смущаться или несколько разрезов периферических нервов влияют на саму личность? Помню, как однажды подростком купил солнцезащитные очки с зеркальными стеклами. Через несколько недель я их потерял, но, пока носил, заметил, что беззастенчиво разглядываю людей и чуть более дерзко себя веду. Спрятавшись за этими стеклами, я чувствовал себя менее уязвимым, как бы более свободным. Не оказывает ли операция подобный эффект?
Почти через два года после того, как Друри была прооперирована, я завтракал с ней в спортбаре в Индианаполисе. Я гадал, как выглядит ее лицо без нервов, которые должны были управлять его цветом. Не стало ли оно мертвенно-бледным, пятнистым, неестественным? Оказалось, что цвет лица у нее ровный и розоватый, по ее словам, точно такой же, что и прежде. Действительно, после операции она не краснеет. Иногда, практически случайно, она испытывает фантомный румянец — полное ощущение, что заливается краской, но это лишь иллюзия. Я спросил, краснеет ли у нее лицо, когда она бегает, и она ответила «нет», если только постоять на голове. Другие физические изменения кажутся ей несущественными. Самое заметное, по ее словам, то, что ни лицо, ни ладони больше не потеют, а живот, спина и ноги потеют заметно сильнее, чем раньше, но не настолько, чтобы доставлять беспокойство. Шрамы, изначально крохотные, полностью исчезли.
С первого же утра после операции, говорит Друри, она почувствовала себя другой. Симпатичный медбрат пришел измерить ей давление. Прежде она бы залилась краской при его появлении, но теперь ничего подобного не произошло. Казалось, с нее сняли маску.
В тот день после выписки Кристин подвергла себя испытанию, спрашивая дорогу у незнакомцев на улице (в этой ситуации она неизбежно краснела раньше): румянца не было, что подтвердил ее отец. Более того, она стала общаться легко и непринужденно, без тени прежнего смущения. В аэропорту, когда они стояли в длинной очереди на регистрацию, Друри не могла найти свой паспорт: «Я просто вывалила содержимое сумочки на пол и стала рыться в нем, и до меня вдруг дошло, что я делаю это и не умираю от стыда. Я подняла взгляд на папу и просто расплакалась».
По возвращении домой началась новая жизнь. Внимание других уже не доставляло неудобства и не пугало. Привычный внутренний монолог при разговоре с людьми («пожалуйста, не красней, пожалуйста, не красней, о господи, я краснею!») прекратился, и она стала лучше слышать других людей. Теперь Кристин могла дольше на них смотреть без настоятельной потребности отвести взгляд (ей даже пришлось учиться не смотреть слишком пристально).
Через пять дней после операции Друри вернулась в телестудию за стол ведущей. Той ночью она обошлась практически без макияжа. На ней был шерстяной блейзер темно-синего цвета — никогда прежде она не надевала теплых вещей такого рода. «Я чувствовала себя дебютанткой, — сказала Кристин. — Все прошло прекрасно».
Впоследствии я просмотрел записи некоторых ее выходов в эфир в первые недели после операции. Я увидел, как Друри рассказывает об убийстве пастора пьяным водителем и о том, как 16-летний подросток застрелил 19-летнего парня. Она держалась естественно как никогда. Особенно меня поразила одна передача. Это был не обычный ночной выпуск новостей, а социальная реклама под названием «Читай, Индиана, читай!». Февральским утром Друри шесть минут читала в прямом эфире рассказ толпе непоседливых восьмилетних детей, а на экране демонстрировались призывы к родителям читать своим детям. Несмотря на царящий вокруг хаос — дети носились, бросали вещи, пытались заглянуть в камеру, — она упрямо читала, не теряя самообладания.
Друри никому не рассказала об операции, но сослуживцы сразу заметили, как она изменилась. В разговоре со мной продюсер телеканала сказал: «Друри сообщила только, что совершила поездку с отцом, но, когда она вернулась и я снова увидел ее на телеэкране, то воскликнул: „Кристин, это невероятно!“ Она потрясающе свободно держалась перед камерой. Ее уверенность можно было почувствовать через экран, ничего общего с тем, что было раньше». Через несколько месяцев Друри получила работу репортера в прямом эфире в прайм-тайм на другой станции.
Несколько перерезанных нервных волокон — и она стала другим человеком. Странно об этом думать, поскольку мы привыкли считать свое сущностное «я» отдельным от телесных особенностей. Кто, глядя на свою фотографию или слыша запись своего голоса, не думал: «Это не я!» Если взять крайний пример, то ожоговым больным, впервые видящим себя в зеркале, собственный облик обычно кажется чужим. Дело не только в том, что они не вполне «привыкли» к нему; новая кожа меняет их. Она меняет то, как больные общаются с людьми, чего ждут от других, как воспринимают себя глазами окружающих. Медсестра ожогового отделения однажды сказала мне, что уверенный в себе человек может стать пугливым и раздражительным, слабый — превратиться в стойкого бойца. Аналогично Друри воспринимала свой предательский румянец как нечто внешнее, почти как ожог: она называла это «красной маской». Эта маска так прочно приросла к Кристин, что, по ее убеждению, мешала ей стать собой. Когда маска исчезла, Друри почувствовала себя новой, смелой, «совершенно не такой, как прежде». Но что случилось с женщиной, которая всю жизнь смущалась и стеснялась, стоило лишь кому-то обратить на нее внимание? Со временем Друри обнаружила, что эта женщина никуда не делась.
Однажды, ужиная с другом, она решила рассказать ему об операции. Это был первый человек не из ее семьи, с которым она поделилась свои секретом, и он пришел в ужас. Она сделала операцию, чтобы лишиться способности краснеть? Это кажется противоестественным, сказал он, хуже того, суетным. Его слова врезались ей в память: «Вы, телевизионщики, пойдете на все ради карьеры».
Кристин вернулась домой в слезах, рассерженная и в то же время раздавленная, с мыслью, не совершила ли она действительно чего-то извращенного и дурного. В последующие недели и месяцы Друри все более убеждала себя, что хирургическое решение проблемы превратило ее в мошенницу. «Операция открыла мне путь в журналистику, которой я обучалась, — говорит она, — но я все больше стыдилась того, что мне пришлось справляться со своими трудностями искусственным путем».
Друри все сильнее боялась, что окружающие узнают об операции. Когда сослуживец, пытаясь понять, что в ней изменилось, спросил, не похудела ли она, Кристин с натянутой улыбкой ответила отрицательно и ничего больше не сказала. «На пикнике, устроенном телестанцией в субботу накануне гонок „500 миль Индианаполиса“, я только и молилась, чтобы выбраться оттуда, лишь бы не услышать: „Эй, куда делась твоя привычка краснеть?“». Это был тот же стыд, что и прежде, только не из-за румянца, а из-за его отсутствия.
На телевидении чувство неловкости снова стало ее отвлекать. В июне 1999 г. Друри вышла на новую работу, но два месяца не получала эфира. Во время этой паузы она все сильнее сомневалась в своем решении вернуться на телевидение. Когда Кристин выехала со съемочной группой освещать разрушения из-за бури в соседнем городе, где ветер с корнем вырвал деревья, то получила возможность провести репортаж перед камерой. Она была уверена, что выглядит прекрасно, но этого нельзя было сказать о ее самоощущении. «Мне казалось, я не на своем месте, не имею права быть здесь», — вспоминает Друри. Через несколько дней она уволилась.
С тех пор прошло больше года, и Кристин пришлось посвятить это время восстановлению своей жизни. Безработная, умирающая от стыда, она спряталась в своей раковине, ни с кем не виделась и целыми днями просиживала на диване перед телевизором, все глубже погружаясь в депрессию. Ситуация менялась медленно и постепенно. Друри начала, ломая саму себя, признаваться в случившемся друзьям, а затем и бывшим сослуживцам. К ее удивлению и облегчению, практически все ее поддержали. В сентябре 1999 г. она организовала фонд «Красная маска» для распространения информации о хроническом блашинг-синдроме и поддержки тех, кто им страдает{6}. Раскрыв свой секрет, Друри сумела преодолеть кризис.
Зимой того же года Кристин нашла работу на радио, что оказалось идеальным выбором. Она стала помощницей шефа корпункта Metro Networks в Индианаполисе. Каждое утро в будние дни Друри вела новостные программы на двух радиостанциях, затем во второй половине дня сообщала информацию о дорожной ситуации на этих и нескольких других станциях. Прошлой весной, восстановив уверенность в себе, она стала налаживать контакты с телеканалами. Местная станция сети Fox согласилась взять ее диктором-дублером. В начале июля ее в последнюю минуту вызвали в эфир рассказать о ситуации на дорогах в программе, выходившей в три часа утра.
Я посмотрел запись этой программы — одного из утренних новостных шоу для собирающихся на работу с двумя жизнерадостными ведущими, мужчиной и женщиной, расположившимися в мягких креслах с огромными кофейными чашками в руках. Каждые полчаса они обращаются к Друри за двухминутным анализом дорожной ситуации. Она стоит перед экраном, где меняются карты города, и рассказывает о дорожно-транспортных происшествиях и ремонтных работах. Соведущие то и дело отпускают шуточки по поводу «не той девушки» в их программе, и Кристин без малейшего напряжения смеется и отшучивается. По ее словам, это было восхитительно, хотя и непросто. Друри не могла совершенно избавиться от неловкости из-за мыслей о том, что подумают зрители о ее возвращении после долгого отсутствия, но переживания не взяли над ней верх. По ее словам, она начала чувствовать себя комфортно в собственной коже.
Хотелось бы знать, были ли ее проблемы физическими или психологическими. Однако ответить на этот вопрос невозможно, как и на вопрос о том, имеет ли физическую или ментальную природу румянец — да и сам человек. В каждом есть и та и другая сторона, и разделить их не способен даже нож хирурга. Я спросил Друри, сожалеет ли она об операции. «Нисколько», — ответила Кристин и даже назвала ее своим «исцелением». В то же время, добавила она, «люди должны знать, что с операцией проблемы не заканчиваются». Теперь Друри достигла гармонии — освободилась от давящей стеснительности, которую провоцировала ее привычка краснеть, но приняла тот факт, что не избавилась от смущения полностью. В октябре она стала подрабатывать репортером-фрилансером в эфире «Канала-6», филиала АВС в Индианаполисе, и надеется со временем перейти на полную ставку.
Человек, который не мог перестать есть
Шунтирование желудка с гастранастомозом по Ру — это радикальная процедура и самый жесткий способ избавления от лишнего веса. Это еще и самая странная хирургическая операция, в которой я когда-либо участвовал. Она не лечит заболевание, не устраняет дефект или повреждение. Это операция, призванная контролировать волю человека — изменить его внутренности так, чтобы он больше не мог переедать. Она стремительно набирает популярность: в 1999 г. в США шунтирование желудка было сделано примерно 45 000 пациентам с ожирением, а к 2003 г. их число должно было удвоиться{1}. Винсент Каселли (имя изменено) собирался пополнить их число.
В половине восьмого утра 13 сентября 1999 г. анестезиолог и два санитара доставили Каселли в операционную, где его ждали штатный врач-хирург и я. Пациент, 54-летний оператор тяжелой техники и подрядчик в области дорожного строительства (его бригада укладывала асфальт на дорожной развязке в моем районе), был сыном итальянских иммигрантов, состоял в браке 35 лет и вырастил трех дочерей, уже имевших собственных детей. Он весил почти 194 кг при росте всего 167,5 см и был глубоко несчастен. Каселли не имел возможности выйти из дома, его здоровье было разрушено, нормальная жизнь оказалась для него недоступна.
При сильном ожирении общий наркоз сам по себе опасен; обширное хирургическое вмешательство на органах брюшной полости легко может закончиться трагедией. При ожирении значительно увеличивается риск дыхательной недостаточности, инфаркта, инфицирования ран, образования грыж — практически всех мыслимых осложнений, в том числе летального исхода. Тем не менее доктор Шелдон Рэндал, штатный хирург клиники, был совершенно спокоен — обсуждал с медсестрами минувшие выходные, уверял пациента, что все будет хорошо, поскольку выполнил уже больше тысячи этих операций. Я, ассистент-ординатор, не мог справиться с тревогой. Глядя, как Каселли пытается перебраться с каталки на операционный стол и останавливается на полпути перевести дыхание, я боялся, что он так и не справится, упадет. Когда ему это все же удалось, его ляжки буквально свесились со стола, и я дважды проверил, на месте ли мягкая обивка, защищающая тело пациента от острых краев стола. На Каселли ничего не было, кроме больничной сорочки «универсального» размера, смотревшейся на нем как слюнявчик, и операционная сестра из соображений благопристойности прикрыла его ниже пояса одеялом. Едва мы попробовали уложить его на спину, он стал задыхаться и синеть, и анестезиологу пришлось погрузить его в наркоз в сидячем положении. Только благодаря дыхательной трубке и аппарату вентиляции легких мы смогли уложить пациента на спину.
Он высился на столе, как гора. Мой рост 1,85 м, но даже при опущенном до предела столе я был вынужден встать на табурет-подставку, чтобы оперировать; доктору Рэндалу понадобились две подставки, одна на другой. Он кивнул мне, и я сделал разрез сверху вниз посередине живота пациента через кожу и многосантиметровый плотный слой поблескивающего желтого жира. Внутри брюшной полости мы увидели, что печень тоже имеет прожилки жира, а кишечник покрыт толстым его слоем, но желудок выглядит обычно — гладкий серовато-розовый мешок величиной с два кулака. Мы установили металлические ранорасширители, держащие края раны растянутыми, чтобы отвести в сторону печень и скользкие кольца кишечника. Погрузив руки по локоть в брюшную полость пациента, мы ушили скобами его желудок до объема менее 30 мл. До операции он мог вместить больше литра пищи или питья; теперь — лишь рюмку. Затем мы пришили этот маленький мешочек к части кишечника на расстоянии 60 см от двенадцатиперстной кишки, то есть исключили начальный участок тонкой кишки, где желчь и поджелудочный сок расщепляют пищу. Этот этап операции представлял собой шунтирование и предназначался для того, чтобы пища, которую может принять желудок, хуже усваивалась. Операция заняла чуть больше двух часов. Состояние Каселли было стабильным на всем ее протяжении, но восстановление проходило тяжело. Обычно пациенты готовы к выписке через три дня после операции; Каселли только через два дня понял, где находится. В течение 24 часов его почки не работали, и в легких скопилась жидкость. У него начался бред, он видел что-то на стенах, срывал кислородную маску и грудные отведения кардиомонитора, даже выдергивал катетер из руки. Мы волновались, а его жена и дочери были в ужасе, но постепенно Каселли пришел в норму.
На третий день после операции больной смог небольшими глотками пить воду, яблочный сок, имбирный эль — до 28 мл каждые четыре часа. Во время вечернего обхода я спросил, как он с этим справляется, и Каселли ответил, что нормально. Мы решили давать ему 120-миллилитровые порции питательного напитка Carnation Instant Breakfast, чтобы обеспечить белком и небольшим количеством калорий. Он смог выпить только половину, затратив на это час, был сыт по горло и почувствовал неприятную резь в животе. Доктор Рэндал объяснил, что этого следовало ожидать. Пройдет несколько дней, прежде чем больной сможет есть твердую пищу. Но дела у него шли хорошо. Ему уже не требовалось внутривенное питание, боль от операционной раны была контролируемой, и после недолгого пребывания в реабилитационной клинике пациент был выписан.
Недели через две я спросил доктора Рэндала, как поживает Каселли. «Неплохо», — ответил хирург. Я ассистировал ему при нескольких подобных операциях, но не имел возможности наблюдать последующий прогресс пациентов и поинтересовался, сбросит ли больной весь лишний вес и сколько сможет есть. Рэндал предложил мне спросить об этом самого Каселли, и как-то в октябре я ему позвонил. Похоже, он очень мне обрадовался и тут же предложил зайти. Я поехал к нему в тот же день после работы.
Винсент Каселли с женой живет в скромном доме с асимметричной крышей недалеко от Бостона. По дороге я проехал мимо четырех «Данкин Донатс», четырех пиццерий, трех стейк-хаусов, двух «Макдоналдсов», миновал «Граунд Раунд», «Тако Белл», «Френдлис» и «Международный дом оладий» (привычная придорожная картина, но в тот день мне казалось, что я совершаю печальный тур по местам нашего саморазрушения). Я позвонил в дверной звонок, прошла целая минута, прежде чем из-за двери послышались медленные шаги, и Каселли, явно запыхавшийся, открыл дверь. Тем не менее он приветствовал меня широкой улыбкой и тепло пожал мне руку. Опираясь о стол, стену и дверной косяк, Винсент провел меня в кухню, оклеенную обоями в цветочек, где мы сели за накрытый стол.
Я спросил, как у него дела, и он ответил: «Очень хорошо». Послеоперационная боль прошла, рана зажила, и, хотя прошло всего три недели, Каселли похудел на 18 кг. Однако он все еще весил 176, 6 кг, с трудом влезал в штаны 64-го размера и футболки XXXXXXL (самые большие, какие бывают в местном магазине для людей с нестандартной фигурой) и пока не почувствовал себя обновленным. Сидя, Каселли был вынужден расставлять ноги, чтобы между ними свисал живот, а вес тела, приходящийся на деревянный стул, заставлял его ерзать каждые одну-две минуты, чтобы не затекали ягодицы. Складки у него на лбу заливал пот, редкие волосы с проседью прилипли к макушке. Карие глаза слезились, под ними были темные мешки. Он дышал с пугающим хрипом.
Мы поговорили о его возвращении домой из больницы. Первой твердой пищей, на которую решился Винсент, стала ложка яичницы-болтуньи. Даже этого хватило, чтобы объесться до боли, сказал он, такой боли, «как будто что-то порвалось», и его стошнило. Каселли боялся, что никогда не сумеет съесть ничего более или менее твердого, но постепенно обнаружил, что может позволить себе маленькие порции мягкой пищи — картофельное пюре, макароны, даже курятину, хорошо измельченную и не сухую. Хлеб и сухое мясо «застряли», и пришлось вызвать у себя рвоту.
Винсента беспокоило, что до этого дошло, но он примирился с тем, что это необходимо. «Последние год или два я живу как в аду», — сказал он. Битва началась незадолго до его 30-летия. По его словам, у него всегда был лишний вес. Он весил 90 кг в 19 лет, когда женился (назовем его жену Терезой), а через десять лет подобрался к 136 кг. Каселли садился на диету и сбрасывал 35 кг, затем снова набирал 45 кг. К 1985 г. Винсент весил больше 180 кг. На одной диете он дошел до 86 кг, но вскоре вернулся к прежнему весу. «Я, должно быть, скинул и снова набрал в общей сложности 450 кг», — заметил Винсент. У него развились гипертония и диабет, холестерин был высоким. Колени и спина все время болели. Подвижность стала ограниченной. Раньше он покупал абонементы на матчи хоккейного клуба «Бостон Брюинз», каждое лето выезжал в Сиконк посмотреть автогонки. Много лет назад Каселли сам участвовал в гонках, теперь едва мог дойти до своего пикапа. Он не летал на самолетах с 1983 г. и два года не был на втором этаже собственного дома, поскольку не мог одолеть лестницу: «Год назад Тереза купила компьютер для своего кабинета наверху, так я его еще не видел». Ему пришлось перебраться из их спальни на втором этаже в комнатку за кухней. Будучи не в состоянии лежать, Винсент спал исключительно в кресле, и то лишь урывками из-за приступов апноэ — обычного синдрома при ожирении, вызываемого избытком жира в языке и мягких тканях верхних дыхательных путей. Каждые 30 минут его дыхание прекращалось, и он просыпался в удушье. Каселли был постоянно обессилен.
Были и другие проблемы, о которых не принято рассказывать. По словам Винсента, полноценное соблюдение гигиены стало практически невозможным. Он не мог мочиться стоя, а после дефекации часто вынужден был мыться. Складки кожи натирались и краснели, образовывались нарывы и воспаления. «Сказалось ли это на вашем браке?» — спросил я, и Каселли ответил: «Конечно. Сексуальной жизни нет. Я очень надеюсь, что будет». Для него, однако, самым ужасным оказалось ограничение возможности обеспечивать семью.
Отец Винсента Каселли приехал в Бостон из Италии в 1914 г. и стал работать в сфере строительства. Вскоре он купил пять паровых экскаваторов и открыл фирму. В 1960-х гг. двое его сыновей унаследовали бизнес, и в 1979 г. Винсент начал собственное дело. Он был умелым оператором тяжелой техники (его специализация — управление 30-тонным гидравлическим экскаватором «Gradall» стоимостью $300 000) и собрал круглогодично действующую бригаду для строительства дорог и тротуаров. Со временем Каселли купил собственный «Gradall», 10-колесный самосвал «Mack», трактор с экскаваторной установкой и целый парк легких грузовиков. Однако в последние три года он стал слишком тучным, чтобы управлять экскаватором или заниматься текущим обслуживанием оборудования. Пришлось вести дела из дома: платить другим за тяжелую работу, нанять племянника для помощи с рабочими и договорами. Издержки росли, и, поскольку Каселли уже не мог самостоятельно обходить сотрудников муниципалитета, ему стало труднее искать и заключать контракты. Если бы не заработок Терезы, управляющей домом престарелых в Бостоне, они бы обанкротились.
Симпатичная рыжеволосая, с веснушками, Тереза (как оказалось, практически нормального веса) давно побуждала мужа сидеть на диетах и заниматься физкультурой. Он и сам отчаянно хотел похудеть, но оказался не способен контролировать себя день за днем, трапеза за трапезой. «Я человек привычки, — сказал Винсент. — Я не склонен что-либо менять». Еда оказалась его худшей привычкой. Впрочем, еда — привычка каждого из нас. Чем же отличалась именно его привычка? Каселли накладывал слишком большие порции и ни крошки не мог оставить на тарелке. Если паста оставалась в кастрюле, доедал и оттуда. Я спросил, почему он это делал. Просто из любви к еде? Поразмыслив, Винсент пришел к выводу, что дело не в любви: «Когда ешь, получаешь удовольствие, но только в этот момент». Мучил ли его слишком сильный голод? Он ответил, что никогда не бывал голоден.
Насколько я могу судить, Каселли ел по тем же причинам, что и все мы: потому что еда вкусная, потому что сейчас семь вечера и пора ужинать, потому что на стол подали отменное блюдо. Он и прекращал есть по тем же причинам, что и остальные: потому что был совершенно сыт и еда уже не доставляла удовольствия. Главное отличие состояло в том, что у него чувство полной сытости возникало от необычайно большого количества еды (Винсент мог в один присест съесть большую пиццу). Пытаясь похудеть, он сталкивался с той же проблемой, что и любой человек, сидящий на диете: как остановиться до того, как насытишься, когда еда еще доставляет удовольствие, а еще как заставить себя заниматься физическими упражнениями. Сам Каселли держался недолго, при напоминаниях и контроле — чуть дольше, но убедился, что не в состоянии соблюдать режим постоянно. «Я человек слабый», — признался Винсент.
В начале 1998 г. терапевт строго сказала Каселли: «Если вы не сможете похудеть, придется принять решительные меры». Имелось в виду хирургическое вмешательство. Она описала операцию обходного желудочного анастомоза и дала ему номер телефона доктора Рэндала. Каселли и мысли об этом не допускал. Процедура выглядела пугающей, да и бизнес без присмотра не оставишь. Однако через год, весной 1999 г., у него развилось тяжелое инфекционное поражение обоих ног: с увеличением веса и появлением варикозно расширенных вен кожа истончилась и стала лопаться с образованием открытых гноящихся язв. Несмотря на жар и раздирающую боль, только непрерывные уговоры жены убедили его обратиться к врачу. Та диагностировала тяжелое воспаление подкожной клетчатки, и Винсент неделю пролежал в больнице, получая антибиотики внутривенно.
Там он прошел ультразвуковое обследование с целью обнаружения тромбов в сосудах ног. Придя к нему с результатами, рентгенолог сказал: «Вы счастливец». «Я спросил, уж не выиграл ли в лотерею», — вспоминает Каселли. «У вас нет тромбов, к моему большому удивлению, — был ответ. — Не хочу пугать, но у такого человека, как вы, в подобной ситуации почти наверняка имеются тромбы. Это значит, что у вас весьма крепкое здоровье». При условии, добавил врач, что Каселли как-то справится с лишним весом.
Винсент вспоминает, что вскоре к нему пришел инфекционист, снял повязки, осмотрел раны и снова забинтовал. Состояние ног улучшилось, сказал врач и добавил: «Вот что я вам скажу. Я прочел всю вашу историю болезни — откуда вы, кто вы и как дошли до такой жизни. Теперь вы здесь, и ситуация такая: вы сбросите вес — не просто постараетесь изо всех сил, а сбросите — и будете очень здоровым человеком. Сердце у вас в порядке. Легкие в порядке. Вы очень крепкий».
«Я отнесся к этому серьезно, — пояснил Каселли. — Понимаете, два разных врача сказали мне одно и то же. Они ничего не знали обо мне, кроме того, что прочли в истории болезни. У них не было причин мне это говорить. Но они знали, что лишний вес — это проблема, и если бы я смог от нее избавиться…»
По возвращении домой он еще две недели провел на постельном режиме. Тем временем его бизнес потерпел крах. Новых контрактов не было, и Винсент знал, что придется уволить сотрудников, когда они закончат текущие работы. Тереза записала его к доктору Рэндалу, и Каселли пошел на прием. Рэндал рассказал об операции обходного желудочного анастомоза и честно предупредил Винсента о рисках. Существовал один шанс смерти на 200 и один шанс из десяти на неблагоприятный исход, включая кровотечение, инфекцию, образование язв желудка или тромбов, кровотечение в брюшную полость. Врач также сказал, что операция навсегда изменит его режим питания. Не способный работать, униженный, больной и измученный болью, Винсент Каселли решил, что операция — его единственная надежда.
Невозможно рассматривать тему человеческого аппетита, не задаваясь вопросом о том, имеем ли мы, в принципе, какую-то власть над собственной жизнью. Мы верим в силу воли и исходим из убеждения, что способны выбирать в таких простых вопросах, как остаться сидеть или встать, говорить или не говорить, съесть кусочек пирога или нет. Тем не менее лишь очень немногие люди, будь то толстяки или стройняшки, могут надолго уменьшить свой вес по собственной воле. История лечения с целью снижения веса — это один большой провал. На любой диете — жидкостной, белковой, грейпфрутовой, зональной, по Аткинсу или по Дину Орнишу — люди довольно легко худеют, но не сохраняют достигнутый вес. В 1993 г. экспертная комиссия Национальных институтов здравоохранения проанализировала исследования результатов диет за несколько десятилетий и обнаружила, что 90−95 % людей набирают от трети до двух третей потерянного веса в течение года и весь вес за пять лет{2}. Врачи фиксировали челюсти пациентов проволокой, вставляли им в желудок пластиковые баллоны, удаляли огромное количество жира, выписывали амфетамины и большие дозы тироидного гормона, даже проводили нейрохирургические операции по разрушению центров голода в гипоталамусе, тем не менее пациенты снова толстели{3}. Например, фиксация челюстей может привести к значительной потере веса, и пациенты, обращающиеся за этой процедурой, очень мотивированны, но все равно некоторые из них поглощают через свои стянутые челюсти столько калорийного питья, что прибавляют в весе, а другие отъедаются, как только проволоку снимут. Эволюция нашего биологического вида шла через преодоление голода, а не пищевого изобилия.
Группа пациентов, представляющая собой исключение в печальной истории неудач, — это, как ни странно, дети. Никто не станет утверждать, что у детей самоконтроль выше, чем у взрослых, однако в ходе четырех рандомизированных исследований детей с ожирением от 6 до 12 лет те из них, кто проходил простую поведенческую коррекцию (еженедельные занятия в течение 8−12 недель с последующими ежемесячными встречами в период до года), имели значительно меньший избыток веса десять лет спустя, а 30 % вообще не имели ожирения{4}. Очевидно, детский аппетит поддается воздействию, взрослый — нет.
Свет на этот вопрос проливает сам процесс поглощения пищи. Человек может съесть за один присест больше, чем нужно, как минимум двумя способам. Один из них — есть медленно, но непрерывно и слишком долго. Это свойственно людям с синдромом Прадера — Вилли{5}, не способным испытывать чувство сытости из-за редкой врожденной дисфункции гипоталамуса. Хотя они едят в два раза медленнее большинства, но не могут остановиться и при отсутствии строгого контроля доступа к пище (некоторые готовы есть отбросы или кошачий корм, если ничего больше нет) получают смертельно опасное ожирение.
Более распространенной, однако, является привычка к быстрым перекусам. При этом наблюдается так называемый «жировой парадокс»{6}. Пища, попадая в желудок и двенадцатиперстную кишку (верхний отдел тонкой кишки), запускает рецепторы растяжения, белковые рецепторы и жировые рецепторы, подающие гипоталамусу сигналы, что пора инициировать чувство насыщения. Ничто не стимулирует эту реакцию быстрее жиров. Даже малое количество жиров, достигнув двенадцатиперстной кишки, заставит человека перестать есть. Тем не менее мы едим слишком много жиров. Почему? Все дело в скорости. Оказывается, пища может активизировать рецепторы во рту, заставляющие гипоталамус ускорять потребление пищи (опять-таки самым мощным стимулятором является жир). Немного жира на языке — и рецепторы заставляют нас есть быстрее, прежде чем кишечник подаст сигнал к прекращению. Чем вкуснее еда, тем быстрее мы едим — это явление называется «эффектом аппетайзера»{7}. (Для тех, кому интересно, объясняю: его обеспечивает не более быстрое, а менее тщательное пережевывание. Как установили французские исследователи{8}, люди, чтобы есть больше и быстрее, сокращают «время пережевывания» — совершают меньше «жевательных движений на стандартную единицу пищи», прежде чем проглотить. Иными словами, мы начинаем заглатывать плохо прожеванную еду.)
Насколько толстым станет человек, зависит отчасти от того, как гипоталамус и ствол головного мозга согласуют противоречивые сигналы от рецепторов рта и кишечника. Одни довольно быстро чувствуют, что сыты, другие, как Винсент Каселли, испытывают «эффект аппетайзера» намного дольше. В последние годы мы многое узнали об этих механизмах контроля. Теперь нам известно, что уровень гормонов, например лептина и нейропептида Y, растет и снижается вместе с уровнем жира в пище и, соответственно, корректирует аппетит. Вместе с тем пока наше знание этих механизмов является в лучшем случае приблизительным.
Рассмотрим отчет 1998 г. о состоянии двух мужчин, Б.Р. и Р.Х., страдавших глубокой амнезией{9}. Подобно главному герою фильма «Помни», они могли поддерживать связный разговор, но, отвлекшись, уже не помнили из него ничего, кроме последней минуты, даже того, что вообще с вами разговаривали. (Б.Р. перенес вирусный энцефалит, Р.Х. был 20 лет болен тяжелой эпилепсией.) Пол Розин, профессор психологии Пенсильванского университета, решил задействовать их в эксперименте с целью изучения отношения между памятью и питанием. В течение трех дней подряд он с помощниками предлагал каждому испытуемому его обычный ланч (Б.Р. получал мясную запеканку, перловый суп, помидоры, картофель, бобы, хлеб, сливочное масло, персики и чай; Р.Х. — телятину с пастой, стручковую фасоль, сок и яблочный пирог). Каждый день Б.Р. съедал ланч полностью, а Р.Х. не мог доесть. Тарелки убирали и через 10−30 минут приносили те же блюда, объявляя: «Ваш ланч». Оба съедали столько же, сколько в предыдущий раз. Снова выждав от 10 до 30 минут, исследователи возвращались — «Ваш ланч!» — и испытуемые опять ели. Однажды Р.Х. предложили и четвертый ланч, и только тогда он отказался, сказав, что у него «какая-то тяжесть в желудке». Рецепторы растяжения желудка не были совершенно неэффективными, но в отсутствие памяти о том, что вы поели, одного социального контекста — кто-то приносит вам поднос — достаточно, чтобы вернуть аппетит.
Можно представить себе противоборствующие силы в нашем мозге, пытающиеся заставить нас чувствовать голод или сытость. При виде тирамису вкусовые и обонятельные рецепторы склоняют нас в одну сторону, рецепторы кишечника — в другую. Лептины и нейропептиды сообщают нам, запасли ли мы слишком много или слишком мало жира. У каждого из нас также имеется социальный и персональный эталон, подсказывающий, стоит ли съесть больше. Если какой-то механизм выпадает, начинаются проблемы.
С учетом комплексного характера аппетита и несовершенства наших знаний о нем неудивительно, что лекарства, меняющие аппетит, дают скромные результаты в борьбе с перееданием. (Самым успешным оказалось сочетание фенфлурамина и фентермина, «фен-фен», но с ним связали повреждения сердечного клапана и лекарство было изъято из продажи.) Университетские ученые и фармацевтические компании активно ищут лекарство, излечивающее от тяжелого ожирения, но его до сих пор не существует. Единственный метод лечения, оказавшийся эффективным, — это, как ни странно, оперативный метод.
В нашей больнице в послеоперационных палатах работала медсестра 48 лет, всего 1,5 м ростом, с коротко стриженными рыжеватыми волосами и атлетическим телосложением. Однажды за кофе в больничном кафетерии вскоре после моего визита к Винсенту Каселли она рассказала, что когда-то весила больше 113 кг. Карла (имя изменено) пояснила: около 15 лет назад ей сделали операцию по шунтированию желудка.
Она была тучной с пяти лет. В средних классах школы начала сидеть на диетах и принимать таблетки для похудения — слабительные, мочегонные, амфетамины. «Сбросить вес никогда не было проблемой, — сказала Карла. — Проблемой было не набрать его снова». Женщина вспоминает, как была разочарована во время поездки с друзьями в Диснейленд, когда оказалось, что она не может протиснуться через турникет на входе. В 43 года ее вес достиг 120 кг. Однажды, сопровождая своего партнера, врача, на медицинскую конференцию в Новом Орлеане, Карла не смогла пройти Бурбон-стрит, потому что задыхалась. Впервые, по ее словам, она «испугалась за свою жизнь — не только за ее качество, но и продолжительность».
Был 1985 г. Врачи экспериментировали с радикальными хирургическими вмешательствами по поводу ожирения, хотя энтузиазм по поводу этих методов пошел на спад, но две операции все еще считались многообещающими. Одна — так называемое тоще-подвздошнокишечное шунтирование, при котором шунт делался в обход практически всей тонкой кишки и усваиваться могло минимальное количество пищи, — как оказалось, приводила к смерти пациентов. Другая, ушивание желудка, со временем теряла эффективность{10}: люди приноравливались к своим крохотным желудкам, все более часто поедая самые калорийные блюда.
Карла, работая в больнице, слышала вдохновляющие отзывы об операции шунтирования желудка — уменьшения желудка в сочетании с выключением начального отдела тонкой кишки, благодаря чему пища идет в обход лишь первого метра тонкой кишки. Она знала, что данные о ее успешности пока отрывочны и что другие операции провалились, и размышляла целый год, но чем больше информации она получала, тем больше убеждалась, что должна попытаться. В мае 1986 г. она решилась на операцию.
«Впервые в жизни я почувствовала, что совершенно сыта», — поведала Карла. Через шесть месяцев после операции она похудела до 83,8 кг. Еще через полгода весила уже 59 кг. Карла похудела настолько, что пришлось хирургическим путем удалить складки кожи, свисавшие с живота и бедер до колен. Женщина стала неузнаваемой для всех, кто знал ее прежде, и даже для самой себя. «Я ходила по барам, чтобы проверить, захочет ли кто-нибудь меня подцепить, — вспоминала Карла. — Еще как хотели!» Она тут же добавила со смехом: «Я всегда отвечала „нет“, но все равно ходила».
Изменения оказались не только физическими. Постепенно Карла обнаружила у себя огромную, доселе незнакомую, силу воли в отношении пищи. Пропала необходимость что-то жевать: «Всякий раз во время еды я спрашиваю себя, пойдет ли мне это на пользу, не потолстею ли я снова, если съем слишком много этого блюда. И просто останавливаюсь». Это было странное чувство. Разумом она понимала, что стала меньше есть благодаря операции, но по ощущениям это был ее собственный выбор.
По результатам исследований, это типично для тех пациентов, которые добились успеха после операции желудочного шунтирования{11}. «Я бываю голодной, но теперь веду себя разумно, — сказала мне другая женщина, сделавшая эту операцию, и описала внутренний диалог, очень похожий на тот, что ведет с собой Карла. — Я спрашиваю себя, действительно ли мне это нужно. Я слежу за собой». Для многих ощущение контроля не ограничивается едой. Они становятся более уверенными, способными настоять на своем — подчас до конфликта. Например, оказалось, что после операции существенно возрастает число разводов. Карла также рассталась с партнером через несколько месяцев после того, как была прооперирована.
Ее невероятное похудение оказалось не временным явлением. Опубликованные статьи историй болезни свидетельствуют, что большинство пациентов после шунтирования желудка сбрасывают минимум две трети лишнего веса (обычно больше 45 кг) в течение года и удерживают новый вес: проведенные десять лет спустя исследования показали, что последующий набор веса составил в среднем от 4,5 до 9 кг{12}. Выгоды для здоровья потрясающие: у пациентов снижается риск развития сердечной недостаточности, астмы и артрита; что самое замечательное, 80 % страдавших диабетом избавились от него.
Однажды утром в январе 2000 г., месяца через четыре после операции, я заехал проведать Винсента Каселли. Нельзя сказать, что он подлетел к двери, но хотя бы не задыхался. Мешки под глазами пропали, черты лица стали более четкими. Футболка на нем была большого размера, но уже не похожа на мешок.
Каселли весил 157,6 кг — все еще слишком много для мужчины ростом всего 167,5 см, но на 40,7 кг меньше, чем на момент операции. Это уже привело к изменениям в его жизни. Не далее чем в октябре, признался Винсент, он не смог присутствовать на свадьбе своей младшей дочери, потому что не дошел бы до церкви, но в декабре достаточно похудел, чтобы возобновить ежеутренние походы в гараж в Ист-Дедхэме. «Вчера я снял три колеса с грузовика, — сказал Каселли. — Чтобы я смог сделать это три месяца назад? Да ни за что!» Впервые с 1997 г. он поднялся на второй этаж своего дома: «В рождественские праздники я сказал себе, что пора попробовать. Я шел очень медленно, переставляя ноги по очереди». Винсент не узнал второго этажа. В санузле был сделан косметический ремонт с тех пор, как он был там в последний раз, и Тереза, естественно, заняла всю спальню, включая шкафы. Каселли сказал, что со временем вернется туда. Ему пока приходилось спать, сидя в кресле, но теперь он мог проспать четыре часа подряд — «слава богу!». Диабет прошел. Хотя Винсент не мог стоять дольше 20 минут, язвы на ногах зажили. Он приподнял штанины, чтобы мне это показать, и я заметил, что на нем обычные рабочие ботинки «Red Wing». Раньше ему приходилось вырезать прорехи по бокам обуви, чтобы втиснуться в нее.
«Я собираюсь сбросить еще по крайней мере 45 кг», — сказал Винсент. Ему хотелось иметь возможность работать, заниматься внуками, покупать одежду в «Файлинс», посещать любые места, не задумываясь, есть ли там лестницы, поместится ли он в кресло и хватит ли ему дыхания. Каселли по-прежнему ел как птичка. Накануне он не проглотил ни крошки за все утро, на обед довольствовался кусочком курицы с отварной морковью и маленькой жареной картофелиной, а на ужин — одной жареной креветкой, полоской курятины под соусом терияки и двумя вилками лапши ло-мейн с курицей и овощами из китайского ресторана. Винсент вернулся к работе и на днях был на бизнес-ланче. Встреча проходила в новом ресторане в Гайд-парке — по его словам, «прекрасном», — и Каселли, не удержавшись, заказал гигантский бургер и тарелку картофеля фри, но, откусив пару раз, вынужден был остановиться. «Один из ребят спросил: „Ты что же, ничего больше не съешь?“ И я ответил: „Больше не могу“. — „Правда?“ И я сказал: да, это правда».
Я заметил, однако, что Винсент говорит о еде не так, как Карла. Он не упоминал о том, что останавливается, потому что сам этого хочет. Он останавливается, потому что вынужден. Хочешь съесть больше, объяснил Винсент, но «во внутренностях возникает такое чувство, словно еще один кусок — и все полезет наружу». Все равно он часто откусывает этот кусок. Под напором приступов тошноты, боли и метеоризма — так называемого постгастрэктомического синдрома — Винсент вынужден вызывать у себя рвоту. Если бы можно было есть больше, он бы это делал. Каселли признался, что это его пугает. «Это неправильно», — сказал он.
Через три месяца, в апреле, Винс пригласил меня с сыном в свой гараж в Ист-Дедхэме. Моему Уокеру тогда было четыре года, и Каселли вспомнил, что я однажды упоминал о его страсти к всевозможным механизмам. В свободную субботу мы отправились туда. Когда заехали на посыпанную гравием стоянку, Уокер чуть не лопнул от восторга. В громадный, как пещера, гараж с покрашенными в желтый цвет металлическими стенами вели двухэтажные ворота. Стояло необычайно теплое весеннее утро, но внутри было прохладно. Наши шаги по бетонному полу отдавались эхом. Винс и его приятель, тоже работающий по контрактам с тяжелой строительной техникой, — назовем его Дэнни — сидели на металлических складных стульях в полосе солнечного света, попыхивая толстыми гондурасскими сигарами и молча наслаждаясь прекрасным деньком. Оба встали поприветствовать нас. Винс представил меня как «одного из врачей, прооперировавших мой желудок», а я познакомил с хозяевами Уокера, который добросовестно обменялся с ними рукопожатиями, но видел лишь большие грузовики. Винс подсадил его на водительское место фронтального погрузчика, стоявшего в углу гаража, и разрешил играть с кнопками и рычагами. Затем мы подошли к его любимому «Gradall» — великолепному агрегату, широкому, как проселочная дорога, желтому, как знак «Уступи дорогу», с сияющими черными шинами, доходившими мне до груди, и названием его фирмы, начертанным фигурным шрифтом на бортах. На шасси в двух метрах над землей высились стеклянная кабина и 10-метровая телескопическая стрела на 360-градусной поворотной платформе. Мы водрузили Уокера в кабину, где он надолго застрял высоко над нами, дергая рычаги и нажимая на педали, одновременно счастливый и ошеломленный.
Я спросил Винса, как идет бизнес. Оказалось, не очень. Не считая немногочисленных подработок минувшей зимой, когда Каселли убирал снег на своем пикапе, он не получал дохода с прошлого августа. Пришлось продать два пикапа из трех, самосвал «Mack» и большую часть мелкого оборудования для дорожного строительства. Дэнни встал на его защиту: «Ну, он же был в простое. К тому же летний сезон только начинается. Это сезонный бизнес». Однако все мы знали, что дело не в этом.
Винс сказал, что весит около 145 кг. Это было примерно на 10 кг меньше, чем на момент нашей прошлой встречи, и Каселли этим гордился. «Он не ест, — ввернул Дэнни. — Ест вполовину меньше меня». Однако Винс до сих пор не мог забраться в кабину экскаватора и управлять им и начал сомневаться, что когда-нибудь сможет. Скорость снижения веса уменьшилась, и он заметил, что может съесть больше. Раньше Винсент был способен лишь пару раз откусить от бургера, а теперь иногда уничтожает половину и по-прежнему временами ест больше, чем способен удержать. «На прошлой неделе у нас было кое-какое дело с Дэнни и другим парнем. Мы взяли китайскую еду. Часто я питаюсь неправильно — как ни стараюсь, все-таки съедаю чуток лишку. Потом я подвез Дэнни в Бостонский колледж и перед тем, как уехать со стоянки, был вынужден вызвать у себя рвоту. Просто не мог больше терпеть».
«Я замечаю, что возвращаюсь к схеме, по которой всегда питался», — подытожил он. Состояние внутренностей все еще служило для этого препятствием, но Каселли был обеспокоен. Что, если однажды препятствие исчезнет? Винсент слышал о людях с ушитым желудком, с которого слетали скобы и он возвращался к прежнему размеру, или ухитрившихся как-то иначе вернуть изначальный вес.
Я попытался ободрить Винса, повторив то, что, как мне было известно, доктор Рэндал объяснил ему во время последнего осмотра: небольшое увеличение вместимости желудка ожидаемо, и происходящее с ним нормально. Возможно ли худшее развитие событий? Мне не хотелось об этом говорить.
Среди пациентов с шунтированием желудка, с которыми я общался, был человек, история которого остается для меня предупреждением и тайной: мужчина 42 лет, женатый, отец двух дочерей (обе матери-одиночки, они жили в родительском доме), старший системный администратор крупной местной компании. В возрасте 38 лет ему пришлось уволиться и оформить инвалидность из-за того, что его вес, со старших классов школы превышавший 136 кг, увеличился до 203 кг и вызвал некупируемую боль в спине. Вскоре мужчина лишился возможности покидать дом. Он не мог пройти полквартала, способен был стоять очень недолго, выходил из дома в среднем раз в неделю, обычно для посещения врача. В декабре 1998 г. ему сделали шунтирование желудка. К июню следующего года он похудел на 45 кг.
Затем, по его словам, «снова начал есть». Пиццу. Коробки сладкого печенья. Упаковки пончиков. Сколько именно, мужчина затруднялся определить. Его желудок оставался крохотным и мог вмещать одномоментно совсем немного еды, и человек страдал от жестокой тошноты и боли, которую испытывают пациенты с шунтированным желудком всякий раз, когда съедают что-то сладкое или жирное. Однако стремление к еде было сильно как никогда. «Я ел, преодолевая боль, даже до того, что меня рвало, — рассказал он. — После рвоты просто освобождалось место для новой еды. Я ел буквально целый день». Пока бодрствовал, не проходило часа, чтобы он что-нибудь не съел: «Я просто запирался в спальне. Дети могли кричать, младенцы плакать, жена была на работе, а я ел». Его вес увеличился до 202,5 кг и продолжил расти. Операция не помогла. Вся его жизнь была принесена в жертву банальному аппетиту.
Мужчина относился к группе от 5 до 20 % пациентов (данные опубликованных исследований расходятся), набирающих вес несмотря на шунтирование желудка. (На момент нашего разговора он согласился на еще одно, более радикальное, шунтирование в отчаянной надежде, что это сработает.) Видя подобные неудачи, начинаешь понимать, с какой мощной силой приходится бороться. Операция, делающая переедание чрезвычайно трудным и чрезвычайно неприятным (более чем 80 % пациентов этого хватает, чтобы укротить аппетит и преобразиться), иногда оказывается бессильна. Исследования пока не обнаружили единого фактора риска, приводящего к подобному исходу. Очевидно, однако, что это может случиться с каждым.
Прошло несколько месяцев, прежде чем я снова увидел Винса Каселли. Зима закончилась, и я позвонил ему узнать, как дела. Он ответил, что прекрасно, и я не стал выпытывать подробности, но, когда речь зашла о том, чтобы встретиться, Каселли сам предложил сходить на игру «Бостон Брюинз». Я обратил на это внимание. Возможно, дела у него действительно шли прекрасно!
Через несколько дней он заехал за мной в больницу на рокочущем шестиколесном внедорожнике «Додж Рэм». Впервые с тех пор, как мы познакомились, Винсент показался мне почти маленьким в этом огромном грузовике. Он похудел до 113 кг. «Конечно, я пока не Грегори Пек», — пошутил Винс, но теперь он выглядел самым обычным человеком, просто полным. Валики под подбородком исчезли, черты лица стали четче, живот не свисал между ног. Каселли до сих пор, почти через полтора года после операции, продолжал терять вес. Во «Флит-центре», где «Брюинз» играли с «Питтсбург Пингвинз», он прошагал вверх по эскалатору, не запыхавшись. Наши места были в зоне у ворот, куда нужно было проходить через турникеты. Винс вдруг остановился и воскликнул: «Смотрите-ка, я взял и прошел, никаких проблем! Раньше я не мог протиснуться». Впервые за долгие годы он был на подобном мероприятии.
Когда мы сели на свои места рядах в 20 выше ледового поля, Каселли посмеялся тому, насколько легко уместился в кресло. Сиденья были такими же тесными, как в эконом-классе самолета, но Винс устроился вполне удобно (это мне было трудно пристроить длинные ноги). Он чувствовал себя как дома. Каселли всю жизнь обожал хоккей и засы́пал меня подробностями: вратарь «Пингвинз» Гарт Сноу оказался здешним уроженцем, из Рентема, и другом одного из кузенов Винса; Джо Торнтон и Джейсон Эллисон — лучшие форварды «Брюинз», но оба в подметки не годятся их сопернику Марио Лемье. Зрителей было почти 20 000, но через десять минут Винс заметил в нескольких рядах от нас приятеля, с которым ходил в одну парикмахерскую.
«Брюинз» выиграли, мы ушли, обмениваясь поздравлениями и впечатлениями, и решили поужинать в гриль-баре возле больницы. Винсент рассказал, что его бизнес наконец восстановился и процветает. Он с легкостью управляет экскаватором «Gradall», последние три месяца работает на нем полный день и даже подумывает о покупке новой модели. Винс вернулся в спальню на втором этаже. Они с Терезой провели отпуск в горах Адирондак. По вечерам супруги выходят прогуляться и проведать внуков.
Я спросил, что изменилось с нашей прошлой встречи весной. Он не смог точно ответить, но привел пример: «Я всегда любил итальянскую выпечку и до сих пор люблю. Год назад ел бы, пока не затошнит. Но теперь… не знаю, теперь она слишком сладкая. Я съедаю одно печенье, и то — откушу раз или два, и больше не хочется». То же самое касалось пасты, отказаться от которой Винс никогда не мог: «Теперь достаточно попробовать, и довольно с меня».
В какой-то мере изменились его вкусы. Он указал на начос, куриные крылышки баффало и гамбургеры в меню и сказал, что, как ни странно, ему больше ничего этого не хочется. «Теперь я предпочитаю белки и овощи», — пояснил Винсент и заказал салат «Цезарь» с курицей. Его больше не тянет набивать живот: «Мне всегда было очень трудно оставить еду недоеденной, теперь все изменилось». Но когда это произошло? И как? Каселли недоуменно покачал головой: «Хотел бы дать точный ответ». Он подумал и продолжил: «Человек привыкает к обстоятельствам. Кажется, что не сумеешь. Но привыкаешь».
Сегодня обеспокоенность вызывает не провал оперативного лечения ожирения, а его успех. Долгое время в почтенных хирургических кругах на этот метод смотрели как на незаконнорожденного ребенка. Бариатрические хирурги, специалисты по лечению ожирения методами хирургии, сталкивались с повсеместным скепсисом — разумна ли столь радикальная операция, тем более что множество предшествующих идей провалилось, — а подчас и с яростным сопротивлением: им даже не давали возможности сообщить о своих результатах на крупнейших профессиональных конференциях. Врачи чувствовали презрительное отношение остальных хирургов к их пациентам, проблемы которых считались эмоциональными или даже нравственными, а часто и к ним самим.
Теперь все иначе. Американская хирургическая коллегия недавно признала бариатрическую хирургию полноценным направлением. Национальный институт здоровья выпустил согласованное заявление о том, что операция шунтирования желудка является единственным эффективным известным методом лечения морбидного ожирения, способным обеспечить долгосрочную потерю веса и улучшение состояния здоровья. Бóльшая часть страховых компаний согласилась оплачивать эту операцию.
Врачи перестали ее порицать и принялись, порой настойчиво, рекомендовать пациентам с тяжелой формой ожирения. Таких пациентов много{13}. Больше 5 млн совершеннолетних американцев соответствуют строгому определению морбидного ожирения (их «индекс массы тела», то есть вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах, равен 40 или больше, что составляет примерно 45 кг или более лишнего веса для среднего мужчины). Еще 10 млн человек недотягивают до этой отметки, но имеют вызванные ожирением проблемы со здоровьем, достаточно серьезные, чтобы рекомендовать операцию. На данный момент количество кандидатов на оперативное лечение ожирения в десять раз превышает число пациентов, подвергающихся операции аортокоронарного шунтирования за год. Желающих так много, что авторитетные хирурги не справляются с их наплывом. Американское общество бариатрической хирургии включает лишь 500 членов на всю страну, выполняющих обходной желудочный анастомоз, и каждый имеет список ожидания на несколько месяцев. Отсюда печально известные проблемы, связанные с новыми и прибыльными (стоимость может достигать $20 000) хирургическими методами: в эту область деятельности устремляются новички, многие из которых получили должное обучение, но еще не овладели методикой, а есть и такие, кто вообще не имеет специальной подготовки. Ситуацию усугубляет то, что отдельные хирурги продвигают множество вариантов стандартной операции, которые не были всесторонне исследованы: «выключение двенадцатиперстной кишки», шунтирование желудка «на длинной петле», лапароскопическое шунтирование. Некоторые хирурги пытаются охватить новые группы пациентов, например подростков или лиц с умеренным ожирением.
Однако самой тревожной составляющей бурного роста популярности шунтирования желудка является сама реальность, в которой мы живем. В нашей культуре быть толстым — все равно что быть неудачником, и обещания быстрого похудения, невзирая на риски, неотразимо привлекательны. Врачи могут рекомендовать операцию из-за беспокойства о здоровье пациента, но очевидно, что многих людей толкает под нож хирурга позорное клеймо ожирения. «Как можно позволять себе так выглядеть?» — вот уничижительный вопрос общества, обычно невысказанный, но порой и озвученный. (Каселли рассказал, что его об этом спрашивали совершенно незнакомые люди на улице.) Женщины страдают от общественного осуждения еще больше мужчин, неслучайно они идут на операцию в семь раз чаще. (Вероятность ожирения у женщин лишь на одну восьмую выше.)
Фактически решение не делать операцию при наличии показаний может быть сочтено неразумным. Женщина весом 158,5 кг, не желавшая оперироваться, сказала мне, что врачи запугивали ее из-за этого выбора. Я знаю как минимум об одной пациентке с заболеванием сердца, которой врач отказывал в лечении, пока она не сделает шунтирование желудка. Некоторые доктора говорят больным, что если те не решатся на операцию, то умрут, однако в действительности мы этого не знаем. Несмотря на замечательные улучшения веса и здоровья, исследования пока не продемонстрировали соответствующего снижения смертности.
Страх перед этой процедурой вполне обоснован. Как отметил Пол Эрнсбергер, исследователь проблемы ожирения из Университета Кейс Вестерн Резерв, многим пациентам, делающим шунтирование желудка, нет еще 30 или 40 лет. «Но будет ли оно эффективно и целесообразно по прошествии 40 лет? — спрашивает он. — Этого никто не знает». Его беспокоят возможные долгосрочные последствия недостатка питательных веществ (поэтому пациенты получают указания ежедневно принимать мультивитамины), а также данные экспериментов на крысах о возможном увеличении риска колоректального рака.
Мы хотим, чтобы прогресс медицины был очевидным и однозначным, но такое происходит редко. Каждый новый метод лечения имеет белые пятна как для пациентов, так и для общества, и бывает трудно понять, что с ними делать. Возможно, другая, более простая и не столь радикальная, операция окажется эффективной против ожирения. Возможно, удастся создать таблетку для похудения, над которой давно бьются ученые. На сегодняшний день шунтирование желудка — единственный метод, в действенности которого мы уверены. Не на все вопросы удалось ответить, но за ним стоит больше десяти лет исследований. Поэтому мы идем вперед. В больницах по всей стране создаются центры оперативного лечения ожирения, заказываются усиленные операционные столы, обучаются хирурги и вспомогательный персонал. В то же время все надеются, что однажды будет открыто нечто новое и лучшее и то, что мы делаем сейчас, станет ненужным.
Напротив меня в кабинке гриль-бара Винс Каселли отодвигает тарелку с салатом «Цезарь», съев лишь половину. «Не хочется», — говорит он и добавляет, что благодарен нам за это. Каселли не жалеет, что сделал операцию. По его словам, она вернула ему жизнь. Однако, хотя выпито немало и время довольно позднее, мне ясно, что ему до сих пор не по себе.
«У меня была серьезная проблема, и мне пришлось пойти на серьезные меры, — объяснил он. — Думаю, меня лечили самым лучшим методом, существующим на сегодняшний день. Но я все же беспокоюсь, хватит ли этого на всю жизнь, или однажды я опять вернусь к тому, с чего начал, если не хуже?» Винс помолчал, уставившись в стакан, затем поднял прояснившийся взгляд: «Что ж, такой мне выпал жребий. Я не стану беспокоиться из-за того, над чем не властен».
Часть III
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Последнее движение скальпеля
Ваш пациент умер. Собрались родственники. Последнее, о чем вы должны спросить, — аутопсия. Как вы намерены это сделать? Можно спросить как бы между прочим, словно это самая обычная вещь в мире: «Ну что, вскрытие делаем?» Можно твердо, голосом сержанта Джо Фрайдея[11]: «Если у вас нет категорических возражений, мэм, мы должны провести аутопсию». Или подчеркнуто отстраненно: «Прошу прощения, но я обязан задать этот вопрос. Хотите ли вы, чтобы было сделано вскрытие?»
Единственное, что недопустимо в наше время, — это недомолвки. У меня была 80-летняя пациентка, решившая перестать водить автомобиль и сбитая автомобилем — за рулем которого сидел еще более престарелый водитель — по дороге на автобусную остановку. Она получила вдавленный перелом черепа и церебральное кровотечение и, несмотря на операцию, через несколько дней скончалась. Весенним днем, после того как пострадавшая испустила последний вздох, я стоял и скорбел у ее кровати рядом с рыдающими родственниками. Затем, со всей возможной деликатностью, избегая того самого ужасного слова, сказал: «Если вы не против, мы хотели бы провести обследование, чтобы убедиться в причине смерти».
«Вскрытие? — в ужасе спросил племянник, посмотрев на меня, словно на падальщика, нацелившегося на тело тетушки. — Разве она мало перенесла?»
Сегодня аутопсия пребывает в плачевном состоянии. Поколение назад это была обыденность, теперь уже редкость. Люди никогда не примирятся с мыслью о том, что их тело выпотрошат после смерти. Даже хирург не может избавиться от ощущения насилия над умершим.
Недавно я присутствовал при вскрытии 38-летней женщины, которую лечил, умершей после долгой борьбы с болезнью сердца. Прозекторская находилась в полуподвальном этаже, после прачечной и погрузочной, за металлической дверью без обозначений. Это было помещение с высоким потолком, облезающей со стен краской и коричневым кафельным полом с уклоном к центральному сливному отверстию. На высоком длинном столе стояли бунзеновская горелка и старомодные подвесные весы с большой шкалой, красной стрелкой и лотком снизу для взвешивания внутренних органов. На стеллажах вокруг были выставлены части головного мозга, кишечник и другие органы, залитые формалином в герметичных пластиковых контейнерах. Это место выглядело запущенным, убогим, несовременным. На расшатанной каталке в углу распростерлась моя пациентка, совершенно голая. Патологоанатомическая бригада только что приступила к работе.
Хирургические процедуры бывают жуткими, но вскрытие в чем-то еще хуже. Даже в самых устрашающих операциях — пересадках кожи, ампутациях — хирурги сохраняют элемент деликатности и эстетичности в своей работе. Мы знаем, что в телах, которые режем, пульсирует жизнь, что это люди, которые снова очнутся. В прозекторской, когда личность ушла и осталась только оболочка, деликатности не встретишь, и разница очевидна в мельчайших деталях, например уже в том, как тело перемещают с каталки на стол. В операционной мы перекладываем пациента в бессознательном состоянии, используя покрытый покрывалом роллборд, по тщательно разработанной схеме, включающей последовательность осторожных движений, чтобы на теле не образовалось ни единого синяка. Здесь, внизу, мою пациентку схватили за руку и за ногу и дернули. Ее кожа липла к прозекторскому столу из нержавейки, и стол облили водой из шланга, чтобы легче было тащить.
Молодая патологоанатом, стоявшая сбоку стола, разрешила ассистентке взять нож. Как многих ее коллег, врача привлекла в эту область деятельности не аутопсия как таковая, а высокотехнологичная изыскательская работа, которую нужно выполнять на тканях живых пациентов. Она охотно передоверила вскрытие ассистентке, в любом случае более опытной в этом отношении.
Ассистировала высокая худощавая женщина около 30 лет с прямыми рыжеватыми волосами, одетая в полный защитный костюм: маску, лицевой щиток, перчатки и синий пластиковый халат. Когда тело оказалось на столе, она подсунула 15-сантиметровый металлический брусок под спину между лопатками, чтобы голова запрокинулась, а грудная клетка выпятилась, затем взяла скальпель, большое лезвие № 6, и сделала огромный Y-образный разрез, который, пройдя по диагонали от обоих плеч, слегка изгибаясь вокруг грудей, сошелся на средней линии и продолжился вниз через живот к лобку.
Хирургам не привыкать вскрывать тела пациентов во время операций. Нетрудно дистанцироваться от человека на операционном столе, сосредоточившись на отдельных деталях анатомии и хирургических приемах. Но я не мог без дрожи смотреть, как работала ассистентка патологоанатома. Она держала скальпель как ручку, из-за чего резала кончиком, медленно и неровно. Хирургов учат стоять прямо, параллельно разрезу, держать нож между большим и остальными четырьмя пальцами, как смычок, и вести кромку лезвия единым мягким движением сквозь кожу точно на нужную глубину. Ассистентка прозектора практически пропиливала себе путь сквозь мою пациентку.
Извлечение внутренностей шло быстро. Ассистентка сорвала лоскуты кожи, электрической пилой перерезала обнажившиеся ребра с обеих сторон. Затем подняла грудную клетку, словно крышу автомобиля, раскрыла брюшную полость и изъяла основные органы, в том числе сердце, легкие, печень, кишечник и почки. Потом был вскрыт череп и извлечен мозг. Тем временем патологоанатом у заднего стола взвешивала и осматривала органы и брала пробы для исследования под микроскопом и всестороннего изучения.
Вместе с тем приходилось признать: пациентка, как ни странно, выглядела неповрежденной. Ассистентка следовала обычной процедуре и сняла черепную крышку за ушами женщины, где разрез был полностью скрыт волосами. Она аккуратно закрыла грудную и брюшную полости и туго зашила плетеной нитью из семи волокон. Моя пациентка выглядела почти так же, как раньше, только чуть менее объемной в средней части тела. (Согласно стандартному соглашению, больница может оставлять себе органы для тестирования и исследования. Эта обычная и давняя практика вызвала огромное противодействие в Британии, где СМИ обозвали ее «стриптизом внутренних органов», но в Америке по-прежнему принимается обществом.) Большинство семей проводят церемонию прощания с близкими в открытом гробу и после аутопсии. Мастера из похоронных бюро восстанавливают форму тела с помощью наполнителей, и заметить, что проводилось вскрытие, невозможно.
Тем не менее, когда наступает момент обращаться за разрешением к близким, невозможно отделаться от мрачных образов, которые давят на всех, и не в последнюю очередь на самих врачей. Стараешься сохранить взвешенное, объективное отношение, но все равно борешься с сомнениями.
Одним из первых пациентов, о вскрытии которого мне следовало договориться, был 75-летний бывший врач из Новой Англии, скончавшийся зимней ночью в моем присутствии. Геродотус Сайкс (имя слегка изменено) был доставлен в больницу на «скорой» с инфицированной разорвавшейся аневризмой брюшной аорты и экстренно прооперирован. Он перенес операцию и успешно восстанавливался, но через 18 дней его кровяное давление опасно снизилось, и из дренажной трубки в брюшной полости пошла кровь. «Должно быть, лопнула культя аорты», — сказал хирург. Остаточная инфекция, очевидно, ослабила линию шва в месте удаления инфицированной аорты. Мы могли снова сделать операцию, но шансы на выживание пациента были низкие, и хирург предположил, что больной не захочет снова ложиться под нож.
Он оказался прав. Никаких операций, сказал Сайкс. С него хватит. Мы вызвали миссис Сайкс, находившуюся у подруги примерно в двух часах езды, и она поехала в больницу.
Было около полуночи. Я сидел рядом с пациентом, который молча лежал, вытянув руки вдоль тела, и истекал кровью. В его глазах не было страха. Я представил, как его жена, перепуганная и беспомощная, мчится по шестиполосной Массачусетской магистрали, практически пустой в это время суток.
Сайкс дождался ее появления в 2:15. При виде мужа она стала мертвенно-бледной, но совладала с собой. Нежно взяла его руку в свои, сжала, и он ответил ей пожатием. Я оставил их наедине.
В 2:45 медсестра позвала меня в палату. Я прослушал пациента стетоскопом, повернулся к миссис Сайкс и сказал, что он умер. Несмотря на характерную новоанглийскую выдержку, свойственную и ее мужу, она тихо расплакалась, уткнувшись в ладони и став вдруг хрупкой и маленькой. Вошла приехавшая с ней подруга и увела ее.
По инструкции мы должны спрашивать у родственников всех умерших согласие на вскрытие с целью подтверждения причины смерти и выявления своих ошибок, и мне следовало обратиться с этим вопросом к вдове, раздавленной горем. Я же, естественно, рассудил, что это тот самый случай, когда аутопсия бессмысленна. Мы знали, что произошло, — персистентная инфекция, разрыв. Мы были в этом уверены. К чему его кромсать?
Я позволил миссис Сайкс уйти. Я еще мог остановить ее в двойных дверях реанимационного отделения или даже позвонить ей потом, но не сделал этого.
Оказывается, эта точка зрения повсеместно распространилась в медицине. Врачи так редко запрашивают вскрытие, что в последние годы Journal of the American Medical Association дважды счел необходимым объявить «войну отказу от аутопсий»{1}. Согласно самой свежей доступной статистике аутопсия проводится менее чем в 10 % случаев смерти; многие больницы вообще ее не делают. Эта тенденция просто поразительна.
Почти на всем протяжении XX в. врачи скрупулезно следовали правилу проведения аутопсии в большинстве случаев смерти — потребовались столетия, чтобы этого достигнуть{2}. Как рассказывает Кеннет Айзерсон в своем захватывающем альманахе «Прах к праху» (Death to Dust), врачи проводят вскрытия больше 2000 лет, но бóльшую часть истории они оставались редкостью. Если религия их разрешала (ислам, синтоизм, ортодоксальный иудаизм и Греческая православная церковь до сих пор относятся к аутопсии отрицательно), вскрытия выполнялись, главным образом, в интересах правосудия. Римский врач Антистий в 44 г. до н. э. провел одну из первых в истории судмедэкспертиз, исследовав останки Юлия Цезаря и описав 23 раны, в том числе последний смертельный удар в грудь. В 1410 г. сама католическая церковь заказала аутопсию папы римского Александра V с целью установления, не отравил ли его преемник. Свидетельства преступления обнаружены не были.
Первое задокументированное посмертное исследование в Новом Свете было, однако, выполнено в религиозных целях. Ему подвергли 19 июля 1533 г. на острове Эспаньола (ныне Гаити) сиамских близнецов женского пола, соединенных в нижней части груди, с целью определить, имели ли они одну душу или две. Близнецы родились живыми, и священник окрестил их как двух отдельных младенцев. Впоследствии возникли сомнения в справедливости его решения, и, когда «двойное чудовище» умерло в возрасте 8 дней, для устранения разногласий заказали аутопсию. Хирург, некто Йохан Камачо, обнаружил два практически полных набора внутренних органов, и было решено, что в этом теле жили и умерли две души.
Даже в XIX в., когда давно уже смягчились религиозные ограничения, люди на Западе редко позволяли врачам вскрывать родственников в медицинских целях. Вследствие этого аутопсии проводились по большей части подпольно. Одни врачи действовали на упреждение и вскрывали пациентов больниц сразу после смерти, прежде чем родственники воспрепятствуют. Другие ждали погребения, затем раскапывали могилы, лично или силами подручных, и эта деятельность продолжалась до XX в. Чтобы исключить подобные аутопсии, некоторые семьи ставили у могилы ночную стражу — отсюда понятие кладбищенская, то есть ночная, смена — либо заваливали гроб тяжелыми камнями. В 1878 г. одна компания в городе Колумбус в Огайо даже продавала «заминированные гробы» с самодельными бомбами, взрывавшимися, если их потревожить. Однако врачи оставались неустрашимыми. В «Словаре Сатаны» Амброза Бирса, изданном в 1906 г., «могила» определяется как «место, где лежат мертвые в ожидании, когда явится студент-медик».
К рубежу веков, однако, такие выдающиеся врачи, как Рудольф Вирхов в Берлине, Карл Рокитанский в Вене и Уильям Ослер в Балтиморе, стали добиваться общественной поддержки практики аутопсии. Они отстаивали вскрытие как инструмент исследований, уже использовавшийся для выявления случаев туберкулеза, разработки способа лечения аппендицита и обнаружения болезни Альцгеймера. Они указывали, что аутопсии предотвращают ошибки — не будь их, врачи не могли бы узнать, что поставили неверный диагноз. Более того, большинство причин смерти в то время было загадкой. Возможно, конец спорам положило то обстоятельство, что аутопсия способна дать ответы родственникам умершего, объяснить, почему завершилась жизнь дорогого им человека. Когда врачи гарантировали, что вскрытия будут проводиться в больницах со всем уважением к праху умерших, общественное мнение изменилось. Со временем медики, не проводившие вскрытия, стали вызывать подозрение. К концу Второй мировой войны аутопсия прочно утвердилась в качестве рутинной процедуры, сопровождающей любую смерть в Европе и Северной Америке.
Что вызвало закат этой традиции? По правде говоря, не отказы родственников. Судя по недавним исследованиям, они по-прежнему дают разрешение на вскрытие в 80 % случаев. Врачи, когда-то готовые похищать тела ради аутопсии, просто перестали к ним обращаться за разрешением. Некоторые объясняют это неблаговидными причинами, утверждая, что больницы стремятся сэкономить, отказываясь от аутопсий, поскольку страховые компании их не оплачивают, или что врачи скрывают свидетельства своей недобросовестности. Однако аутопсии приводили к расходованию средств и раскрывали врачебные ошибки и в те времена, когда были широко распространены.
Я думаю, что против аутопсии работает горделивая самоуверенность медицины XXI в. Я не спросил миссис Сайкс, можем ли мы провести вскрытие ее мужа, не из-за расходов или страха, что при этом обнаружится ошибка. Наоборот, я не считал вероятным обнаружение ошибки. Сегодня у нас есть МР-томографы, ультразвук, ядерная медицина, молекулярное тестирование и многое другое. Когда человек умирает, мы уже знаем почему. Нам не нужна аутопсия, чтобы это выяснить.
Во всяком случае, я был в этом уверен, пока один пациент не заставил меня изменить точку зрения.
Это был жизнерадостный бывший инженер за 60, на пенсии преуспевший в качестве художника. Я назову его мистер Весельчак, поскольку он таким и был. Пациент страдал васкулопатией — не имел, казалось, ни одного здорового сосуда. Из-за режима питания, наследственности или курения он перенес за последние десять лет инфаркт, две операции резекции аневризмы брюшной аорты, четыре шунтирования для восстановления кровообращения в ногах в обход закупоренных участков артерий и несколько процедур баллонной пластики для сохранения просвета твердеющих артерий. Тем не менее я ни разу не замечал у него мрачного отношения к собственной судьбе. «Не впадать же в тоску из-за этого», — говаривал пациент. У него были прекрасные дети, красивые внуки. «А уж жена…» — продолжал он. Она сидела тут же, у его постели, и закатила глаза, услышав это, а он расплылся в улыбке.
Мистер Весельчак поступил в больницу с раневой инфекцией ног, но скоро у него развилась застойная сердечная недостаточность, ставшая причиной скопления жидкости в легких. Ему становилось все труднее дышать, и нам пришлось перевести его в реанимацию, интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Двухдневная госпитализация обернулась двумя неделями. Благодаря приему диуретиков и замене кардиологических препаратов у больного восстановилась сердечная деятельность, легкие пришли в норму, и одним солнечным воскресным утром он полулежал в постели, дыша самостоятельно, и смотрел утренние программы по телевизору, свисающему с потолка. «Вы прекрасно поправляетесь», — сказал я и добавил, что к вечеру его переведут из палаты интенсивной терапии в обычную, а дня через два он, вероятно, будет дома.
Через два часа из громкоговорителей на верхнем этаже раздался сигнал экстренного вызова. Поднявшись в реанимационное отделение и увидев медсестру, делавшую компрессию грудной клетки мистеру Весельчаку, я выругался. Сестра объяснила, что он хорошо себя чувствовал, смотрел телевизор, вдруг выпрямился с ошеломленным видом и упал на постель без сознания. Сначала у него была асистолия — монитор показал отсутствие сердечного ритма, затем ритм появился, но не было пульса. Множество людей включились в работу. Я интубировал пациента, ввел ему жидкости и эпинефрин, отправил одного помощника позвонить домой его лечащему врачу-хирургу, другого — проверить результаты утренних анализов. Техник-рентгенолог с помощью переносного аппарата сделал рентгенограмму органов грудной клетки.
Я мысленно перебрал возможные причины проблем. Их было немного. Коллапс легких, но через стетоскоп я слышал звуки нормального дыхания, и легкие на рентгене выглядели нормально. Большая потеря крови, но брюшная полость не была вздутой, а состояние ухудшилось настолько быстро, что подозревать кровотечение не было оснований. Чрезвычайно высокая кислотность крови? Анализы в норме. Возможно, тампонада полости перикарда — кровотечение в околосердечную сумку. Я взял шприц с иглой длиной 15 см для спинномозговой пункции, проколол кожу под грудной костью и ввел иглу в перикард, но кровотечения не обнаружил. Оставался один вариант: эмболия легких — попавший в легкие сгусток крови мгновенно полностью перекрыл кровоток. С этим ничего нельзя сделать.
Я вышел и поговорил по телефону с лечащим врачом, затем лично с только что прибывшим старшим ординатором. Они согласились, что эмболия — единственное разумное объяснение. Я вернулся в палату, остановил реанимационные мероприятия и объявил: «Время смерти 10:23». Я позвонил его жене, рассказал, что ситуация изменилась к худшему, и попросил приехать.
Я был убежден, что этого не должно было случиться. Просмотрел историю болезни в поисках зацепок и кое-что нашел. В анализе пациента накануне свертываемость крови оказалась низкой — не критично, но врач реанимации решил скорректировать ее витамином К. Частое побочное действие витамина К — тромбообразование. Я был в бешенстве. Витамин был совершенно не нужен, его дали лишь для того, что поправить цифры в анализах. Мы со старшим ординатором набросились на врача и разве что не обвинили в убийстве пациента.
Прибывшую миссис Весельчак мы проводили в тихую комнату ожидания с умиротворяющей обстановкой. По ее лицу было видно, что она готова к худшему. Мы сообщили ей, что сердце ее мужа внезапно остановилось из-за легочной тромбоэмболии, и признали, что этому могло способствовать лекарство, которое ему дали. Я повел ее в палату, где еще лежал мистер Весельчак, и оставил там. Когда женщина вернулась, у нее тряслись руки, лицо было в слезах, но она неожиданно сказала нам спасибо. Благодаря нам он был рядом с ней все эти годы. Может, и так, но никто из нас не гордился случившимся.
Я задал необходимый вопрос. Сообщил, что мы хотели бы провести аутопсию и нужно ее согласие. Мы полагаем, что причина смерти нам известна, но аутопсия это подтвердит. Женщина задумалась и наконец сказала, что, если это нам поможет, она не возражает. Я, как и следовало, заверил ее в этом, хотя сам так не считал.
В то утро я не должен был ассистировать на операциях и пошел вниз наблюдать за вскрытием. Когда я пришел, мистер Весельчак уже лежал на прозекторском столе: руки раскинуты, кожа снята, грудная клетка выставлена на обозрение, брюшная полость вскрыта. Я надел халат, перчатки и маску и приблизился. Ассистент начал резать левые ребра электрической пилой, и сразу пошла кровь, темная и вязкая, как моторное масло. В растерянности я помог ассистенту снять грудную клетку. Левая сторона груди была заполнена кровью. Я прощупал легочные артерии в поисках затвердевшего тромба, вызвавшего эмболию, но не нашел его. Оказывается, эмболии не было. Мы удалили три литра крови, подняли левое легкое и сразу увидели ответ. Грудная аорта была почти в три раза больше нормы, и в ней зияла дыра больше сантиметра. У больного лопнула аневризма аорты, и он почти мгновенно истек кровью до смерти.
В последующие дни я извинился перед врачом, которому устроил нагоняй из-за витамина, и обдумал, как мы могли проглядеть диагноз. Я изучил старые рентгенограммы пациента и наконец разглядел смутное очертание того, что оказалось аневризмой. Никто из нас, включая радиолога, его не заметил, но даже если бы мы его увидели, то ничего не смогли бы сделать, пока не прошло несколько недель после лечения инфекции и сердечной недостаточности, а тогда было бы слишком поздно. Меня обеспокоило, однако, что, хотя я был совершенно уверен в причинах случившегося в тот день, на самом деле сильно ошибался.
Наибольшее замешательство вызвала последняя рентгенограмма грудной клетки, сделанная во время реанимации. Поскольку грудная клетка пациента была полна крови, я должен был увидеть хотя бы легкое затемнение слева, но на снимке, который я вновь изучил, ничего подобного не было.
Часто ли аутопсия выявляет серьезную ошибку в установлении причины смерти? Я бы сказал, что редко, самое большее, в 1−2 % случаев. Однако три исследования 1998 и 1999 гг. дали оценку почти в 40 %!{3} Согласно большому обзору исследований аутопсий{4}, примерно в трети случаев ошибочных диагнозов пациенты могли бы выжить, если бы получали правильное лечение. Джордж Лундберг, патолог и бывший редактор Journal of the American Medical Association, сделал, как никто, много для того, чтобы привлечь внимание к этим цифрам. Самый странный факт, отмеченный им: показатель ошибочных диагнозов, обнаруженных в результате аутопсии, не улучшается по крайней мере с 1938 г.
При современных достижениях диагностической визуализации и диагностики трудно принять, что мы не только ставим неправильный диагноз двум из пяти умерших пациентов, но и не совершенствуемся с течением времени. Чтобы проверить это, врачи из Гарварда провели простое исследование{5}. Они обратились к архивам своих больниц, чтобы узнать, часто ли при аутопсии выявляли ошибочный диагноз в 1960-е и 1970-е гг., до появления КТ, ультразвука, ядерного сканирования и других методов, а затем в 1980-е гг., когда они стали широко применяться, и не обнаружили никакого прогресса. В каждом из этих десятилетий врачи не заметили четверти смертельных инфекций, трети инфарктов и почти двух третей легочных эмболий у своих погибших пациентов.
В большинстве случаев причина была не в несовершенстве технологии, а в том, что врачи изначально рассматривали ошибочный диагноз. Вероятно, можно было сделать качественный анализ или сканирование, но врачи их просто не назначали.
В работе 1976 г. философы Сэмюэль Горовиц и Аласдер Макинтайр исследовали природу человеческих ошибок{6}. Почему, скажем, метеорологу не удается предсказать, когда ураган обрушится на побережье? Они назвали три возможные причины. Одна из них — неведение: возможно, научные знания о поведении ураганов ограниченны. Вторая — неумение: знаний достаточно, но метеоролог не в состоянии правильно их применить. Обе эти причины являются устранимыми. Мы верим, что наука преодолеет неведение, а обучение и техника справятся с неумением. Однако третий возможный источник ошибок, указанный философами, имеет неустранимый характер — это, в их терминологии, «неизбежная подверженность ошибкам».
По мнению Горовица и Макинтайра, ни наука, ни технология никогда не дадут нам некоторых видов знания. Когда мы ждем, чтобы наука вышла за рамки объяснения обычного поведения объектов (например, ураганов) и предсказала, как поведет себя конкретный объект (шторм, разыгравшийся в четверг у побережья Южной Каролины), то требуем невозможного. Никакой ураган не является точной копией любого другого урагана. Хотя все ураганы следуют предсказуемым правилам, на каждый из них постоянно действуют бесчисленные неконтролируемые, случайные внешние факторы. Чтобы точно знать, как будет вести себя конкретный ураган, необходимо исчерпывающее понимание мира во всех его частностях, иными словами — всеведение.
Это не значит, что предсказания невозможны; множество вещей полностью предсказуемы. Горовиц и Макинтайр приводят пример случайного кубика льда в огне. Кубики льда настолько просты и похожи друг на друга, что можно с полной уверенностью утверждать — лед растает. Но что, если мы пытаемся спрогнозировать процессы, протекающие в теле конкретного человека? На что больше похожи люди в этом отношении — на кубики льда или на ураганы?
Сейчас около полуночи. Я осматриваю в отделении неотложной помощи пациентку, и мне кажется, что она кубик льда — я думаю, что понимаю, что происходит у нее внутри, вижу и сознаю все свойства ее организма, влияющие на эти процессы. Я верю, что могу помочь ей.
Шарлотт Дювин (имя изменено), 49 лет, у нее два дня болит живот. Я начинаю осматривать ее с того самого момента, как вхожу в отсек, задернутый занавесками. Она сидит, закинув ногу на ногу, на стуле возле каталки, на которой ее доставили, и приветствует меня прокуренным голосом. Шарлотт не выглядит больной. Не хватается за живот. Не задыхается, когда говорит. У нее нормальный цвет лица — ни лихорадочного румянца, ни бледности. Каштановые волосы до плеч расчесаны, губы тщательно подкрашены красной помадой.
Она рассказывает, что боль началась спастически, как при метеоризме, но в течение дня стала острой и сфокусированной — больная указала это место в нижней правой части живота. Началась диарея. Шарлотт постоянно чувствует позывы к мочеиспусканию. Жара нет. Тошноты нет. Вообще-то ей хочется есть. Она говорит, что пару дней назад съела хот-дог в Фэнуэй-парке, а еще раньше ходила в зоопарк, посмотреть на экзотических птиц, и спрашивает, не в одном ли из этих обстоятельств все дело. У нее двое взрослых детей. Менструация была три месяца назад. Шарлотт выкуривает полпачки в день. Когда-то употребляла героин, но утверждает, что сейчас чистая. Переболела гепатитом. Никогда не оперировалась.
Я ощупываю ее живот и думаю, что это может быть что угодно: пищевое отравление, вирус, аппендицит, инфекция мочевых путей, киста яичника, беременность. Живот мягкий, без вздутия, имеется особо мягкая зона в нижней правой четверти. Я нажимаю на нее и чувствую, как под моими пальцами мышцы рефлекторно твердеют. На гинекологическом обследовании яичники кажутся нормальными. Я назначаю несколько лабораторных анализов и узнаю, что повышен уровень белых кровяных телец. Анализ мочи в норме. Тест на беременность отрицательный. Я назначаю КТ брюшной полости.
Я уверен, что смогу выяснить, что с ней не так, но, если задуматься, это странная уверенность. До сих пор я ни разу не видел этой женщины, однако предполагаю, что она похожа на всех остальных, которых я обследовал. Верно ли это? Честно говоря, никто из других моих пациентов не был 49-летней женщиной с гепатитом и наркоманией, недавно посетившей зоопарк, съевшей сосиску и явившейся на прием с жалобами на двухдневную слабую боль в правой нижней части живота. Тем не менее я в это верю. Каждый день мы берем людей на операции, вскрываем им брюшную полость и, в общем, знаем, что увидим там: не червяков, не крохотные стрекочущие механизмы и не лужицу синей жидкости, а кольца кишечника, печень с одной стороны, желудок — с другой, мочевой пузырь снизу. Конечно, есть различия — у кого спайка, у кого инфекция, — но мы накопили и каталогизировали их тысячами, составив статистический профиль человечества.
Я склоняюсь к аппендициту. Болит именно там. Время проявления симптомов, обследование и уровень белых кровяных телец соответствуют тому, что я видел раньше. Однако пациентка испытывает голод; она свободно передвигается, не выглядит больной, и это необычно. Я иду в помещение для чтения рентгеновских снимков и стою в темноте, над плечом радиолога вглядываясь в изображения брюшной полости Дювин, вспыхивающие на мониторе. Врач указывает на аппендикс, похожий на толстого червя в окружении серого слоистого жира, и уверенно говорит, что это аппендицит. Я звоню дежурному штатному хирургу и рассказываю, что мы обнаружили. Тот отвечает: «Заказывайте операционную». Мы будем делать аппендэктомию.
Казалось бы, все очевидно. У меня, однако, были аналогичные случаи, когда мы, разрезав пациента, выясняли что аппендикс в норме. Хирургическая операция сама по себе своего рода аутопсия. «Аутопсия» буквально означает «сам вижу», и, несмотря на все свои знания и технологии, когда мы смотрим, то часто не готовы к тому, что видим. Иногда выясняется, что мы просмотрели тревожный признак, совершили самую настоящую ошибку. Случается, что мы ошибаемся, хотя вроде бы все делаем правильно.
Идет ли речь о живом пациенте или о мертвом, невозможно что-то знать наверняка, пока не посмотришь. Даже в отношении мистера Сайкса я теперь гадаю, правильно ли мы наложили швы или кровотечение имело совершенно другую причину. К сожалению, врачи больше не задаются подобными вопросами. Не менее тревожно то, что и люди словно бы рады снять с нас ответственность. В 1995 г. Национальный центр медицинской статистики США перестал собирать статистику по аутопсиям{7}. Теперь мы не знаем даже, сколь редко они проводятся.
Заглядывая внутрь человеческого тела, я понял, что человек представляет собой нечто среднее между ураганом и кубиком льда: в одних отношениях — совершенная тайна, но в других — при достаточной научной проработке и тщательном исследовании — он полностью познаваем. Однако думать, что мы достигли пределов человеческого знания, так же глупо, как и рассчитывать, что когда-нибудь мы будем знать все. Нам еще есть куда расти, есть о чем спрашивать даже мертвых, есть чему учиться в ситуациях, когда наша примитивная уверенность оказывается ошибочной.
Загадка мертвых младенцев
С 1949 по 1968 г., один за другим, все дети, рожденные Мэри Ноу из Филадельфии, умерли{1}. Одна девочка была мертворожденной, другая умерла в больнице сразу после рождения, однако еще восемь скончались дома, совсем маленькими, в своих кроватках, где Ноу, по ее словам, находила их посиневшими и безжизненными или задыхающимися. Врачи, в том числе несколько самых уважаемых патологов своего времени, не могли найти объяснения восьми смертям в колыбели, хотя во всех случаях делалась аутопсия. Имелись серьезные подозрения в их насильственном характере, но найти доказательства не удалось. Позднее медицинскому сообществу пришлось признать, что каждый год по неизвестным причинам умирают тысячи вроде бы здоровых младенцев. Это явление было названо синдромом внезапной младенческой смерти (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS), которым и объяснялись подобные случаи.
Тем не менее восемь необъяснимых смертей младенцев в одной семье выбиваются из общего ряда. Мэри Ноу потеряла больше новорожденных детей, чем любая мать в истории. Мы ждем от врачей большего, чем бессодержательная фраза «причина смерти: не установлена» в отчете о вскрытии. Через 30 лет им, кажется, удалось найти ответ. 4 августа 1998 г. окружной прокурор Филадельфии Линн Абрахам привела новые медицинские свидетельства, позволяющие предположить, что Ноу, к этому времени ей уже было 70, задушила своих детей подушкой. «Наука объясняет старые нераскрытые дела», — сказала Абрахам представителям Associated Press. Она обвинила Ноу в восьми убийствах первой степени.
Заявление Абрахам озадачило меня. Откуда прокурор — или «наука» — знает, что эти смерти были убийствами, а не SIDS? Одной из самых притягательных сторон науки является способность, как нам кажется, устранять неопределенность, но в действительности она порождает столько же новых вопросов, сколько снимает старых. Едва ли эта ситуация была исключением. SIDS не болезнь, а скорее обозначение, данное врачами одной из величайших медицинских загадок нашего времени. Любая неожиданная смерть младенца, остающаяся необъяснимой после полного, но не позволившего сделать окончательный вывод посмертного исследования, определяется как SIDS. Обычно в таких случаях здорового младенца находят мертвым в кроватке. Никто не слышит, чтобы ребенок перед смертью плакал. Его могут обнаружить со сжатыми кулаками или пенистыми, с примесью крови, жидкими выделениями из носа и рта. Хотя 90 % внезапных младенческих смертей происходят ранее шестимесячного возраста, внезапно и неожиданно умереть могут и дети постарше.
Первоначальная теория, что новорожденные просто перестают дышать, была опровергнута. Имеется два многообещающих наблюдения: сон на мягкой поверхности и сон в положении на животе повышает риск внезапной младенческой смерти. Успешной кампанией, призывающей родителей укладывать детей в постель на спину или на бок, объясняют снижение SIDS на 38 % за четыре года{2}. Возможно, что SIDS — это маловероятный несчастный случай, когда новорожденный, не способный перевернуться, оказывается задушен собственным матрасом или одеяльцем. Результаты исследований поднимают вопрос о том, как, в принципе, достоверно отличить убийство путем удушения от SIDS, особенно в деле Ноу, где при аутопсии сразу после смерти не находили следов насилия, а от тел к тому моменту остались только кости. Судебно-медицинские эксперты и специалисты по насилию над детьми, с которыми я переговорил, подтвердили отсутствие конкретного результата аутопсии или нового анализа, позволяющего разграничить SIDS и удушение. Так на каком основании обвинили Ноу?
Вскоре после оглашения обвинения я обзвонил немало причастных к делу людей, чтобы задать им этот вопрос. Никто не ответил в открытую, но на условиях анонимности некое официальное лицо признало, что прямые улики в поддержку обвинения в убийстве отсутствуют. В октябре 1997 г., после того как репортер журнала Philadelphia начал запрашивать информацию для своей статьи о детях Ноу, следователи по делам об убийствах решили возобновить дело. Они обратились в службу судмедэкспертизы Филадельфии с запросом о повторном рассмотрении результатов аутопсий, что на деле свелось к прочтению имевшихся протоколов результатов вскрытия (причем одного не хватало), свидетельств о смерти и отчетов о результатах расследования. Врачи не нашли ни физических признаков удушения, ранее не замеченных, ни красноречивых анализов крови или других тестов, оставленных без внимания. Как и их предшественники, патологоанатомы имели только восемь смертей младенцев в одной семье без признаков физических повреждений и собственные подозрения в адрес матери — единственного человека, присутствовавшего во время смерти каждого ребенка. Единственным отличием было то, что на сей раз врачи были готовы заявить, что повторяющаяся схема сама по себе свидетельствует о насильственном характере смертей.
В случаях насилия над детьми, как и во многих других вопросах, наука зачастую способна предоставить лишь косвенные улики. Иногда мы, врачи, находим прямые и убедительные свидетельства для диагноза: ожоги, которые могли остаться только от сигарет, синяки в форме вешалки-«плечиков», типичный ожог в форме носка, образующийся, если сунуть ногу в горячую воду{3}. Однажды я оказывал помощь плачущему двухмесячному мальчику с сильно ошпаренным лицом. Отец объяснил это тем, что случайно открыл кран горячей воды при купании, но, поскольку в форме ожога не прослеживались брызги, мы коллективно заподозрили насилие и сделали ребенку полный рентген тела в поисках других повреждений. Оказалось, у него от пяти до восьми переломов ребер и переломы обеих ног, давностью в несколько недель и свежие. Генетическое исследование и анализ содержания коллагена в хрящах исключили аномалии костей и метаболизма, которыми могли бы объясняться столь обширные повреждения. Это было однозначное свидетельство насилия, и мальчика забрали у родителей. Однако и тогда, как показало мое участие в судебном заседании в качестве эксперта, наше свидетельство не могло помочь установить, кто из них причинил вред малышу (лишь полицейское расследование позволило предъявить обвинение отцу, и присяжные дали ему тюремный срок за жестокое обращение с ребенком). В большинстве случаев очевидные физические признаки дурного обращения отсутствуют. Принимая решение о привлечении внимания департамента социального обеспечения или полиции к семье ребенка, мы обычно может опираться лишь на подозрительные сигналы общего характера. Например, по правилам Бостонской детской больницы любые синяки, рваные раны на лице или перелом трубчатой кости у младенца должны рассматриваться как свидетельство возможного насилия. Тем не менее это недостаточное основание для обвинения. В конечном счете врачи смотрят на родителей, и это намного информативнее любого физического признака.
Несколько лет назад моя годовалая дочь Хетти играла в детской, как вдруг мы услышали ее леденящий душу крик. Моя жена побежала туда и обнаружила ее лежащей на полу; правая рука изгибалась между локтем и запястьем, как будто там был лишний сустав. Насколько мы могли понять, Хетти пыталась забраться на диван-футон, ее рука застряла между планками, а Уокер, которому было два года, случайно ее толкнул. При падении она сломала кости предплечья. Когда я привез ее в больницу, три человека окружили меня, допытываясь: «Итак, как именно это произошло?» Я слишком хорошо понимал, что рассказ звучит подозрительно — падение без свидетелей, приведшее к серьезному перелому трубчатых костей. Как и я в случае травмы у любого ребенка, врачи искали несоответствия или непоследовательность в словах родителей. Родителям трудно не разозлиться и не возмутиться, когда врачи допрашивают их, будто полицейские, но, какого бы развития ни достигла медицина, в случае насилия нашим главным диагностическим тестом остаются вопросы.
В конце концов мне удалось развеять все сомнения. Дочери наложили розовый гипс, и я без проблем забрал ее домой, однако не могу не думать, что этому способствовало мое социальное положение. Как бы мы, врачи, ни старались быть объективными, когда принимаем решение, сообщать ли властям о конкретном случае, на нас неизбежно влияют социальные факторы. Мы знаем, например, что родители-одиночки почти в два раза, а бедные семьи в 16 раз чаще оказываются склонными к насилию. Мы знаем, что треть матерей, употребляющих кокаин, жестоко обращаются со своими детьми или пренебрегают ими. (Кстати, раса не является фактором риска.) Мы всегда учитываем социальный профиль родителей.
В случае Мэри Ноу социальные факторы также были в ее пользу. Она была замужем, принадлежала к среднему классу и пользовалась уважением. Но разве факт восьми смертей ничего не значит? Как сказал медицинский эксперт, участвовавший в возобновленных делах, повторив расхожую мудрость патологов: «Одна смерть от SIDS — это трагедия. Две — тайна. Три — убийство».
Истина, однако, заключается в том, что закономерность может выглядеть чертовски убедительной сама по себе, но этого недостаточно, чтобы устранить обоснованные сомнения. Вопреки мнению коллег, судмедэксперт из Питтсбурга Сайрил Уэчт предположил, что множественные смерти младенцев от неустановленных причин в одной семье необязательно означают убийство. Число смертей, безусловно, делает случай Ноу подозрительным, сказал он. В конце концов, сейчас эксперты считают, что внезапная смерть одного новорожденного не повышает вероятность гибели второго. Даже две смерти в одной семье, бесспорно, требуют расследования, однако, продолжил Уэчт, имелись случаи двух и трех необъяснимых младенческих смертей в одной семье, в отношении которых был сделан вывод, что убийство крайне маловероятно. В прошлом родителей младенцев, погибших в колыбели, безосновательно обвиняли в этих смертях. Что самое тревожное, мы даже не знаем точно, что такое SIDS. Возможно, мы свалили в кучу несколько разных заболеваний и объявили их одним синдромом. Может оказаться, что множественные смерти от естественных причин в одной семье возможны, хотя и очень редки.
Зачастую наука не может доказать даже приведшее к смерти насилие над ребенком, однако она не бессильна. Под давлением «медицинских» доказательств своей вины во время полицейского допроса Ноу заявила, что задушила четверых детей, но не помнит, что случилось с остальными. Ее адвокат немедленно оспорил достоверность и правомерность этого признания, полученного в ходе допроса, длившегося всю ночь. Однако 28 июня 1999 г. Мэри Ноу в суде по гражданским делам Филадельфии встала, опираясь на трость, и признала себя виновной в восьми убийствах второй степени. Ее 77-летний муж Артур, сидящий в зале суда, в замешательстве покачал головой.
В конечном счете иногда самые убедительные доказательства мы получаем не от науки, а от людей.
Чье это тело, в конце концов?
В первый раз я увидел пациента накануне операции и решил, что он умер. Джозеф Лазарофф (имя изменено) лежал в кровати: глаза закрыты, сорочка обтянула впалую грудь. Когда люди спят или даже находятся под наркозом и не дышат самостоятельно, вы не задаетесь вопросом, живы ли они. Они излучают жизнь, словно тепло. Она видна в тонусе мышцы плеча, в мягком изгибе губ, в цвете кожи. Когда же я потянулся к плечу Лазароффа, то вдруг замер с инстинктивным ощущением, что прикасаюсь к покойнику. Его кожа была совершенно ненормального цвета — мертвенно-бледная, словно вылинявшая. Щеки, глаза и виски ввалились, кожа на лице натянулась, как маска. Что самое странное, голова была приподнята над подушкой на 5 см, как будто уже началось мышечное окоченение.
«Мистер Лазарофф?» — окликнул я, и его глаза открылись. Он равнодушно посмотрел на меня, молчаливый и неподвижный.
Шел первый год моей хирургической ординатуры, в то время я работал в команде нейрохирургов. У Лазароффа был рак, распространившийся по всему телу, и ему назначили операцию по удалению опухоли позвоночника. Старший ординатор послал меня «подписаться» — получить подпись Лазароффа на окончательном согласии на операцию. Без проблем, ответил я, но теперь, глядя на этого хрупкого иссохшего человека, засомневался, верное ли это решение.
Я все о нем узнал из медицинской карты. Восемь месяцев назад он обратился к врачу с болью в спине. Сначала ничего подозрительного не обнаружилось, но через три месяца боль усилилась, и врач отправил пациента на сканирование, выявившее распространенный рак — множественные опухоли в печени, кишечнике и по всему позвоночнику. Биопсия показала, что это неизлечимая форма рака.
Лазароффу было лишь немногим больше 60 лет. Он давно работал в городской администрации. Иногда болел ангиной, и у него начинался диабет. Несколько лет назад овдовел, привык жить один и держался нелюдимо. Его состояние стремительно ухудшалось. За считаные месяцы больной похудел на 23 кг. По мере роста опухоли в брюшной полости его живот и мошонка наполнялись жидкостью, ноги отекали. Из-за боли и слабости пришлось оставить работу. Тридцатилетний сын приехал ухаживать за ним. Лазарофф круглосуточно принимал морфин против боли. Врачи сказали, что, возможно, ему осталось жить несколько недель, однако он оказался к этому не готов и продолжал рассуждать, что однажды вернется на работу.
Больной перенес несколько неудачных падений из-за неконтролируемой слабости ног. Началось недержание. Он снова обратился к онкологу. Сканирование показало метастазы, сдавливающие грудной отдел спинного мозга. Онколог направил его в больницу на курс радиотерапии, но эффекта не было. Пациент лишился способности двигать правой ногой, нижнюю часть тела парализовало.
У Лазароффа оставалось два варианта. Можно было подвергнуться операции на позвоночнике. Она не вылечила бы его. С операцией или без, человек прожил бы самое большее несколько месяцев, но это был последний шанс остановить дальнейшее разрушение позвоночного столба и, возможно, отчасти вернуть силу ногам и сфинктерам. Однако были серьезные риски. Нам придется пройти сквозь грудную клетку и сжать легкое только для того, чтобы добраться до позвоночника. Пациента ждало долгое, тяжелое и болезненное восстановление, а с учетом плохого состояния, не говоря о заболевании сердца в анамнезе, шансы перенести операцию и снова оказаться дома были малы.
Альтернатива состояла в том, чтобы ничего не делать. Лазарофф мог вернуться домой и получать паллиативный уход, который обеспечит ему комфорт и определенный контроль над своей жизнью. Неподвижность и недержание, безусловно, усугубятся, но он скончается мирно, в собственной постели, простившись с близкими.
Решение было за пациентом.
Это сам по себе поразительный факт. Лишь чуть более десяти лет назад решение принимали врачи — пациенты подчинялись. Доктора не интересовались желаниями и приоритетами больных и привычно утаивали информацию — подчас жизненно важную, например, какие лекарства те принимают, какое лечение получают и какой у них диагноз. Пациенты не имели права заглянуть в собственную историю болезни: врачи говорили, что она им не принадлежит. К ним относились как к детям, слишком хрупким и глупеньким, чтобы вынести правду, не говоря уже о принятии решения. И люди страдали из-за этого. Больных подключали к аппаратам, давали им лекарства и подвергали операциям, на которые те не согласились бы, а методы лечения, которым они отдали бы предпочтение, упускались из виду.
Мой отец вспоминает, что в 1970-х и большей части 1980-х гг. было принято, чтобы врач, к которому обращались с просьбой о вазэктомии, самостоятельно оценивал уместность этой операции не только по медицинским, но и по личным соображениям. Он регулярно отказывал в операции неженатым мужчинам, женатым, но бездетным или «слишком молодым». Задним числом отец не уверен, что всегда был прав: сегодня он ни за что бы так не поступил и даже не припоминает, чтобы в последние годы отказал в вазэктомии хотя бы одному пациенту.
Одной из причин революционного изменения способа принятия решений в медицине стала книга 1984 г. «Тихий мир врача и пациента» доктора и специалиста по этике из Йельского университета Джея Каца{1}. Это была разгромная критика традиционного процесса принятия решений в медицине, вызвавшая огромный резонанс. Кац утверждал, что медицинские решения могут и должны приниматься пациентами, которых они касаются, и подтверждал свою точку зрения реальными историями.
Одна из них произошла с Ифиджинией Джонс, 21-летней женщиной, у которой обнаружили злокачественное новообразование на ранней стадии в одной из грудных желез. Тогда, как и сейчас, у нее было два варианта: мастэктомия (удаление груди и лимфатических узлов в прилегающей подмышке) и облучение с минимальным хирургическим вмешательством (удаление только опухоли и лимфатических узлов). Выживаемость была одинаковой, но, если сохранить грудь, опухоль могла рецидивировать, в конечном счете сделав мастэктомию неизбежной. Хирург, к которому она обратилась, предпочитал мастэктомию и сообщил пациентке о своем решении, но во время подготовки к операции засомневался, стоит ли удалять грудь такой молодой женщине. Вечером накануне операции он поступил неожиданно: рассказал ей о вариантах лечения и оставил выбор за ней. Она выбрала вариант с сохранением груди.
Через некоторое время оба, пациентка и хирург, участвовали в дискуссии специалистов по поводу способов лечения рака груди. Их история вызвала бурный отклик. Хирурги практически единодушно ополчились против идеи предоставления пациентам права выбора. Один из них спросил: «Если врачам так трудно решить, какое лечение является наилучшим, как может решать пациент?» Однако, писал Кац, речь шла не о технической, а о личной стороне дела: что было важнее для Ифиджинии — сохранение груди или гарантия жизни без существенного риска повторного роста опухоли? Никакой врач не мог принять такое решение, только она. Тем не менее в подобных ситуациях врачи перехватывали инициативу, зачастую даже не интересуясь соображениями пациентов, и решали сами — возможно, под влиянием денег, профессиональных склонностей (например, хирурги отдают предпочтение операциям) и личных пристрастий.
Со временем медицинские школы склонились к позиции Каца. К моменту моего поступления, в начале 1990-х гг., нас учили видеть в пациентах людей, распоряжающихся собственной судьбой. «Вы работаете для них», — часто напоминали мне. До сих пор хватает врачей старой школы, пытающихся навязывать решение с высоты своего авторитета, но пациенты уже не хотят подчиняться. Большинство докторов, приняв всерьез мысль о том, что люди должны сами определять свою судьбу, описывают все варианты и сопутствующие риски. Отдельные врачи даже отказываются давать рекомендации, боясь оказать давление. Пусть больные задают вопросы, ищут информацию в интернете, обращаются за консультацией к другим специалистам — и сами принимают решение.
На деле, однако, ситуации не всегда однозначны. Оказалось, что и пациенты принимают плохие решения. Бывает, один вариант не слишком отличается от другого, но, видя, как человек совершает фатальную ошибку, станете ли вы покорно выполнять его желание? Господствующие сейчас в медицине взгляды отвечают на этот вопрос утвердительно. В конце концов, чье это тело?
Лазарофф захотел оперироваться. Онколога смутил его выбор, но она обратилась к нейрохирургу. Нейрохирург с блестящей репутацией, подтянутый и элегантный мужчина за 40, встретился с Лазароффом и его сыном в тот же вечер. Он подробно объяснил им, как велики риски и насколько скромен потенциальный выигрыш. Иногда ему казалось, сказал врач мне впоследствии, что пациент пропускает информацию об опасностях мимо ушей, а ведь в таких случаях он все называет своими именами: полная зависимость от аппарата искусственного дыхания из-за недостаточной функции легких, инсульт, смерть. Однако Лазарофф не хотел, чтобы его разубеждали. Хирург назначил операцию.
«Мистер Лазарофф, я хирург-ординатор, пришел обсудить с вами завтрашнюю операцию, — сказал я. — Вам сделают корпэктомию грудного отдела позвоночника и спондилодез». Он безучастно посмотрел на меня. «Это значит, что мы удалим опухоль, сдавливающую позвоночник, — объяснил я; его выражение не изменилось. — Мы надеемся, это помешает прогрессированию паралича».
«Я не парализован, — ответил он наконец. — Это операция нужна, чтобы меня не парализовало».
«Простите, я имел в виду, помешает возникновению паралича, — быстро поправился я; может, и правда, это лишь вопрос формулировки, ведь он еще мог шевелить левой ногой. — Мне только нужна ваша подпись на бланке согласия, чтобы завтра мы могли вас прооперировать».
«Информированное согласие» сравнительно недавнее нововведение. В нем перечислены все возможные осложнения, которые мы, врачи, можем себе представить (от легкой аллергической реакции до смерти), и, подписывая его, вы показываете, что принимаете эти риски. Это отдает желанием перестраховаться и бюрократизмом, и я сомневаюсь, что пациенты чувствуют себя сколько-нибудь лучше информированными, прочитав этот документ. Тем не менее для них это повод еще раз ознакомиться с рисками.
Нейрохирург уже подробно о них рассказал, и я лишь пробежался по основным моментам: «Мы просим вас подписать это, чтобы быть уверенными, что вы понимаете, чем рискуете. Хотя вы идете на эту операцию, чтобы сохранить свои физические возможности, она может быть безуспешной или вызвать паралич». Я старался говорить твердо, но не резко: «Может случиться инсульт или сердечный приступ, вы даже можете умереть». Я протянул ему бланк и ручку.
«Никто не говорил, что я могу от этого умереть, — сказал он дрожащим голосом. — Это моя последняя надежда. Вы говорите, что я умру?»
Я застыл, не зная, что ответить. В этот момент появился сын Лазароффа, назовем его Дэвид, в мятой одежде, с всклокоченной бородой, с наметившимся животиком. Настроение его отца резко изменилось, и я вспомнил из истории болезни, что Дэвид недавно заговаривал с ним о том, имеет ли смысл идти на отчаянные меры. «Не смей ставить на мне крест, — взъелся Лазарофф на сына. — Дай мне испробовать все возможное». Он выдернул у меня из рук бланк и ручку. Пристыженные, мы молча смотрели, как Лазарофф медленно и неуверенно выводит закорючку.
За дверями палаты Дэвид признался, что не уверен в правильности этого шага. Его мать долго пролежала в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, умирая от эмфиземы, и с тех пор отец часто говорил, что не хочет, чтобы с ним случилось нечто подобное. Теперь же он был полон решимости сделать «все возможное». Дэвид не смел спорить с ним.
На следующий день Лазароффа прооперировали. Под наркозом его повернули на левый бок. Торакальный хирург сделал длинный разрез, вскрывая грудную клетку спереди назад вдоль восьмого ребра, ввел реберный расширитель, раскрыл рану и установил раневой крючок, чтобы отвести в сторону и удержать спавшееся легкое. Заглянув в рану, можно было увидеть в задней части грудной клетки позвоночный столб. Тканевое образование размером с теннисный мяч обвивало десятый позвонок. Нейрохирург приступил к работе и стал тщательно отсекать опухоль от окружающих тканей. Через пару часов опухоль держалась лишь в том месте, где проросла в тело позвонка. Костными кусачками — специальным хирургическим инструментом — врач стал откусывать крупинки тела позвонка, словно бобер, медленно прогрызающий ствол дерева, и наконец удалил позвонок и вместе с ним опухоль. Чтобы восстановить позвоночник, нейрохирург заполнил оставшуюся пустоту тестообразным метакрилатом, самотвердеющим пластиком, и дождался, когда тот медленно затвердеет. Врач проверил искусственный позвонок зондом, места для этого было достаточно. Все заняло больше четырех часов, но давление на позвоночный столб было устранено. Торакальный хирург зашил грудную клетку Лазароффа, оставив выходящую наружу резиновую трубку, чтобы снова надуть легкое, и пациента увезли в палату реанимации.
В техническом отношении операция была успешной. Однако легкие Лазароффа не восстановились, и мы безрезультатно пытались снять его с аппарата искусственного дыхания. За следующие несколько дней легкие стали жесткими и фиброзными, вынуждая повышать давление при вентиляции. Мы старались держать больного под действием седативных препаратов, но, несмотря на это, он часто приходил в себя и с диким взглядом метался на кровати. Подавленный Дэвид дежурил у его постели. Последовательные рентгеновские снимки груди показывали, что легкие все сильнее повреждаются. В них скопились маленькие сгустки крови, и мы стали давать Лазароффу антикоагулянты, чтобы предотвратить образование новых. Затем началось слабое кровотечение, мы не знали точно, откуда, и пришлось почти каждый день делать переливание крови. Через неделю стала подниматься температура, но мы не смогли найти очаг инфекции. На девятый день после операции из-за высокого давления аппарата искусственной вентиляции в легких образовались мелкие отверстия. Пришлось разрезать грудь и вставить дополнительную трубку, чтобы не допустить коллапс легких. Поддержание жизни пациента требовало колоссальных усилий и расходов, результаты были удручающими. Стало очевидно, что наши старания бесплодны. Лазарофф умирал именно так, как не хотел умереть, притянутый ремнями к койке, под наркозом, с трубками во всех естественных отверстиях и нескольких дополнительных, на аппарате искусственного дыхания. На 14-й день Дэвид сказал нейрохирургу, что мы должны остановиться.
Нейрохирург пришел с этой новостью ко мне. Я отправился к Лазароффу в палату реанимации, один из восьми боксов, расположенных полукругом вокруг сестринского поста, каждый с плиточным полом, окном и сдвижной стеклянной дверью, отделявшей его от шума, но не от внимания медсестер. Мы с сестрой проскользнули за дверь. Я убедился, что Лазароффу вводится высокая доза морфина. Заняв свое место сбоку кровати, я низко склонился над ним и, на случай, если он меня слышит, сказал, что выну дыхательную трубку у него изо рта. Разрезал стяжки, фиксирующие трубку, отсоединил баллонную манжету, удерживающую ее в трахее, и вытащил трубку. Больной пару раз кашлянул, открыл глаза и почти сразу закрыл их. Сестра убрала отсосом слизь у него изо рта. Я выключил аппарат искусственной вентиляции легких, и внезапно в палате воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелыми судорожными вдохами. Мы смотрели, как он борется за воздух. Его дыхание замедлилось, превратилось в отдельные агонизирующие вдохи и прервалось. Я приложил стетоскоп к груди и слушал, как затухают удары сердца. Через 13 минут после отключения от аппарата я велел сестре записать, что Джозеф Лазарофф умер.
Я думаю, что Лазарофф сделал неправильный выбор. Не потому, однако, что умер так мучительно и ужасно. Хорошие решения иногда ведут к плохим результатам (иногда приходится отчаянно рисковать), а плохие — к хорошим («лучше быть везучим, чем умным», как любят говорить хирурги). Я считаю выбор Лазароффа неправильным, потому что он противоречил его же глубочайшим интересам — не тем, как понимал их я или любой другой человек, а в его собственном понимании. Было очевидно, что самое его страстное желание — жить. Он пошел бы на любой риск — даже смерти, — чтобы жить. Но мы объяснили ему, что можем предложить не жизнь, а лишь шанс восстановления минимальной функции нижней части тела на краткий остаток его дней ценой ужасных страданий и при колоссальном риске жалкой смерти. Однако Лазарофф нас не услышал: казалось, он уверовал, что, одолев паралич, одолеет и смерть. Некоторые люди способны объективно оценить, что стоит на кону, и решиться испытать удачу, согласившись на операцию, но, зная, как боялся Лазарофф повторить кончину жены, я не верю, что он принадлежал к их числу.
Не было ли, в таком случае, ошибкой даже сообщать ему о хирургическом варианте лечения? Кредо современной медицины сделало нас чрезвычайно чувствительными к требованию самостоятельности пациента, но до сих пор бывают моменты, причем чаще, чем мы готовы признать, когда врач должен убедить больного поступить так, как для него же будет лучше.
Это спорное утверждение. Люди с оправданными подозрениями относятся к тем, кто заявляет, что лучше них знает, в чем их благо. Однако хороший врач не может самоустраниться, когда пациенты принимают плохие или самоубийственные решения — решения, идущие вразрез с их самыми сокровенными чаяниями.
Я помню случай, имевший место в первые недели моей интернатуры. Я находился в отделении общей хирургии, и среди пациентов, за которых я отвечал, была женщина 50 с чем-то лет — буду звать ее миссис Маклохлин, — всего два дня назад перенесшая обширную операцию на брюшной полости. Разрез тянулся через весь живот, жидкости и обезболивающие поступали по внутривенному катетеру. Женщина восстанавливалась в соответствии с планом, но не хотела вставать. Я объяснил, почему для нее жизненно важно подниматься и двигаться: это снижает риск пневмонии, образования тромбов в венах ног и других опасных последствий. Ее было не убедить. Она измучена и не готова двигаться. Я спросил, сознает ли она, что серьезно рискует. Да, ответила миссис Маклохлин. Просто оставьте меня в покое.
В тот вечер во время обхода старший ординатор спросила меня, встала ли пациентка с постели. Я ответил, что она отказалась. Та заявила, что это непростительно, и потащила меня в палату миссис Маклохлин, где присела на краешек кровати и с дружелюбием сельского священника спросила: «Привет, как дела?» — поговорила с больной, взяла ее за руку и сказала: «Пора подниматься». И я увидел, как миссис Маклохлин встала, не колеблясь ни секунды, доковыляла до кресла, плюхнулась в него и сказала: «Знаете, не так уж это и трудно».
Я пришел в ординатуру, чтобы научиться быть хирургом. Я думал, это значит освоить набор определенных действий и приемов, использующихся при операциях или постановке диагноза. Оказалось, существовала еще и незнакомая для меня деликатная проблема — как отговорить пациентов от их решений, для чего иногда требуется отдельный комплекс приемов и методов.
Представьте, что вы врач. Вы находитесь в смотровом кабинете своей клиники — тесном помещении с флуоресцентными лампами, постером с картиной Матисса на стене, коробкой латексных перчаток на стойке и холодным, с мягкой поверхностью, смотровым столом посередине. Пациентка — женщина за 40, мать двоих детей, партнер в преуспевающей юридической конторе. Несмотря на обстоятельства и жалкую больничную сорочку, она умудряется держаться с достоинством. В ее груди не прощупываются новообразования или аномалии. Прежде чем прийти к вам, она сделала маммограмму, и вы читаете заключение радиолога: «Имеется едва заметная группа точечных кальцификатов в верхне-наружном квадранте левой груди, которая не выявлялась при предыдущем обследовании. Следует рассмотреть выполнение биопсии для исключения злокачественной опухоли». Перевод: появились тревожные признаки, это может означать рак груди.
Вы сообщаете пациентке новости. С учетом результатов вы считаете биопсию необходимой. Она тяжело вздыхает и каменеет: «К кому из вас ни обратишься, у каждого руки чешутся резать». Три раза за последние пять лет ежегодная маммограмма показывала область «подозрительных» кальцификатов. Трижды хирург приглашал ее в операционную и удалял подозрительную ткань. И все три раза микроскоп патолога показывал, что она доброкачественная. «Вы просто не можете вовремя остановиться, — заявляет она. — Что бы это ни было, всегда оказывается, что все в норме». Помолчав, она решает: «Никакой больше чертовой биопсии», — и встает, чтобы одеться.
Вы дадите ей уйти? Это вполне разумно. В конце концов, она совершеннолетняя. Биопсия вовсе не пустяк. По ее левой груди разбросаны шрамы, один почти 7,5 см длиной. Уже извлечено столько ткани, что левая грудь заметно меньше правой. Верно и то, что некоторые врачи слишком часто назначают биопсии, забирая ткань груди при самых неопределенных результатах. Часто пациентки правильно делают, настаивая на объяснениях и независимом мнении.
В то же время эти кальцификации не являются неопределенным результатом. Они действительно обычно — пусть и не всегда — свидетельствуют о раке, причем, как правило, на ранней и излечиваемой стадии. Сегодня, если власть над собственной жизнью не пустой звук, людям следует позволить делать ошибки, но, когда ставки высоки, а последствия неудачного выбора могут быть необратимыми, врачи не готовы самоустраняться. В этих случаях они склонны настаивать.
Итак, настаивайте. Пациентка вот-вот уйдет. Вы можете преградить ей путь и сказать, что она совершает огромную ошибку. Прочитать лекцию о раке. Указать, что три отрицательные биопсии вовсе не означают, что и четвертая будет отрицательной. И почти наверняка потерять ее. Ваша цель не доказать, что она не права. Цель — дать ей возможность передумать.
Я видел, как это делают хорошие врачи. Они не бросятся в атаку. Они возьмут паузу и подождут, когда женщина оденется. Пригласят ее в кабинет, чтобы поговорить в более располагающей и менее стерильной обстановке, где вместо жесткой кушетки удобные стулья, а вместо линолеума ковровая дорожка. Часто они не стоят над ней и не восседают, как на троне, за большим дубовым столом, а берут себе стул и садятся рядом. Как сказал мне один профессор хирургии, когда сидишь рядом с пациентом на одном с ним уровне, то перестаешь быть вечно спешащим властным врачом, которому некогда поговорить; пациенты испытывают меньшее давление и склонны поверить, что мы, возможно, на одной стороне в обсуждаемом вопросе.
Даже в этот момент многие врачи не хотят проявлять излишнее беспокойство и спорить. Некоторые могут завести, казалось бы, странную, почти формальную беседу с пациенткой, повторяя сказанное ею практически слово в слово: «Я понимаю вашу позицию. Всякий раз, как вы приходите на осмотр, мы находим что-нибудь для биопсии. Результаты оказываются нормальными, но мы снова и снова берем ткани на анализ». Многие врачи практически ничего больше не говорят, пока их не спросят. Назовите это хитростью или просто открытостью к пациенту, это, как ни странно, срабатывает в девяти случаях из десяти. Люди чувствуют, что их услышали, дали возможность высказать свои убеждения и опасения. Сейчас они могут начать, наконец, задавать вопросы, озвучивать сомнения, даже опровергать собственные рассуждения. Если это произошло, они склонны передумать.
Некоторые, однако, сопротивляются, и если врач убежден, что при этом они действительно подвергают себя опасности, то может позволить себе другую тактику. Он перечисляет, к кому намерен обратиться за подкреплением: «Давайте вызовем радиолога и спросим, что он лично думает?» Или: «Ваша семья тут рядом, в комнате ожидания. Почему бы не пригласить их?» Они могут дать пациенту время «подумать хорошенько», зная, что люди часто начинают колебаться и меняют свою точку зрения. Иногда врачи полагаются на постепенные перемены. Я видел, как доктор, пациент которого, имея болезнь сердца, не допускал и мысли о том, чтобы бросить курить, просто замолчал, дав тому осознать всю меру своего недовольства. Почти полная минута протянулась в тишине. Рядом с вдумчивым, заинтересованным, а порой и хитрым врачом лишь немногие пациенты рано или поздно не «сделают выбор» в пользу его рекомендаций.
Было бы ошибкой считать все это лишь проявлением искусного манипулирования со стороны врачей: когда пациент передает все полномочия врачу, тут может примешиваться еще что-то. Новая установка на автономию (право выбора) пациента не позволяет признать суровую правду: многие из них не хотят свободы, которую мы им предоставляем. Людям приятно, когда уважают их право на самостоятельное принятие решений, но осуществление этого права предполагает и возможность от него отказаться. Оказывается, многие пациенты предпочитают, чтобы медицинские решения принимал за них кто-то другой. Одно исследование показало, что, хотя 64 % обычных людей считают, что хотели бы выбирать метод лечения, если заболеют раком, но лишь 12 % пациентов, которым только что поставили этот диагноз, действительно выражают такое желание{2}.
Я лишь недавно понял, как это работает. Моя младшая дочь Хантер родилась на пять недель раньше срока с весом всего 1,8 кг и в возрасте 11 дней перенесла остановку дыхания. Она уже неделю находилась дома и хорошо развивалась, но в то утро выглядела раздраженной и возбужденной и у нее потекло из носа. Через 30 минут после кормления ее дыхание стало частым, после каждого вздоха слышалось тихое кряхтение. Внезапно Хантер перестала дышать. Моя жена в панике стала ее трясти, Хантер очнулась и задышала снова. Мы помчались в больницу.
Через 15 минут мы были в большой ярко освещенной смотровой отделения неотложной помощи. В кислородной маске состояние Хантер не вполне стабилизировалось: она по-прежнему делала больше 60 вдохов в минуту и, казалось, тратила на это все силы, но уровень оксигенации восстановился, и она дышала сама. Врачи не могли с уверенностью установить причину ее состояния. Это мог быть порок сердца, бактериальная инфекция, вирус. Они сделали рентгеновский снимок и ЭКГ, взяли на анализ кровь, мочу и спинномозговую жидкость. Врачи подозревали — как оказалось, правильно — обычный вирус дыхательных путей, с которым не справились ее слишком маленькие незрелые легкие, но результатов посева нужно было ждать около двух дней. Ребенка положили в отделение интенсивной терапии. Ночью она начала сдавать. У Хантер было несколько случаев апноэ — периодов продолжительностью до 60 секунд, когда она переставала дышать, сердцебиение замедлялось, девочка становилась бледной и пугающе неподвижной, но она возвращалась в норму, всякий раз самостоятельно.
Нужно было принять решение: следует ли интубировать ее и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких или подождать, не сможет ли она поправиться без этого. Оба пути имели свои риски. Если не интубировать сейчас же, в контролируемых условиях, то при следующем кризисе (например, если она не придет в себя после очередного апноэ) придется выполнять экстренную интубацию, что очень непросто, когда ребенок такой крохотный. Кто-то может промедлить, дыхательная трубка может попасть не туда, врачи могут случайно повредить дыхательные пути и вызвать их коллапс, что чревато повреждением мозга и даже смертью из-за недостатка кислорода. Вероятность катастрофы была мала, но реальна, я сам такое видел. С другой стороны, без крайней нужды не станешь подключать к аппарату никого, тем более такого маленького ребенка. Часто развиваются серьезные и разрушительные последствия, например пневмония или отказ легких, как у Лазароффа. Как могут подтвердить люди, которых держали на одном из этих агрегатов, это крайне неприятно: аппарат вкачивает и выкачивает из вас воздух с пугающей силой, при этом пересыхает рот, трескаются губы. Вам вводят успокоительные препараты, но у лекарств есть собственные нежелательные эффекты.
Итак, кто же должен был принять решение? Во многих смыслах я был идеальным кандидатом. Будучи отцом, я бы оценил риски с осмотрительностью, не доступной никакому медицинскому работнику. Будучи доктором, я понимал все возможные осложнения. Кроме того, я знал, как часто такие проблемы, как несогласованность действий, переутомление и просто гордыня, толкают врачей к неудачному выбору.
Тем не менее, когда бригада врачей пришла спросить у меня, интубировать ли Хантер, я захотел, чтобы решали они, доктора, которых я никогда прежде не видел. Специалист по этике Джей Кац и его коллеги осуждающе называют подобное желание «регрессией в детство», но мне это суждение кажется бездушным. Неопределенность ситуации была поистине ужасной, и я не мог перенести мысль, что промахнусь с выбором. Даже выбрав то, что считаю наилучшим для дочери, я не смогу жить с чувством вины, если что-то пойдет не так. Существует точка зрения, что родителей нужно заставлять брать на себя ответственность за решения, но это, по сути, также является проявлением жесткого патернализма со стороны врачей. Мне требовалось, чтобы ответственность приняли на себя врачи, лечившие Хантер: им легче было бы перенести последствия, как хорошие, так и плохие.
Я предоставил решать врачам, что они и сделали. Мне сообщили, что Хантер не станут подключать к аппарату, и группа усталых людей, обвешанных стетоскопами, двинулась к следующему пациенту. Однако один вопрос не давал мне покоя: если я хотел, чтобы было принято наилучшее для Хантер решение, следовало ли мне отказываться от права на самостоятельный выбор, добытого с таким трудом? Карл Шнайдер, профессор права и медицины Мичиганского университета, недавно издал книгу «Автономия на практике»{3}, в которой изучил множество исследований и данных о принятии решений в медицине, даже с привлечением систематического анализа воспоминаний пациентов. Он обнаружил, что состояние больных часто не способствует правильному выбору: многие из них измучены, раздражены, угнетены или эмоционально раздавлены, в этот момент они нередко борются с болью, тошнотой и слабостью и едва ли способны обдумывать жизненно важный для них выбор. Мне это суждение показалось убедительным. Я даже не был пациентом, но сам мог лишь сидеть рядом с Хантер и смотреть на нее, беспокоясь или пытаясь отвлечься имитацией деятельности. У меня не осталось ни сосредоточенности, ни сил взвешивать варианты лечения.
Шнайдер установил, что врачи, в силу меньшей эмоциональной вовлеченности, способны осмыслять неопределенности, не отвлекаясь на страх и привязанность. Они действуют в рамках научной культуры, дисциплинирующей принятие решений. У них есть преимущество «групповой рациональности» — норм, основанных на научной литературе и отточенных практических приемах. Они имеют, что очень важно, соответствующий профессиональный опыт. Хотя я сам врач, в отличие от ее лечащих врачей, у меня не было опыта лечения при таких состояниях, как у Хантер.
В конце концов Хантер обошлась без искусственной вентиляции легких, хотя выздоровление шло медленно, что подчас внушало страх. В какой-то момент, менее чем через 24 часа после перевода из реанимации в общее отделение, ее состояние резко ухудшилось, и девочку пришлось поспешно возвращать в палату интенсивной терапии. Она провела там десять дней и две недели — в больнице, но вернулась домой совершенно здоровой.
Быть врачом — это искусство, но и быть пациентом — в той же мере искусство. Нужно мудро выбирать, когда подчиниться, а когда настаивать на своем. Даже если пациенты решают ничего не решать, они все равно задают вопросы своим врачам и требуют объяснений. Пусть я отдал всю власть в руки лечащих врачей Хантер, но потребовал, чтобы мне сообщили четкий план действий в случае катастрофического развития событий. Позднее я стал беспокоиться, что они слишком долго не начинают ее кормить — ей не давали никакой пищи больше недели, и я донимал врачей вопросами о причинах. На одиннадцатый день госпитализации Хантер отключили от оксиметра, я встревожился и стал допытываться, что плохого в том, чтобы продолжать следить за уровнем кислорода. Не сомневаюсь, что вел себя излишне настойчиво, хотя временами был не прав. Надо просто делать все, что можешь, отслеживая действия врачей и медсестер, а также собственное состояние, старясь при этом быть не слишком пассивным и не слишком напористым ради своего же блага.
И все же дилемма остается: если и врачи, и пациенты подвержены ошибкам, кто должен принимать решение? Нам нужны правила, поэтому мы договорились, что окончательное решение за больным. Но подобное непреложное правило идет во вред отношениям врача и пациента и вразрез с реалиями медицинской помощи, требующими быстро принимать сотни решений. Женщина рожает. Должен ли врач ввести гормоны для усиления схваток? Проколоть околоплодный пузырь? Сделать эпидуральную анестезию? Если да, то в какой момент родов? Нужны ли антибиотики? Как часто мерить кровяное давление матери? Накладывать ли щипцы? Делать ли эпизиотомию? Если процесс затягивается, нужно ли кесарево сечение? Врач не должен принимать все эти решения самолично, как и пациентка. О чем-то они должны договариваться друг с другом, один на один, в индивидуальном порядке.
Многие специалисты по этике ошибаются, продвигая автономию пациента как своего рода высшую ценность в медицине, вместо того чтобы признать, что это лишь одна из ценностей. Шнайдер обнаружил, что больше всего больные хотят от врачей не автономии как таковой, а компетентности и доброты. Сегодня доброта часто подразумевает уважение автономии пациентов, гарантию того, что они имеют право на жизненно важный выбор. Но она также может проявляться в том, чтобы принять на себя тяжелое решение, если пациент этого избегает, или направить его в нужную сторону, когда он готов принять ответственность на себя. Даже если больные действительно хотят самостоятельно принимать решения, бывают моменты, когда сострадание к ним требует оказать на них сильное давление: вынудить согласиться на операцию или лечение, внушающие страх, или отказаться от метода, на который они уповают. У многих специалистов по этике подобные рассуждения вызывают отторжение, и медицина продолжает биться над вопросом о том, каким образом пациентам и врачам следует принимать решения. По мере все большего усложнения и технологизации этой области деятельности подлинной задачей становится не запретить патернализм, а сберечь доброту.
Опишу еще один случай, также времен моей интернатуры. Пациент — допустим, мистер Хоуи, под 40 лет, полный, лысый, до странности тихий и застенчивый. Когда он говорил, мне хотелось прибавить звук, и я думал, что Хоуи работает в одиночку, скажем бухгалтером или программистом. Он лежал в больнице после операции по поводу тяжелого воспаления желчного пузыря. Когда бы я его ни видел, у него был тоскливый взгляд пленника. Больной ни о чем не спрашивал и не мог дождаться выписки.
Поздно вечером в субботу, дня через три после операции, поступил вызов от медсестры. Она сообщила, что у Хоуи сильно повысилась температура, он задыхается и плохо выглядит.
Я обнаружил, что пациент обильно потеет, лицо у него горит, глаза расширены. Он сидел, наклонившись вперед, опираясь на толстые руки, и тяжело дышал. Несмотря на кислородную маску и максимальную подачу, пульсоксиметр показывал, что уровень кислорода в его крови едва дотягивает до нижней границы нормы. Пульс зашкаливал далеко за 100 ударов в минуту, а кровяное давление было слишком низким.
Его жена, хрупкая бледная женщина с гладкими черными волосами, стояла у постели, перекатываясь с носка на пятку и обхватив себя за плечи. Изо всех сил стараясь выглядеть уверенным, я обследовал мистера Хоуи, взял кровь на анализ и посев и велел медсестре ввести ему болюс жидкости внутривенно, затем вышел в коридор и вызвал на помощь К., одну из старших ординаторов.
Когда она перезвонила, я посвятил ее в детали и сказал, что, по-моему, у пациента сепсис. Иногда бактериальная инфекция проникает в кровоток и вызывает мощный системный ответ: сильный жар и расширение периферийных сосудов тела, из-за чего кожа пылает, давление падает, сердечный ритм ускоряется. После операции на брюшной полости обычной причиной этого является инфекция хирургической раны, но рана не была красной, горячей или чувствительной, и живот у него не болел. Однако легкие, когда я прослушал их стетоскопом, звучали как посудомоечная машина. Возможно, причиной ухудшения состояния больного была пневмония.
К. сразу же пришла. Ей едва исполнилось 30 лет. Коротко стриженная блондинка почти под 1,8 м ростом, она отличалась спортивным сложением, неисчерпаемой энергией и неумолимой решительностью. К. бросила взгляд на Хоуи и шепотом приказала сестре держать наготове у кровати набор для интубации. Я начал давать больному антибиотики, введение жидкостей немного улучшило его давление, но он все еще получал кислород на максимуме и тяжело боролся за каждый вздох. Ординатор склонилась над ним, положила ему руку на плечо и спросила, как он себя чувствует. Хоуи не сразу смог ответить: «Хорошо», — глупый ответ на глупый вопрос, но разговор завязался. Она объяснила ему ситуацию: сепсис, вероятно пневмония, и весьма возможно, что, прежде чем он пойдет на поправку, ему станет хуже. Антибиотики решат проблему, но не сразу, а больной быстро теряет силы. Чтобы помочь ему пережить это время, потребуется погрузить его в сон, интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
— Нет, — выдохнул Хоуи и сел прямо. — Не… хочу… аппарат.
Это ненадолго, заверила К., возможно, на пару дней. Он будет получать успокоительное, чтобы все это время ему было как можно более комфортно. Кроме того, — она хотела убедиться, что пациент понял, — без искусственной вентиляции он умрет.
Он затряс головой: «Никакого… аппарата!»
Мы были уверены, что пациент принял неправильное решение — из-за страха или, возможно, непонимания. Благодаря антибиотикам и продвинутой технике у нас были все основания полагать, что больной полностью выздоровеет. Хоуи было ради чего жить: он молод и в целом здоров, имеет жену и ребенка. Очевидно, он думал так же, поскольку достаточно беспокоился о своем благополучии, чтобы согласиться на операцию. Если бы не мгновенный ужас, пациент принял бы предложенное лечение. Могли ли мы быть уверены, что правы? Нет, но, если мы были правы, можно ли было дать ему умереть?
К. посмотрела на жену Хоуи, раздавленную страхом, надеясь привлечь ее в союзницы, и спросила, как, по ее мнению, должен поступить муж. Та разрыдалась: «Я не знаю, не знаю! Вы можете его спасти?» Это была последняя капля, она выбежала из палаты. Еще несколько минут К. пыталась убедить Хоуи. Когда стало ясно, что до него не достучаться, она вышла позвонить его лечащему врачу-хирургу домой, после чего вернулась. Скоро Хоуи действительно выдохся и откинулся на постель, бледный, с мокрыми от пота волосами, прилипшими ко лбу. Цифры на мониторе показывали, как падает уровень кислорода. Он закрыл глаза и постепенно впал в бессознательное состояние.
Тогда К. начала действовать. Она опустила изголовье кровати Хоуи так, что он оказался лежащим горизонтально, послала медсестру получить транквилизатор и ввести его больному через внутривенный катетер. К. прижала к его лицу маску с мешком и стала закачивать ему в легкие кислород. Затем я подал ей инструменты для интубации, и она с первой попытки ввела длинную дыхательную трубку из прозрачного пластика ему в трахею. Мы отвезли кровать с Хоуи к лифту и доставили его на несколько этажей вниз, в реанимационное отделение.
Позднее я нашел его жену и объяснил, что теперь он подключен к аппарату искусственного дыхания. Она ничего не сказала и пошла проведать его.
В течение следующих 24 часов состояние легких больного значительно улучшилось. Мы снизили подачу седативных препаратов, и он очнулся, по-прежнему дыша с помощью аппарата. Хоуи открыл глаза, с дыхательной трубкой во рту, но протеста не выразил.
«Сейчас я вытащу трубку у вас изо рта, хорошо?» — сказал я. Он кивнул. Я перерезал крепления и отсоединил баллонную манжету, удерживающую трубку на месте, затем вытянул ее, и Хоуи несколько раз надрывно кашлянул. «У вас была пневмония, — объяснил я, — но теперь все в порядке».
Мгновение я с тревогой ждал его реакции. Он тяжело сглотнул, содрогаясь от боли, затем посмотрел на меня и хриплым, но твердым голосом сказал: «Спасибо».
Случай с красной ногой
Ассистируя одному из хирургов-профессоров нашей клиники при приеме пациентов, я удивился, как часто ему приходится отвечать на их вопросы: «Я не знаю». Врачи не любят произносить эти три слова. Предполагается, что мы можем ответить на любой вопрос. Мы бы и сами этого хотели, но среди нас нет ни одного, кому ни разу не пришлось признаться в своем незнании.
Пациент, явившийся на осмотр через две недели после пластики брюшной грыжи, удивлялся: «Почему у меня болит рядом с раной?»
Пациентка, которой месяц назад сделали шунтирование желудка, недоумевала: «Почему я до сих пор не похудела?»
Пациентка с большой опухолью поджелудочной железы просила: «Вы можете ее удалить?»
И все они услышали: «Я не знаю».
Тем не менее у врача должен быть план. Поэтому пациенту после герниопластики доктор сказал: «Приходите через неделю, возможно, боль пройдет». С желудочным шунтом: «Все наладится, приходите через месяц». Раковой больной: «Мы можем попытаться». И хотя другой хирург отказался (судя по сканограмме, операция бесполезна и рискованна, пояснил коллега) а сам профессор считал шансы на успех в лучшем случае малыми, он и пациентка (мать несовершеннолетних детей, которой не было и 50) решили рискнуть.
Главная проблема медицины — из-за которой так мучительно быть пациентом, так трудно быть врачом и так досадно быть частью общества, оплачивающего счета первого и второго, — это неопределенность. Сегодня, учитывая все наши знания о людях, болезнях и о том, как диагностировать и лечить их, трудно постичь, трудно осознать, насколько глубока эта неопределенность. Однако, будучи врачом, вы скоро убеждаетесь, что основная проблема при лечении людей заключается в том, что вы чаще имеете дело с неизвестным, чем с известным. Неопределенность — основное состояние медицины, и мудрость, как пациентов, так и врачей, проявляется в том, как они с ней справляются.
Вот история одного решения, принятого в условиях неопределенности.
Был июньский вторник, два часа дня, середина моей семинедельной практики в качестве старшего хирурга-ординатора в отделении неотложной помощи. Я только что принял больного с инфекцией желчного пузыря и хотел пойти перекусить, но один из врачей отделения перехватил меня и поручил осмотреть 23-летнюю Элеанор Брэттон с красной раздувшейся ногой (имена пациентов и коллег изменены). «Скорее всего, это просто флегмона [обычное кожное воспаление], но тяжелая», — сказал он. Он начал вводить ей антибиотики внутривенно и направил в терапию, но хотел, чтобы я убедился, что в этом случае нет ничего «хирургического» — абсцесса, который нужно вскрыть, или чего-то подобного: «Вы не откажетесь взглянуть?» Мне оставалось лишь вздохнуть. Да, разумеется.
Пациентка находилась в смотровом боксе — более спокойном отсеке отделения неотложной помощи, где она могла под капельницей с антибиотиками подождать, пока ей не найдут место в палате. Девять коек бокса располагались полукругом, разделенные тонкими синими занавесками; я нашел больную на койке № 1. Подтянутая, спортивная, она выглядела почти подростком: блондинистый «хвостик», золотые ногти, глаза прикованы к телеэкрану. Никаких признаков серьезного заболевания. Больная удобно лежала с приподнятым изголовьем, натянув одеяло до груди. Я взглянул на ее карточку: хорошие жизненные показатели, ни высокой температуры, ни медицинских проблем в прошлом. Я вошел и представился: «Привет, я доктор Гаванде, старший хирург-ординатор. Как вы себя чувствуете?»
«Вы из хирургии?» — Элеанор взглянула на меня с удивлением и тревогой в глазах. Я постарался успокоить ее. Врач отделения неотложной помощи «просто на всякий случай» поручил мне убедиться, что это не более чем флегмона. Я лишь задам несколько вопросов и осмотрю ногу. Не расскажет ли она, как было дело? Мгновение девушка молчала, пытаясь оценить ситуацию, вздохнула и начала рассказывать.
На выходные Элеанор приехала в родной Хартфорд в Коннектикуте, на свадьбу друзей (год назад она с подругами переехала в Бостон, закончив колледж в Итаке, и устроилась на работу в преуспевающую юридическую фирму, где занималась планированием конференций). Свадьба удалась, она сбросила туфли и отплясывала всю ночь, но на следующее утро нога начала саднить. На тыльной стороне стопы у нее был недельной давности волдырь, натертый дешевыми босоножками, кожа вокруг него покраснела и припухла. Сначала Элеанор не придала этому значения. Ее отец сказал, что это похоже на укус пчелы либо ей отдавили ногу во время танцев. Однако во второй половине дня, когда она со своим парнем возвращалась в Бостон, нога начала ее «буквально убивать». Краснота распространилась, ночью температура поднялась до 39,5. Каждые несколько часов она принимала ибупрофен, который справился с температурой, но не с усиливающейся болью. К утру краснота дошла до середины икры, стопа так распухла, что едва втиснулась в шлепанец.
Соседка по комнате помогла Элеанор доковылять до терапевта, которая диагностировала флегмону. Флегмона — это самая обычная кожная инфекция, возникающая, когда зауряднейшие бактерии из окружающей среды проникают сквозь кожный барьер (через порез, колотую рану, волдырь и прочее) и начинают размножаться. Кожа становится красной, горячей и болезненной, самочувствие ухудшается, часто поднимается температура, и инфекция легко распространяется по коже — все, как в случае Элеанор. Врач сделала рентген и убедилась, что кость не инфицирована, ввела Элеанор дозу антибиотика внутривенно, сделала прививку от столбняка и выписала антибиотики в таблетках на неделю. Обычно этого достаточно для лечения флегмоны, но не всегда, предупредила она. Несмываемым черным маркером доктор отметила границу покраснения на икре Элеанор и велела позвонить, если краснота распространится за линию. В любом случае ей следовало прийти на следующий день провериться на наличие инфекции.
На следующее утро, то есть сегодня, Элеанор увидела, что краснота пересекла черную линию, частично распространившись по бедру; боль стала еще сильнее. Она позвонила врачу, и та велела ехать в больницу. Нужна госпитализация для полного курса лечения антибиотиками внутривенно.
Я спросил Элеанор, есть ли гной или другие выделения. Нет. На коже образовались язвы? Нет. Дурной запах или почернение кожи? Нет. Была ли снова температура? Нет, только два дня назад. Я взвесил эти данные. Все говорило за флегмону, но что-то вызывало у меня беспокойство, заставляя насторожиться.
Я попросил показать мне воспаление. Элеанор откинула покрывало. Правая нога выглядела прекрасно. Левая была ярко-красной, как кусок сырого мяса. Равномерная краснота сплошь покрывала стопу от носка, лодыжку, икру, пересекая проведенную накануне линию, и колено, малиновый язык протягивался выше по внутренней стороне бедра. Граница была резкой, кожа горячей и болезненной при прикосновении. Волдырь на стопе оказался крохотным, вокруг небольшой синяк. Пальцы не покраснели, и девушка с легкостью пошевелила ими по моей просьбе. Труднее оказалось двигать всей стопой, отекшей, включая лодыжку. По всей ноге сохранялись нормальная чувствительность и пульс. Ни язв, ни гноя.
Строго говоря, покраснение выглядело точно как при флегмоне, требующей лишь антибиотиков, но на ум мне пришла другая возможность, пугающая до жути. Разумных оснований для опасений не было, но я был уверен в своей догадке.
Решения в медицине должны приниматься на основе конкретных наблюдений и надежных признаков. Однако всего несколько недель назад у меня был пациент, которого я никак не мог забыть, — здоровый 58-летний мужчина с усиливавшейся в течение трех-четырех дней болью в левой стороне груди под плечом, где была ссадина после падения (ради сохранения конфиденциальности некоторые детали изменены). Он обратился в больницу общего профиля по месту жительства, где у него нашли небольшую и совершенно обычную кожную сыпь на груди и отправили домой лечить флегмону антибиотиками в таблетках. В тот же вечер сыпь распространилась на 20 см. На следующее утро температура подскочила до 39. Когда мужчина вновь пришел в отделение неотложной помощи больницы, пораженная кожа онемела и вся покрылась волдырями. Вскоре он впал в шок и был доставлен в нашу больницу, где его сразу поместили в реанимацию.
У больного оказалась не флегмона, а чрезвычайно редкий и смертельно опасный тип инфекции — некротизирующий фасциит. В таблоидах ее возбудителя называют «плотоядной» бактерией, и это не преувеличение. Разрезав кожу, мы увидели обширное инфекционное поражение, намного более тяжелое, чем казалось снаружи. Все мышцы левой стороны груди, идущие к спине, плечу и животу, стали серыми и мягкими из-за бактериального поражения и должны были быть удалены. В первый же день его пребывания в реанимации нам пришлось удалить даже мышцы между ребрами. На следующий день ему ампутировали руку. Казалось, мы его спасли. Температура спала, и пластические хирурги реконструировали грудную клетку и брюшную стенку больного с помощью пересаженных мышц и мембранной ткани Gortex, однако у него начали отказывать все органы один за другим — почки, легкие, печень, сердце, — и он умер. Это был один из самых ужасных случаев в моей практике.
Что мы точно знаем о некротизирующем фасциите{1} — он исключительно агрессивен и очень быстро распространяется по телу. Он убивает до 70 % своих жертв. Ни один известный антибиотик его не останавливает. Чаще всего его вызывает бактерия Streptococcus группы А (в посеве из тканей нашего пациента была обнаружена именно она). Этот микроорганизм в норме провоцирует всего лишь ангину, но некоторые его штаммы способны наделать гораздо худших бед. Никто не знает, откуда эти бактерии берутся. Как и в случае флегмоны, считается, что они проникают через повреждения кожи. Повреждением может быть и большой хирургический разрез, и крохотная ссадина. (Описаны случаи, когда люди заболевали, ссадив кожу о ворсовое покрытие, после укуса насекомого, дружеского толчка в руку, пореза о бумагу, взятия крови на анализ, вырывания зуба и ветрянки. У многих вообще не было обнаружено место проникновения бактерии.) В отличие от флегмоны, бактерия поражает не только кожу, но и более глубокие ткани, быстро распространяясь по наружным оболочкам мышц (фасциям) и пожирая любые мягкие ткани (жир, мышцы, нервы, соединительную ткань), попадающиеся на пути. Пациент может выжить только благодаря ранней и радикальной эксцизионной операции, часто требующей ампутации. Однако операция может спасти, только если сделана вовремя. Когда очевидны признаки глубокого поражения, такие как шок, потеря чувствительности, широко распространившееся образование волдырей на коже, больной обычно обречен.
У кровати Элеанор, наклонившись, чтобы осмотреть ее ногу, я чувствовал себя немного глупо, поскольку вообще смог допустить мысль об этом страшном диагнозе. Это все равно что предположить, что в приемное отделение больницы проник вирус Эбола. Действительно, на ранних стадиях некротизирующий фасциит может выглядеть точно как флегмона — те же краснота, припухлость, жар и высокий уровень белых кровяных телец, но в медицинских школах в ходу старинная поговорка: «Если слышишь стук копыт в Техасе, думай о лошадях, а не зебрах». В США за год бывает лишь около тысячи случаев некротизирующего фасциита, главным образом у престарелых и хронических больных, и намного больше трех миллионов случаев флегмоны. Более того, жар у Элеанор спал, она не выглядела больной, и я знал, что нахожусь под впечатлением недавнего, единичного, из ряда вон выходящего случая из моей практики. Ладно бы еще существовал простой метод анализа, позволяющий различить эти два диагноза. Но нет, единственная возможность — взять пациентку в операционную, разрезать кожу и посмотреть. Такое не станешь предлагать просто так, на всякий случай.
Тем не менее я не мог отделаться от сомнений.
Я снова натянул покрывало на ноги Элеанор, сказал: «Вернусь через минуту», нашел телефон подальше, чтобы она точно не могла меня услышать, и вызвал Тадеуса Стаддерта, дежурного хирурга. Он перезвонил из операционной, и я быстро обрисовал факты, сказав, что воспаление, скорее всего, флегмона, но есть еще один вариант, который я не могу выкинуть из головы: некротизирующий фасциит.
На той стороне линии помолчали.
— Вы уверены?
— Да, — ответил я, не пытаясь уйти от ответа.
Он тихонько выругался и сказал, что сейчас же придет.
Когда я повесил трубку, появился отец Элеанор, седоватый мужчина около 60 лет, с сэндвичем и газировкой в руках. Он приехал на машине из Хартфорда, весь день провел рядом с дочерью, но, когда я осматривал ее, мужчина, оказывается, выходил купить ей перекусить. Заметив еду в его руках, я подскочил к нему сказать, что «прямо сейчас» ей нельзя есть и пить, — и шило начало вылезать из мешка. Это был не лучший способ представиться. Он был потрясен, поскольку сообразил, что пустой желудок должен быть у пациента перед операцией. Пытаясь сгладить ситуацию, я сказал, что поголодать — всего лишь «общепринятая практика», пока мы не закончим обследование. Тем не менее Элеанор и ее отец пришли в еще больший ужас, когда явился Стаддерт в хирургическом костюме и шапочке.
Врач попросил девушку снова рассказать, что случилось, обнажил ее ногу и осмотрел. Казалось, увиденное его не взволновало. Когда мы разговаривали с глазу на глаз, Стаддерт сказал, что краснота, на его взгляд, выглядит лишь как «тяжелая флегмона». Может ли он гарантировать, что это не некротизирующий фасциит? Нет, не может. Таковы реалии медицины: решить не делать что-либо — не проводить анализ, не давать антибиотик, не оперировать пациента — гораздо труднее, чем решить делать. Если у тебя зародилось подозрение, особенно на такую ужасную инфекцию, как некротизирующий фасциит, от него нелегко избавиться.
Стаддерт присел на край кровати Элеанор и сказал, что ее рассказ, симптомы и результаты обследования соответствуют флегмоне и, скорее всего, это она и есть. Однако возможен другой, очень редкий, диагноз… Он спокойно описал отнюдь не прибавляющие спокойствия последствия некротизирующего фасциита. Хирург рассказал о «плотоядной» бактерии, пугающе высокой смертности при этой инфекции, безуспешности лечения исключительно антибиотиками и заключил: «Я не думаю, что у вас именно это. Я бы оценил вероятность — это было чистой воды предположение — значительно ниже пяти процентов. Однако, — продолжил он, — без биопсии мы не можем этого исключить». Стаддерт сделал паузу, чтобы они с отцом осознали его слова, и стал объяснять, что это за процедура: необходимо взять около 2−3 см кожи, а также нижележащие ткани из верхней части стопы и, возможно, из верхней части ноги, и патолог сразу же изучит образцы под микроскопом.
Элеанор оцепенела. «Чушь какая-то, — заявила она. — Полная бессмыслица». Вид у нее был безумный, как у тонущего человека. «Почему бы просто не подождать и не посмотреть, как подействуют антибиотики?» Стаддерт объяснил, что с этим заболеванием медлить нельзя, нужно начать лечить его на ранней стадии, чтобы был шанс с ним справиться. Элеанор лишь затрясла головой и опустила взгляд.
Мы со Стаддертом повернулись к ее отцу — возможно, он что-нибудь скажет. До сих пор он молча стоял позади дочери, нахмурившись, сцепив руки за спиной, напряженный, словно человек, пытающийся устоять в качающейся лодке. Отец стал подробно расспрашивать о самой процедуре: сколько времени займет биопсия (15 минут), какие у нее риски (самый серьезный по иронии судьбы раневая глубокая инфекция), сойдут ли шрамы (нет), когда это нужно делать, если уж делать (в течение часа). Наконец он с опаской спросил, что будет, если результаты биопсии подтвердят диагноз. Стаддерт повторил, что оценивает шансы менее чем в 5 %, но, если это случится, придется «удалить всю пораженную ткань». Он не сразу сумел выговорить: «Это означает ампутацию». Элеанор разрыдалась: «Я не хочу этого, папа!» Мистер Брэттон с трудом проглотил ком в горле, устремив взгляд в пустоту.
В последние годы мы, медицинские работники, поняли, как удручающе часто наши усилия оборачиваются вредом для пациентов. Даже точно зная, как следует поступить, мы слишком часто этого не делаем. К тому же нередки и банальные ошибки при выполнении каких-либо действий, и мы лишь начинаем осознавать системные уязвимости, недостатки технологий и порождающие их человеческие несовершенства, а также способы их устранения. Более того, какие-то важные знания попросту недостаточно укоренились в практике. Например, как теперь известно, обычный аспирин способен спасти жизнь многим пациентам с инфарктом и еще большее число жизней можно спасти с помощью немедленного приема тромболитика — препарата, растворяющего тромбы. Однако четверть больных, которым следовало бы принять аспирин, его не получают, как и половина тех, кому следовало бы принять тромболитик. В целом соблюдение врачами подобных рекомендаций, эффективность которых доказана на практике, сильно варьируется, так как в одних частях страны данные методы лечения применяются в отношении более чем 80 % пациентов, а в других — менее чем 20 %{2}. На низовом уровне нам не хватает организованности и готовности делать то, что, в силу своих знаний, мы считаем необходимым.
Стоит, однако, пообщаться с врачами и пациентами, и вы обнаружите более масштабную, очевидную и болезненную проблему — неопределенность. Во многих ситуациях мы до сих пор не знаем, что нужно делать. В медицине имеются обширные «серые зоны», и мы каждый день сталкиваемся с такими случаями, как у Элеанор, когда отсутствуют четкие научные рекомендации, а выбор сделать надо. Например, каких именно больных пневмонией госпитализировать, а каких отправить лечиться дома? Какие виды боли в спине требуют операции, а каким достаточно консервативного лечения? Кого из пациентов с воспалением оперировать, а кого лечить антибиотиками и держать под наблюдением? Во многих случаях ответы очевидны, но немало и тех, когда мы просто не знаем, что делать. Группы экспертов, анализировавшие реальные решения врачей, обнаружили, что в четверти случаев удаления матки, трети операций по установке трубки в ухо ребенка и трети вживлений кардиостимулятора (и это лишь три примера) наука не способна предсказать, поможет ли операция конкретному пациенту{3}.
При отсутствии алгоритмов и точных данных, определяющих твои действия, в медицине приходится учиться принимать решения по наитию, полагаться на опыт и чутье. Это не может не вызывать беспокойства.
Недели за две до Элеанор я осматривал очень пожилую женщину с артритом (она родилась до президентства Вудро Вильсона[12]) с жалобами на раздирающую боль в брюшной полости, отдающей в спину. Я узнал, что недавно у нее обнаружили аневризму брюшной аорты, и мой внутренний сигнал тревоги мгновенно сработал. Осторожно обследуя ее, я нащупал аневризму, пульсирующий мягкий участок прямо под брюшными мышцами. Я был убежден, что она стабильна, но готова разорваться. Сосудистый хирург, которого я вызвал, согласился со мной. Мы сказали женщине, что единственное спасение для нее — немедленная операция, но предупредили, что это серьезная операция с долгим восстановлением в реанимации и, вероятно, последующим сестринским уходом на дому (пациентка до сих пор жила одна), с высоким риском отказа почек и риском смерти минимум 10−20 %. Она не знала, как поступить. Мы оставили ее обсудить решение с родственниками, и через 15 минут, когда я вернулся, пациентка отказалась от операции. Она просто хотела вернуться домой. По ее словам, она прожила долгую жизнь. Ее здоровье давно ухудшается. Пациентка написала завещание и отмеряет оставшийся срок буквально днями. Близкие были сокрушены, но она говорила спокойно и стояла на своем. Я выписал обезболивающее, чтобы сын давал его больной, и через полчаса она выписалась, полностью осознавая, что умрет. Я взял у ее сына номер телефона и через пару недель позвонил спросить, как он перенес утрату. Его мать, однако, ответила сама. Заикаясь, я поздоровался и спросил, как она себя чувствует. Спасибо, ответила женщина, все хорошо. Через год, как я узнал, она была жива и жила самостоятельно.
Три десятилетия исследований в области нейропсихологии показали, что человеческое суждение, как память и слух, подвержено множеству систематических ошибок. Ум переоценивает очевидные опасности, идет по проторенным дорожкам и плохо обрабатывает множественные фрагменты данных. На него воздействуют желания и эмоции, даже время суток. На него влияет порядок поступления информации и формулировка проблем. Если мы, врачи, считали, что благодаря знаниям и опыту мы застрахованы от подобных ошибок, эти иллюзии развеялись после того, как ученые стали изучать нас, словно под микроскопом.
Действительно, разнообразные исследования продемонстрировали, что на суждение врача влияют те же самые искажающие факторы, что и на любое другое. Например, ученые Медицинского колледжа Вирджинии убедились, что врачи, отправляющие на посев кровь пациентов с высокой температурой, переоценивают вероятность инфекции в 4−10 раз, причем сильнее всего перестраховываются те из них, кто недавно осматривал других пациентов с инфекцией крови{4}. В результате другого исследования, проведенного в Висконсинском университете{5}, были обнаружены свидетельства «эффекта Лейк-Уобегона» («Лейк-Уобегон, где женщины сильны, мужчины красивы, а дети талантливы»[13]): огромное большинство хирургов убеждены, что смертность их пациентов ниже средней. Исследование Университета Огайо и медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв{6} оценило не только точность оценок врачей, но и убежденность в своей правоте и не обнаружило между ними связи. Полностью уверенные в своих суждениях доктора оказались не более точными, чем сомневающиеся.
Дэвид Эдди, врач и эксперт по принятию решений в клинической практике, проанализировал свидетельства из серии безапелляционных статей в журнале Journal of the American Medical Association десятилетней давности и сделал убийственный вывод: «Дело попросту в том, что многие решения врачей оказались произвольными — совершенно случайными, не имеющими очевидных объяснений. Что особенно тревожно, эта произвольность, по крайней мере для некоторых пациентов, оборачивается неоптимальным лечением и даже причинением вреда»{7}.
Однако что может врач — да и пациент — противопоставить неопределенности, кроме собственного суждения? Через несколько месяцев после того памятного весеннего дня, когда мы осматривали Элеанор, я разговаривал с ее отцом о последовавших событиях.
«Оказалось, от распухшей ноги до возможности потерять дочь всего пять минут», — сказал мистер Брэттон.
Шеф-повар, 17 лет владевший магазином деликатесов, а теперь преподававший в школе кулинарного искусства в Хартфорде, он не имел знакомых в Бостоне. Брэттон знал, что наша больница является филиалом Гарвардской медицинской школы, но прекрасно понимал, что из этого вовсе не следует, что мы выдающиеся врачи. Я был всего лишь дежурящим в тот день ординатором, Стаддерт, опять-таки, не более чем дежурным хирургом. Элеанор возложила бремя решения на отца, и он пытался все взвесить. Имелись обнадеживающие признаки. Стаддерт явился прямо из операционной, в хирургическом костюме и шапочке, что могло свидетельствовать об опыте и знании профессиональных секретов. Действительно, оказалось, что у него уже было несколько пациентов с некротизирующим фасциитом. Кроме того, врач держался уверенно, но не давил и не пожалел времени на объяснения. Однако Брэттона потрясло, как молодо он выглядел (действительно, Стаддерту едва исполнилось 35 лет).
«Речь идет о моей дочери, — крутилось у него в голове. — Неужели здесь нет кого-нибудь получше вас?» Это подсказало ему выход. Повернувшись к нам со Стаддертом, он мягко сказал: «Мне нужно еще чье-нибудь мнение».
Мы не расстроились, поскольку осознавали, что в этом деле много загадок. Жар у Элеанор прошел, она не выглядела особенно больной, а, пожалуй, главной причиной появления у меня мысли о плотоядной бактерии стал ужасный случай, который я наблюдал несколько недель назад. Стаддерт оценил вероятность этого заболевания — «намного меньше пяти процентов», но мы оба знали, что это чистой воды гадание (основанное на вероятности и самоуверенности, но достаточно ли этого?), к тому же весьма туманное (насколько именно меньше пяти процентов?). Услышать мнение кого-нибудь еще будет совсем не лишним, подумали мы.
Было ли это полезно для Брэттонов? Что делать, если мнения разойдутся? Если же совпадут, разве это устранит вероятность ошибки и имеющиеся вопросы? Более того, Элеанор и ее отец не знали, к кому обратиться, и были вынуждены попросить нас кого-то порекомендовать.
Мы назвали Дэвида Сигала, штатного пластического хирурга, который, как и Стаддерт, уже видел подобные случаи. Они согласились. Я позвонил Сигалу и проинформировал его. Врач спустился на наш этаж через несколько минут. Насколько я мог судить, он дал Элеанор и ее отцу главным образом уверенность.
Сигал — с невероятной всклокоченной шевелюрой, с пятнами чернил на белом халате, в очках, которые кажутся слишком большими на его лице, — единственный известный мне пластический хирург, похожий на доктора философии из Массачусетского технологического института (которым он, кстати, и является). Зато он выглядел, как позднее сформулировал Брэттон, «не юнцом». Сигал не выразил несогласия с мнением Стаддерта. Выслушал Элеанор и, внимательно осмотрев ее ногу, сказал, что тоже будет удивлен, если у нее окажется плотоядная бактерия, но согласился, что этого нельзя исключить. Что же оставалось, кроме биопсии?
Теперь Элеанор и ее отец согласились с нами. «Давайте покончим с этим», — сказала она. Однако, когда я принес ей на подпись бланк информированного согласия на операцию, в котором записал не только что операция является «биопсией левой нижней конечности», но и что риски включают «возможную необходимость ампутации», она зарыдала. Лишь проведя немало времени наедине с отцом, девушка смогла подписать документ. Почти сразу же мы забрали ее в операционную. Медсестра провела отца Элеанор в зону ожидания. Он поговорил с ее матерью по сотовому телефону, затем сел, склонил голову и стал молиться о своем ребенке.
Честно говоря, есть и другой подход к принятию решений — в медицине его отстаивает маленькая, не встречающая особой поддержки группа единомышленников. Эта стратегия, давно использующаяся в бизнесе и военном деле и называющаяся анализом решений, ясна и незатейлива. На листе бумаги (или экране компьютера) выписываешь все имеющиеся варианты и возможные следствия каждого в виде древа решений. Даешь примерную численную оценку вероятности каждого результата, используя точные данные, если они есть, или прогнозы, если данных нет. Взвешиваешь каждый результат в соответствии с относительной желательностью (или «полезностью») для пациента. Затем перемножаешь числа по каждому варианту и выбираешь тот, который имеет наибольшую расчетную «ожидаемую полезность». Идея состоит в использовании эксплицитного, логического, статистического мышления вместо одной лишь интуиции. Решение рекомендовать ежегодную маммографию всем женщинам старше 50 лет было принято именно так, как и решение США оказать финансовую помощь Мексике, когда ее экономика рухнула. Почему бы не принимать таким же образом решения по каждому пациенту, спрашивают сторонники метода.
Недавно я попробовал «построить древо» (в терминологии поклонников метода анализа решений) выбора, вставшего перед Элеанор. Варианты были просты: делать или не делать биопсию. Результаты, однако, мгновенно разветвились: не делать биопсию и оказаться здоровой; не делать биопсию, опоздать с диагнозом, подвергнуться операции и все-таки выжить; не делать биопсию и умереть; делать биопсию и получить всего лишь шрам; делать биопсию и получить шрам плюс кровотечение из-за него; делать биопсию, подтвердить диагноз, подвергнуться ампутации и все-таки умереть и т. д. Когда я выписал все возможности и последствия, древо решения превратилось в непролазную чащу. Приписывать вероятность каждому потенциальному повороту судьбы казалось делом сомнительным. Я собрал все данные, которые смог найти в медицинской литературе, и был вынужден многое экстраполировать. Определить относительную желательность результатов представлялось невозможным даже после обсуждения этого вопроса с Элеанор. Умереть в сто раз хуже, чем выздороветь, в тысячу, в миллион? Куда отнести шрам с кровотечением? Тем не менее здесь учитываются все важнейшие соображения, как утверждают специалисты по принятию решений, когда же мы решаем по наитию, то все эти многочисленные реалии остаются неосознанными.
Впрочем, провести формальный анализ в разумный промежуток времени все равно оказалось невозможно. На него потребовалось около двух дней — не минуты, которыми мы обычно располагаем, — и множество согласований с двумя специалистами по принятию решений. Ответ все-таки был получен. Согласно итоговому древу решений, мы не должны были бежать в операционную делать биопсию. Вероятность того, что моя первоначальная догадка подтвердится, была слишком мала, а вероятность, что, подтвердив заболевание на ранней стадии, мы все равно ничего не изменим, слишком велика. Если рассуждать логически, биопсия была неоправданна.
Я не знаю, как бы мы распорядились этой информацией в тот момент. У нас все равно не было древа решений. И мы пошли в операционную.
Анестезиолог погрузил Элеанор в сон. Сестра обработала ее ногу антисептиком от пальцев до бедра. Маленьким ножом Стаддерт вырезал эллипс кожи и тканей длиной 2,5 см из верхней части стопы, где был волдырь, в направлении сухожилия. Образец поместили в емкость со стерильным физраствором и срочно передали патологу. Из центра зоны покраснения на икре мы взяли второй образец, проникнув глубже, в мышцу, и его также отправили на исследование.
На первый взгляд под кожей не обнаружилось ничего откровенно тревожного. Слой жира был желтым, как и должно быть, мышца имела здоровый красный цвет с отливом и нормально кровоточила. Однако, когда мы ввели конец зажима в разрез на голени, он неестественно легко скользнул вдоль мышцы, как будто бактерии проложили ему путь. Это не было однозначным результатом, но заставило изумленного Стаддерта воскликнуть: «Вот дерьмо!» Он стащил с себя хирургическую куртку и перчатки, и мы пошли узнать, что обнаружил патолог, оставив Элеанор спать в операционной под присмотром другого ординатора и анестезиолога.
Образец для экстренного патологического исследования называют замороженным срезом, и помещение для работы с подобными материалами находилось через несколько дверей от нас по коридору. Оно маленькое, размером с кухню. В центре стоит лабораторный стол высотой по грудь с черной сланцевой столешницей и канистрой жидкого азота, в котором патолог подвергает пробы тканей мгновенной заморозке. У стены разместился микротом — прибор, с помощью которого он делает срезы тканей микронной толщины, чтобы поместить на предметное стекло. Мы вошли, как раз когда патолог закончил готовить стекла. Он поместил их под микроскоп и начал методично изучать каждое, сначала под малым увеличением, затем под сильным. Мы топтались рядом, без сомнения раздражая его, в ожидании диагноза. Минуты проходили в тишине.
«Я не знаю», — пробормотал патолог, не отрываясь от окуляров. Наблюдаемые признаки «соответствуют некротизирующему фасцииту», но он не брался гарантированно подтвердить диагноз. Придется вызвать дерматопатолога — специалиста по патологии кожи и мягких тканей. Прошло 20 минут, прежде чем специалист прибыл, и еще пять минут, пока он определился, а наше смятение все росло. «Это он», — наконец объявил дерматопатолог мрачно, поскольку заметил крохотные очаги начавшегося омертвления глубоких тканей. Никакая флегмона на это не способна.
Стаддерт пошел переговорить с отцом Элеанор. Когда он вошел в переполненный зал ожидания, Брэттон заметил выражение его лица и закричал: «Не смотрите на меня так! Не смотрите на меня так!» Стаддерт увел его в смежную комнату, закрыл дверь и сказал, что у Элеанор, по всей видимости, именно эта болезнь. Действовать надо очень быстро. Он не уверен, что спасет ее ногу, не уверен и в том, что спасет ей жизнь. Он должен будет разрезать ее ногу вдоль, оценить, насколько плохи дела, и исходить из этого. Брэттон был раздавлен, плакал и пытался что-то произнести. У самого Стаддерта были слезы на глазах. Отец Элеанор сказал: «Делайте все что нужно». Врач кивнул и ушел, тогда Брэттон позвонил жене, сообщил новости и замолчал, чтобы выслушать ответ. «Никогда не забуду, что донеслось с другого конца линии, — вспоминал он. — Что-то, какие-то звуки, которые я не могу и никогда не смогу описать».
В медицине решения ветвятся, как нигде. Едва выберешь направление на одной развилке, перед тобой тут же возникают следующие. Теперь важнейшим стал вопрос, что делать. В операционной к Стаддерту присоединился Сигал. Вместе они разрезали ногу Элеанор от оснований пальцев через лодыжку до точки под коленом, чтобы получить полную картину происходящего внутри, и широко растянули разрез ранорасширителями.
Теперь болезнь была видна невооруженным глазом. В стопе и большей части икры внешний, фасциальный, слой мышц был серым и мертвым. Сочилась бурая, как помои, жидкость, попахивающая разложением. (Позднее образцы тканей и бактериальные культуры подтвердили, что в ноге Элеанор стремительно распространялись бактерии Streptococcus патогенной группы А.)
«Я подумал о подколенной ампутации, — говорит Стаддерт, — даже о надколенной». Никто не обвинил бы его ни за тот, ни за другой выбор, но сам он испытывал внутреннее сопротивление: «Такая молодая! Наверное, это звучит бесчувственно, но, будь это 60-летний мужчина, я бы отнял ногу без колебаний». Отчасти, пожалуй, это было чисто эмоциональное нежелание отрезать конечность симпатичной 23-летней девушке — жалостливость того рода, которая часто не доводит до добра. В то же время интуиция подсказала врачу, что молодость и крепкое здоровье пациентки позволяют обойтись удалением лишь самых инфицированных тканей (некрэктомией) и промыванием тканей стопы и голени. Стоило ли идти на такой риск, когда в ноге пациентки хозяйничала одна из самых смертоносных бактерий, известных человеку? Кто знает! Он решил рискнуть.
Два часа они с Сигалом при помощи ножниц и электрокоагулятора вырезали и удаляли омертвевшие внешние слои мышц пациентки, двигаясь от межпальцевых промежутков к мышцам икры. Они иссекли ткани на три четверти объема. Кожа свисала с ноги, как полы расстегнутого пальто. Выше, внутри бедра, они добрались до фасции, которая оказалась розово-белой и выглядела живой. Они пролили ногу двумя литрами стерильного физраствора, стараясь убрать как можно больше бактерий.
По окончании операции состояние Элеанор было стабильным. Кровяное давление оставалось нормальным, температура 37,2, уровень кислорода в норме. Ткани, которые выглядели хуже всего, были удалены.
Однако сердечный ритм был учащен, 120 ударов в минуту, — признак того, что бактерии вызвали общую реакцию организма. Ей требовалось внутривенное вливание большого количества жидкости. Стопа выглядела мертвой, а кожа по-прежнему пылала краснотой из-за инфекции.
Стаддерт твердо держался своего решения больше ничего не отрезать, но видно было, что это дается ему нелегко. Они с Сигалом посовещались и решили попробовать еще одно средство, экспериментальный метод лечения в барокамере (гипербарическую оксигенацию). Элеанор нужно было поместить в барокамеру, где ныряльщики лечат декомпрессионное заболевание, — идея вроде бы странная, но не абсурдная. Иммуноцитам нужен кислород, чтобы эффективно убивать бактерии, а пребывание под давлением в два и более раз выше атмосферного в течение нескольких часов в день резко повышает содержание кислорода в тканях. Сигал был впечатлен результатами, полученными им при лечении двоих ожоговых больных с глубокими раневыми инфекциями. Честно говоря, исследования не подтвердили эффективность этого метода в борьбе с некротизирующим фасциитом. Но что, если он все же сработает? Мы все ухватились за эту возможность. По крайней мере, это помогало нам чувствовать, что мы как-то боремся с инфекцией, оставленной в теле пациентки.
У нас не было барокамеры, но в больнице на другом конце города она имелась. Кто-то сел за телефон, и через несколько минут был составлен план транспортировки Элеанор в машине скорой помощи в сопровождении одной из наших медсестер на двухчасовой сеанс в барокамере под давлением 2,5 атмосферы. Мы оставили рану открытой, чтобы она дренировалась, проложили ее влажной марлей для предотвращения пересыхания тканей и забинтовали. Прежде чем отправить пациентку, мы перевезли ее из операционной в реанимацию, чтобы убедиться, что состояние больной стабильно и она перенесет поездку.
Было восемь вечера. Элеанор проснулась с тошнотой и болью, но в достаточно ясном сознании, чтобы понять по окружающей ее толпе сестер и врачей, что что-то стряслось.
— Боже, моя нога!
Она потянулась к ней, и несколько мгновений паники ей казалось, что она не может ее нащупать. Постепенно девушка убедилась, чтобы может видеть ее, трогать, чувствовать, двигать ею. Стаддерт положил руку ей на плечо и объяснил, что мы обнаружили, что сделали и что еще предстоит сделать. Она восприняла информацию с неожиданным мужеством. Собрались все ее близкие, выглядевшие так, словно их переехал грузовик, но Элеанор прикрыла ногу простыней, оглядела мониторы с мерцающими зелеными и оранжевыми линиями, трубки, тянущиеся к катетерам в ее руках, и спокойно сказала: «Хорошо».
Барокамера, в которой она оказалась той ночью, напоминала, по ее словам, «стеклянный гроб». Элеанор лежала в ней на узком матрасе, не имея возможности поместить руки иначе, чем вытянув вдоль тела или скрестив на груди, с пластиной толстого оргстекла в 30 см от лица и крышкой люка за головой, наглухо закрытой вращением тяжелого колеса. Когда давление повысилось, уши заложило, словно она нырнула на глубину. Когда давление достигнет определенной величины, предупредили врачи, больная будет заперта в камере. Даже если ее начнет рвать, они не смогут до нее добраться, поскольку давление можно снижать понемногу, иначе наступит декомпрессия и смерть. «У одного человека начался припадок, — вспоминала она их рассказы. — Потребовалось 20 минут, чтобы до него добраться». Заключенная в эту капсулу, измученная болезнью, Элеанор чувствовала себя совершенно одинокой и страшно далекой от всех. Здесь только я и бактерии во мне, говорила она себе.
На следующее утро мы вернули ее в операционную, чтобы узнать, не распространились ли бактерии. Они распространились. Кожа на большей части стопы и передней стороне икры почернела, как при гангрене, и ее пришлось срезать. Края фасций, сохраненные ранее, омертвели и также были иссечены. Однако мышечная ткань оставалась живой, в том числе в стопе, и бактерия не уничтожила ткани выше, в бедре. Температура больше не повышалась. Сердечный ритм нормализовался. Мы вновь проложили рану влажной марлей и отправили Элеанор назад в барокамеру на два часа — и так дважды в день.
Ногу оперировали четыре раза за четыре дня. Каждый раз приходилось что-то удалять, но все меньше. На третьей операции мы увидели, что краснота кожи начала, наконец, спадать, а к четвертой ушла полностью, и внутри раны виднелись розовые зачатки новых тканей. Лишь тогда Стаддерт уверился, что спасена не только сама Элеанор, но и ее нога.
Поскольку интуиция не всегда нас подводит, мы не знаем, как к ней относиться. Подобные успехи — результат не только логического мышления, но это и не чистая удача.
Гэри Клейн{8}, когнитивный психолог, посвятивший свою профессиональную деятельность наблюдению за людьми, постоянно имеющими дело с неопределенностью, описывает случай с командиром пожарного расчета. Лейтенант с командой прибыл на обычный, казалось бы, пожар в одноэтажном жилом доме. Во главе ствольщиков он вошел в дом со стороны фасада и увидел огонь в дальней части кухни. Его попытались залить водой, но пламя стало наступать на людей. Вторая попытка также оказалась безуспешной. Расчет отошел на пару шагов обсудить дальнейшие действия, как вдруг, к недоумению подчиненных, лейтенант приказал немедленно покинуть здание. Что-то, он и сам не знал что, было не так. Едва люди вышли, пол, на котором они только что стояли, обрушился. Очаг возгорания оказался в подвале, а не в задней части дома. Если бы они задержались всего на несколько секунд, то рухнули бы в огонь.
Люди обладают способностью чувствовать, как надо поступить. Суждение, отмечает Клейн, редко основано на тщательном взвешивании всех вариантов — в этом мы, в принципе, не сильны. Это, скорее, неосознанное распознавание паттерна. Обдумывая случившееся, командир пожарных сказал Клейну, что, находясь в доме, он не размышлял о возможных вариантах развития событий и до сих пор не представляет, что заставило его вывести людей. Пожар оказался сложным, но прежде ему не приходилось перед таким отступать. Единственным объяснением казалось везение или экстрасенсорное восприятие. Однако, тщательно расспросив его о деталях ситуации, Клейн выделил два сигнала, которые лейтенант неосознанно воспринял. В гостиной было тепло — теплее, чем обычно бывает при локализованном пожаре в задней части дома. Пламя было тихое, тогда как он ожидал услышать громкий шум и треск горения. Ум пожарного распознал эти и, возможно, другие сигналы опасного паттерна, заставившие его отдать приказ всем покинуть здание. В действительности, если бы он очень тщательно обдумывал ситуацию, вполне вероятно, это лишило бы его преимущества интуитивного понимания.
Я до сих пор не понимаю, какие сигналы уловил, впервые увидев ногу Элеанор. Также не вполне ясно, какие именно признаки подсказали нам, что можно обойтись без ампутации. Тем не менее, какими бы произвольными ни казались наши догадки, они опирались на логику. Но никакая логика не научит вас безошибочно определять, ведет ли интуиция врача в верном направлении или уводит далеко в сторону.
Почти 30 лет врач из Дартмута Джек Уэннберг изучает принятие решений в медицине, но не непосредственно, как Гэри Клейн, а с максимально высокой точки обзора, рассматривая американских врачей в целом. Что же он обнаружил? Неистребимую, колоссальную, вызывающую оторопь непоследовательность наших действий. Его исследования показали, например, что вероятность быть направленным на операцию по удалению желчного пузыря в разных городах различается на 270 %, на замену тазобедренного сустава — на 450 %, на пребывание в реанимации в последние шесть месяцев вашей жизни — на 880 %. У пациента из калифорнийской Санта-Барбары в пять раз больше шансов получить рекомендацию оперативным путем лечить боль в спине, чем у больного из нью-йоркского Бронкса. Общая неопределенность в сочетании с индивидуальными различиями в опыте, привычках и интуиции отдельных врачей ведут к громадным расхождениям в медицинском обслуживании пациентов{9}.
Чем это можно оправдать? Люди, оплачивающие медицинские услуги, очевидно, не знают ответа на этот вопрос (поэтому страховые компании так часто мучают врачей требованием объяснить свои решения). Не знают и получатели услуг. Элеанор Брэттон, бесспорно, лечили бы совершенно по-разному в зависимости от того, куда бы она обратилась, кто ее осматривал, и даже от того, когда именно она оказалась передо мной (до или после предыдущего виденного мной случая некротизирующего фасциита, в два часа ночи или в два часа дня, в спокойное или напряженное дежурство). В одном месте ей предложили бы разве что антибиотики, в другом — ампутацию, в третьем — удаление некротических тканей. Все это не укладывается в голове.
Предлагается две стратегии изменения данной ситуации. Одна предполагает резкое уменьшение степени неопределенности медицины путем исследований — только в области не новых лекарственных препаратов или методики операций (уже получающих огромное финансирование), а мелких, но принципиальных ежедневных решений, принимаемых пациентами и врачами (что финансируется шокирующе плохо). Все понимают, впрочем, что значительная степень неопределенности в вопросе о том, как лечить людей, останется навсегда (болезни и жизни людей слишком сложны, чтобы могло быть иначе). Поэтому выдвигается небезосновательная, казалось бы, мысль, что врачи должны заранее договориться, как именно действовать в ситуациях неопределенности, — заранее прописать свои действия, чтобы исключить догадки и воспользоваться преимуществом группового решения.
Мысль эта, однако, никуда не ведет, поскольку противоречит всему, что мы, врачи, знаем о себе как индивидах и о своей способности искать вместе с пациентами наилучший для них план действий. Каждый врач решает этот вопрос по-своему, но в хаосе индивидуальных подходов обязательно найдется кто-то, кто не ошибся, и каждый из нас, привыкших каждый день принимать решения в условиях неопределенности, считает таким врачом себя самого. Сколько бы наше суждение ни подводило нас, у каждого есть своя Элеанор Брэттон, свое невероятное чудо спасенной жизни.
Я вновь увидел Элеанор через год. Проезжая через Хартфорд, я завернул в дом ее родителей, просторный, идеально ухоженный, в колониальном стиле, с желтовато-серыми стенами, окруженный клумбами, среди которых радостно носилась собака. Проведя 20 дней в больнице, Элеанор вернулась к родителям, думая, что это на время, и в результате осталась надолго. По ее словам, пришлось ко многому привыкнуть, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Естественно, полное заживление ноги потребовало времени. В ходе последней операции, проведенной в последние дни госпитализации, мы пересадили кожный лоскут площадью 412 см2, взятый с бедра, чтобы закрыть рану. «Мой маленький ожог», — сказала она, закатав штанину.
Вы бы не назвали это зрелище красивым, но, на мой взгляд, рана выглядела великолепно. В окончательном виде она была шириной примерно с мою ладонь и тянулась от колена до пальцев. Кожа в этом месте, что неизбежно, была чуть светлее, края раны выдавались вверх. Из-за трансплантации стопа и лодыжка выглядели широкими и массивными. Зато у раны не было открытых зон, как иногда бывает, и пересаженная кожа была мягкой и эластичной, а не тугой, твердой или стянутой. Место на бедре, откуда мы взяли лоскут, оставалось ярко-вишневым, но краснота постепенно спадала.
Элеанор пришлось бороться за полное восстановление функции ноги. Сначала, вернувшись домой, она обнаружила, что не может стоять, настолько ослабли и болели мышцы. Нога подгибалась под ней. Элеанор укрепила мышцу, но по-прежнему не могла ходить. Из-за повреждения нерва развился тяжелый синдром отвислой стопы. Она показалась доктору Стаддерту, предупредившему, что это состояние может остаться навсегда, но за несколько месяцев упорных тренировок снова научилась ходить, приставляя пятку одной ноги к носку другой. К моему визиту Элеанор уже бегала трусцой. Она вернулась к работе, устроившись ассистентом в головном офисе крупной страховой компании в Хартфорде.
Весь год Элеанор преследовал страх из-за пережитого. Она по-прежнему не знала, как подцепила бактерию. Может, при ножной ванночке и педикюре в маленьком салоне накануне свадьбы. Может, на траве за стенами зала, где шло празднование, когда босиком водила хороводы с гостями. Может, где-нибудь в собственном доме. При малейшем порезе или повышении температуры она пугалась до смерти. Она не решалась купаться. Не принимала ванну. Не допускала даже, чтобы вода закрывала стопы, когда принимала душ. Ее родители собирались в отпуск во Флориду, но мысль о том, чтобы так далеко уехать от своих врачей, пугала ее.
Больше всего ее страшила полная непредсказуемость произошедшего. «Сначала тебе говорят, что твой шанс заболеть ничтожен — один на 250 000, — пояснила Элеанор. — И вдруг я заболеваю. Тогда говорят, что вероятность выздороветь очень низка. И я выздоравливаю, вопреки вероятности». Когда же она спросила нас, врачей, может ли еще раз заразиться плотоядной бактерией, мы снова заявили, что шансы ничтожно малы, один из 250 000, как и до болезни.
«Мне не по себе, когда я слышу подобное. Для меня это пустые слова, — сказала Элеанор во время нашего разговора, сидя на диване в гостиной, залитая светом из эркерного окна. — Я не верю, что это не может повториться. Не верю, что не подхвачу что-нибудь другое, столь же дикое, о чем даже и не слышала, или что никто из знакомых не заболеет чем-то ужасным».
Возможности и вероятности — все, с чем приходится работать в медицине. Что привлекает нас в этой несовершенной науке, что в действительности составляет предмет наших устремлений — это переломный момент, когда мы способны повлиять на ход событий: хрупкая, но ослепительная возможность благодаря профессиональным знаниям, способностям или просто чутью изменить чью-то жизнь к лучшему. Однако в конкретных ситуациях — когда на прием приходит женщина, раздавленная известием, что у нее рак, когда с места происшествия привозят истекающую кровью жертву с ужасными травмами, бледную и задыхающуюся, когда сослуживец спрашивает твоего мнения по поводу покраснения ноги 23-летней девушки — мы никогда не знаем, будет ли у нас такой момент. Еще менее очевидно, окажутся ли выбранные нами действия мудрыми или полезными. Меня до сих пор иногда поражает, что наши усилия вообще увенчиваются успехом, тем не менее это происходит. Не всегда, но достаточно часто.
Мы с Элеанор болтали о том о сем. О подругах, с которыми она снова встретилась, вернувшись в Хартфорд, и бойфренде, занимавшемся некой «оптоволоконной электротехникой» (но мечтавшем, по ее словам, о «высоковольтке»). О фильме, на который она недавно ходила, и о том, что оказалась гораздо выносливее, чем полагала до пережитых ею тяжелых испытаний.
«В некоторых отношениях я чувствую, что стала намного сильнее, — сказала Элеанор. — Я ощущаю, что есть какая-то цель, веская причина, по которой я все еще здесь».
«Думаю, я теперь еще и более счастливый человек — могу чуть лучше видеть вещи в истинном свете. Иногда я даже чувствую себя более защищенной. В конце концов, я благополучно все это пережила».
В мае того года Элеанор все-таки поехала во Флориду — на Восточное побережье выше Помпано. Было безветренно и жарко, и в один прекрасный день девушка ступила в воду одной босой ногой, затем другой. Наконец, вопреки всем своим страхам, нырнула и поплыла в океанских волнах.
«Вода была отличная», — сказала она.
Благодарности
Сын двух врачей, я с раннего детства знаком с медициной. За семейным ужином истории о местных докторах и случаи из собственной практики родителей (например, мальчик с тяжелой астмой, мамин пациент, которому родители не давали лекарство, папина первая удачная реверсивная вазэктомия или парень, заснувший пьяным и отстреливший свой пенис, решив, что в постель заползла змея) обсуждались так же часто, как дела в школе или политика. Когда мы с сестрой подросли, нас научили принимать звонки пациентов. Мы должны были спросить: «Нужна срочная помощь?» Если звонивший отвечал утвердительно, все было просто — мы говорили, что нужно обратиться в приемное отделение больницы. В случае отрицательного ответа все тоже было просто, нужно было записать сообщение. Только один раз я услышал: «Не знаю» — от мужчины с севшим голосом, который позвонил моему отцу, потому что «поранился», копая землю. Я направил его в приемное отделение.
Временами я сопровождал маму или папу на срочные вызовы. Мы вместе ехали в больницу, где меня оставляли ждать на стуле в холле отделения неотложной помощи. Я сидел и смотрел, как плачут больные дети, пропитываются кровью повязки на мужчинах, смешно дышат старые дамы и суетятся медсестры. Я и не понимал, насколько привык к этому месту. Годы спустя, впервые войдя в Бостонскую больницу в качестве студента-медика, я понял, что здешний запах мне знаком.
Писать я начал гораздо позднее и только благодаря многим людям, которым глубоко обязан. Мой друг Джейкоб Вайсберг первым убедил меня серьезно заняться писательством. Ведущий политический обозреватель интернет-журнала Slate, он заставил меня попробовать написать о медицине для его издания на втором году моей учебы в ординатуре по хирургии. Я согласился. Первую статью я переписывал много раз и справился с ней с его помощью. В следующие два года он и Майкл Кинсли, главный редактор Slate, а также мои редакторы Джек Шефер и Джоди Аллен позволили мне создать постоянную рубрику по медицине и науке, направляя меня и в то же время предоставляя определенную степень свободы. Эта возможность все для меня изменила. Ординатура страшно изматывает, и под гнетом бумажной работы, вызовов и недосыпания легко забыть о важности того, что ты делаешь. Написание статей позволило мне взглянуть на свою работу со стороны и вспоминать об этом хотя бы раз в неделю на несколько часов.
На третьем году ординатуры другой мой друг, Малколм Гладуэлл, пишущий для The New Yorker, познакомил меня со своим редактором Генри Файнедром, и по этой причине я считаю себя самым везучим писателем на свете. Вечно бормочущий себе под нос, потрясающе начитанный, гениальный парень, в 32 года уже являвшийся редактором нескольких моих любимых писателей, Генри взял надо мной шефство. Ему хватило терпения, настойчивости и оптимизма заставить меня семь раз полностью переписать первую статью, поданную в The New Yorker. Он заставил меня мыслить глубже, чем я считал себя способным, показал, на какие из моих инстинктивных представлений о писательском ремесле можно положиться, а на какие не стоит. Главное, Генри всегда верил, что мне есть о чем рассказать. С 1998 г. я стал штатным автором The New Yorker. Многие главы этой книги восходят к опубликованным в этом журнале статьям. Кроме того, Генри прочитал все здесь написанное и дал мне бесценные советы. Без него этой книги не было бы.
Кроме Генри и Малколма в The New Yorker есть третий человек, к которому я питаю особую признательность, — Дэвид Ремник. Несмотря на непредсказуемый график работы ординатора и тот факт, что на первом месте для меня были обязательства перед пациентами, он всегда меня поддерживал. Дэвид создал великолепный, уникальный журнал, а главное, позволил мне чувствовать себя в какой-то степени причастным к этому.
При работе над книгой в моей жизни появились люди двух новых типов. Это, во-первых, литературный агент — мне кажется, любой человек должен иметь своего агента, особенно такого, как Тина Беннет, относившаяся ко мне и к моей книге с неизменной преданностью, позитивным настроем и исключительным здравомыслием во всем (чему не помешало даже ожидание ребенка, которого она родила в разгар проекта). Во-вторых, это книжный редактор, как оказалось, отличающийся от журнального настолько же, насколько хирург отличается от интерна. Благодаря редкому сочетанию настойчивости и деликатности Сара Берштел из издательства Metropolitan Books убедила меня шире взглянуть на предмет, о котором я писал и размышлял, и продолжать работу даже в те моменты, когда стоящая передо мной задача начинала казаться непосильной. Мне невероятно повезло с ней. Я также благодарен ее коллеге Риве Хохерман за внимательное прочтение рукописи и бесценные рекомендации.
Писать от лица хирурга-ординатора — деликатное и сложное дело, особенно если стараешься рассказать в равной степени как об удачах, так и неудачах. Обычно врачи и сотрудники больниц с подозрением относятся к попыткам публичного обсуждения этих вопросов. Однако, к собственному удивлению, я нашел среди них лишь одобрение и поддержку. В этом отношении особенно выделяются два человека.
Доктор Трой Бреннан, профессор медицины, права и едва ли не всего прочего, был наставником, тестовым слушателем, соавтором исследований и активным сторонником моего замысла. Он даже предоставил мне место в кабинете, компьютер и телефон, что помогло мне справиться с этой работой.
Доктор Майкл Зиннер, возглавляющий хирургическое отделение нашей больницы, также оказал мне поддержку и покровительство. Я помню, как обратился к нему после того, как написал статью о последствиях врачебных ошибок, собираясь опубликовать этот материал в The New Yorker и понимая, что не могу этого сделать без его разрешения. Я дал ему рукопись и через несколько дней вошел в его кабинет, готовый к самому худшему. Действительно, текст ему не понравился. Да и мог ли понравиться? Отдел по связям с общественностью ни одной больницы в мире не допустил бы опубликования такого очерка. Однако, удивительное дело, он все равно меня поддержал. Статья может сделать меня мишенью общественности или других врачей, предупредил он, но в этом случае он мне поможет. И дал добро на публикацию.
Никаких нападок не было. Даже если коллеги по работе были не согласны с тем, что я писал, они оставались конструктивными и заинтересованными и ничего не имели против меня лично. Как оказалось, все мы стремились понять, насколько хорошо то, что мы делаем, и что можем сделать лучше.
Особую, огромную благодарность я хотел бы выразить пациентам и их родственникам, появившимся на страницах этой книги под своими или вымышленными именами. С некоторыми мне посчастливилось до сих пор поддерживать контакт, других я не имел возможности узнать настолько близко, как хотелось бы. Но все они стали моими учителями в большей мере, чем можно себе представить.
Есть, однако, человек, внесший вклад во все аспекты этой работы — написание книги, врачебную практику и попытки добиться успеха и в том и в другом, — это моя жена Кэтлин. Она помогла мне справиться с долгими дежурствами и всевозможными трудностями во время моего обучения на хирурга и поддерживала, когда меня оставляли силы и уверенность в себе. Когда, возвращаясь домой, я обсуждал с ней замыслы своих сочинений, она засиживалась со мной допоздна, помогая облекать мысли в слова. Великолепный редактор, она выправила всю эту рукопись и, хотя я не всегда соглашался это признать, сделала ее лучше во всех отношениях. Главное, она подарила мне чудесных детей, которых я обожаю до безумия, и даже привозила их в больницу повидаться со мной, когда я слишком долго их не видел. Эта книга появилась благодаря ее любви и преданности, поэтому посвящается ей.
Об авторе
Атул Гаванде — практикующий хирург, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения и Гарвардской медицинской школы. Популяризатор медицинской науки, постоянный автор The New Yorker. Широко известен как эксперт в области оптимизации современного здравоохранения. За свои журнальные публикации о науке удостоен множества престижных наград. Живет с женой и тремя детьми в Ньютоне (Массачусетс).
Примечания
1. Бóльшую часть информации о практических проблемах врачи находят в медицинских журналах. Особые риски для детей с большой массой груди рассмотрены в таких статьях, как, например: Azizkhan, R. G., etal. «Life-threatening airway obstruction as a complication to the management of mediastinal masses in children», Journal of Pediatric Surgery, 20 (1985), рр. 816−22. Чаще всего уроки, изложенные в статьях, получены врачами на собственном горьком опыте. Когда случается несчастье, мы называем это трагедией, но если кто-то напишет о нем, то это уже наука.
По крайней мере две статьи посвящены методам, разработанным врачами с использованием аппаратов искусственного кровообращения для безопасного лечения пациентов с опухолями, как у Ли: одна из них, от группы специалистов Пенсильванского университета, опубликована в ASAIO Journal 44 (1998), рр. 219−21, другая, от группы из Дели (Индия), опубликована в Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 15 (2001), рр. 233−36. Обе группы рассказывают, что нащупали метод не в ходе скрупулезных исследований, а в силу удачи и необходимости, как происходят многие прорывы в науке.
1. Книга К. Андерса Эрикссона о результативности человеческой деятельности: The Road to Excellence (Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Press, 1996).
2. Эпохальный отчет клиники Great Ormond Street Hospital о кривой обучения в проведении операций переключения сосудов: Bull, C., et al., «Scientific, ethical, and logistical considerations in introducing a new operation: a retrospective cohort study from paediatric cardiac surgery», British Medical Journal 320 (2000), рр. 1168−73. Отчет английских ученых цит. в статье: Hasan, A., Pozzi, M., and Hamilton, J. R. L., «New surgical procedures: Can we minimise the learning curve?» British Medical Journal 320 (2000), рр. 170−73.
3. Исследование Гарвардской школы бизнеса описано в главах нескольких книг и в ряде статей, в том числе: Pisano, G., Bohmer, R., and Edmondson, A., «Organizational Differences in Rates of Learning Evidence from the Adoption of Minimally Invasive Cardiac Surgery», Management Science 47 (2001); Bohmer, R., Edmondson, A., and Pisano, G., «Managing new technology in medicine», а также в работе Herzlinger, R. E., ed., Consumer-Driven Health Care (San Francisco: Jossey-Bass, 2001).
1. Удачное пособие и обзор по теме нейронных сетей в медицине: Baxt, W. G., «Application of artificial neural networks to clinical medicine», Lancet 346 (1995), pp. 1135−38.
2. Исследование Эденбрандта: Heden, B., Ohlin, H., Rittner, R., and Edenbrandt, L., «Acute myocardial infarction detected in the 12-lead ECG by artificial neural networks», Circulation 96 (1997), рр. 1798−1802.
3. Baxt, W. G., «Use of an artificial neural network for data analysis in clinical decision-making: the diagnosis of acute coronary occlusion», Neural Computation 2 (1990), pp. 480−89.
4. Клиника Шоулдайса широко публикует отчеты о своих результатах. Один из обзоров: Bendavid, R., «The Shouldice technique: a canon in hernia repair», Canadian Journal of Surgery 40 (1997), pp. 199−205, 207.
5. Meehl, P. E., Clinical Versus Statistical Prediction: A Theoretical Analysis and Review of the Evidence (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1954).
6. Dawes, R. M., Faust, D., and Meehl, P. E., «Clinical versus actuarial judgment», Science 243 (1989), pp. 1668−74.
7. Herzlinger, R., Market-Driven Health Care: Who Wins, Who Loses in the Transformation of America’s Largest Service Industry (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1997).
1. Brennan, T. A., et al., «Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study I» New England Journal of Medicine 324 (1991), pp. 370−76.
2. Leape, L. L., «Error in medicine», Journal of the American Medical Association 272 (1994), pp. 1851−57.
3. Bates, D. W., et al., «Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events», Journal of the American Medical Association 274 (1995), pp. 29−34.
4. Localio, A. R., et al., «Relation between malpractice claims and adverse events due to negligence: results of the Harvard Medical Practice Study III», New England Journal of Medicine 325 (1991), pp. 245−51.
5. Reason, J., Human Error (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
6. История победы анестезии над ошибками: Pierce, E. C., «The 34th Rovenstine Lecture: 40 years behind the mask — safely revisited», Anesthesiology 84 (1996), pp. 965−75.
7. Cooper, J. B., et al., «Preventable anesthesia mishaps: a study of human factors», Anesthesiology 49 (1978), pp. 399−406.
8. Результаты работы «Группы по изучению сердечно-сосудистых заболеваний Северной Новой Англии» приводятся во многих исследованиях; их краткое изложение можно найти в статье: Malenka, D. J., and O’Connor, G. T., «The Northern New England Cardiovascular Disease Study Group: a regional collaborative effort for continuous quality improvement in cardiovascular disease», Joint Commission Journal on Quality Improvement 24 (1998), pp. 594−600.
9. Brooks, D. C., ed., Current Review of Laparoscopy, 2nd ed. (Philadelphia: CurrentMedicine, 1995).
1. Вы можете найти информацию о ежегодной конференции Американской коллегии хирургов на сайте: www.facs.org.
1. История Гарольда Шипмана подробно описана в статье: Eichenwald, K., «True English murder mystery: town’s trusted doctor did it», New York Times, 13 May 2001, p. Ai.
2. Обвинение в деле Джона Рональда Брауна включало также попытку заклеить потекший грудной имплант жительницы Лос-Анджелеса с помощью клея Krazy Glue. Он был признан виновным в убийстве второй степени Филипа Бонди, которому ампутировал ногу, и приговорен к 15 годам лишения свободы. Более подробную информацию вы можете найти в статье: Ciotti, P., «Why did he cut off that man’s leg?» LA Weekly, 17 December 1999.
3. Об истории Джеймса Бёрта можно прочитать в статье: Griggs, F., «Breaking Tradition: Doctor Steps in to Stop Maiming ‘Surgery of Love’», Chicago Tribune, 25 August 1991, p. 8.
4. Данные о наркозависимости врачей приведены в книге: Brook, D., et al., «Substance abuse within the health care community», in Friedman, L. S., et al., eds., Source Book of Substance Abuse and Addiction (Philadelphia: Lippincott, 1996)
5. Два источника исчерпывающей информации о распространенности психических расстройств среди населения: Mental Health: A Report of the Surgeon General (Rockville, Md.: U. S. Department of Health and Human Services, 1999); Kessler, R. C., et al., «Lifetime and 12-month prevalence of DSM — III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey», Archives of General Psychiatry 51 (1994), pp. 8−19.
6. Оценка доли «проблемных» врачей взята из обзора Мэрилин Розенталь: «Promise and reality: professional selfregulation and ‘problem’ colleagues’» in Lens, P., and Van der Wal, G., eds., Problem Doctors: A Conspiracy of Silence (Netherlands: IOS Press, 1997), p. 23.
7. Книга Мэрилин Розенталь: The Incompetent Doctor: Behind Closed Doors (Philadelphia: Open University Press, 1995).
8. Кент Нефф представил данные из своей работы о «проблемных» врачах на Конференции по повышению безопасности пациентов и сокращению числа ошибок в здравоохранении в Центре Анненберга (Ранчо-Мираж, Калифорния) 9 ноября 1998 г.
1. Scanlon, T. J., et al., «Is Friday the 13th bad for your health?» British Medical Journal 307 (1993), pp. 1584−89.
2. Проведенное Уильямом Феллером исследование фашистских бомбардировок Лондона было опубликовано в книге: An Introduction to Probability Theory (NewYork: Wiley, 1968).
3. Об ошибке меткого стрелка читайте в статье: Rothman, K. J., American Journal of Epidemiology 132 (1990), pp. S6−S13.
4. Buckley, N. A., Whyte, I. M., and Dawson, A. H., «There are days… and moons: self-poisoning is not lunacy», Medical Journal of Australia 159 (1993), pp. 786−89.
5. Guillon, P., Guillon, D., Pierre, F., and Soutoul, J. H., «Les rythmes saisonnier, hebdomadaire et lunaire des naissances», Revue Francaise de Gynecologie et d’Obstetrique 11 (1988), pp. 703−8.
6. Два лучших обобщающих исследования влияния Луны на поведение человека: Martin, S. J., Kelly, I. W., and Saklofske, D. H., «Suicide and lunar cycles: a critical review over twenty-eight years» Psychological Reports 71 (1992), pp. 787−95; Byrnes, G., and Kelly, I. W., «Crisis calls and lunar cycles: a twenty-year review», Psychological Reports 71 (1992), pp. 779−85.
1. Загадке хронической боли в спине посвящена обширная литература. Из статей и исследований, показавшихся мне полезными, упомяну следующие: Hadler, N., Occupational Musculoskeletal Disorders (Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, current edition 1999); Haldeman, S., «Failure of the pathology model to predict back pain», Spine 15 (1990), p. 719.
Весьма любопытные результаты МРТ-исследования пациентов получены в Кливлендской клинике: Jensen, M. C, et al., «Magnetic Resonance Imaging of the lumbar spine in people without back pain», New England Journal of Medicine 331 (1994), pp. 69−73.
2. Hilzenrath, D., «Disability claims rise for doctors», Washington Post, 16 February 1998.
3. Декарт рассуждает о боли в «Размышлениях» (1641): Декарт Р. Размышления о первой философии. Соч. в 2-х т. — М.: Мысль, 1989, 1994.
4. Исследования боли у участников боевых действий Генри К. Бичера публиковались дважды: «Pain in Men Wounded in Battle», Bulletin of the U. S. Army Medical Department 5 (April 1946), p. 445; «Relationship of Significance of Wound to Pain Experienced», Journal of the American Medical Association 161 (1956), pp. 1609−13.
5. Классическая статья Рональда Мелзака и Патрика Уолла с описанием теории ворот: «Pain Mechanisms: A New Theory», Science 150 (1965), pp. 971−79.
6. В числе исследований боли у разных групп населения отмечу работы: Tajet-Foxell, B., and Rose, F. D., «Pain and Pain Tolerance in Professional Ballet Dancers», British Journal of Sports Medicine 29 (1995), pp. 31−34; Cogan, R., and Spinnato, J. A., «Pain and Discomfort Thresholds in Late Pregnancy», Pain 27 (1986), pp. 63−68; Berkley, K. J., «Sex Differences in Pain», Behavioral and Brain Sciences 20 (1997), pp. 371−80; Barnes, G. E., «Extraversion and pain», British Journal of Social and Clinical Psychology 14 (1975), pp. 303−8; Compton, M. D., «Cold-Pressor Pain Tolerance In Opiate And Cocaine Abusers: Correlates of Drug Type and Use Status», Journal of Pain and Symptom Management 9 (1994), pp. 462−73; Bandura, A., et al., «Perceived Self-Efficacy and Pain Control: Opioid and Nonopioid Mechanisms», Journal of Personality and Social Psychology 53 (1987), pp. 563−71.
7. Фредерик Ленц сообщил об этих двух случаях в двух отдельных статьях: Lenz, F. A., et al., «Stimulation in the human somatosensory thalamus can reproduce both the affective and sensory dimensions of previously experienced pain», Nature Medicine 1 (1995), pp. 910−13; «The sensation of angina can be evoked by stimulation of the human thalamus», Pain 59 (1994), pp. 119−25.
8. Новая теория Мелзака описана в его статье: «Pain: Present, Past, and Future», Canadian Journal of Experimental Psychology 47 (1993), pp. 615−29.
9. Информация о новых лекарствах быстро меняется, поэтому я рекомендую искать самую свежую. Упомянутые исследования: Miljanich, G. P., «Venom peptides as human pharmaceuticals» Science and Medicine (September/October 1997), pp. 6−15; Bannon, A. W., et al., «Broad-Spectrum, Non-Opioid Analgesic Activity by Selective Modulation of Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors», Science 279 (1998), pp. 77−81.
10. Об эпидемии «туннельного синдрома» в Австралии 1980-х гг. можно прочесть в статьях: Hall, W., and Morrow, L., «Repetition strain injury: an Australian epidemic of upper limb pain», Social Science and Medicine 27 (1988), pp. 645−49; Ferguson, D., «‘RSI’: Putting the epidemic to rest», Medical Journal of Australia 147 (1987), p. 213; Hocking, B., «Epidemiological aspects of ‘repetition strain injury’ in Telecom Australia», Medical Journal of Australia 147 (1987), pp. 218−22.
1. Хороший обзор физиологии рвоты содержится в гл. 1 книги: Sleisinger, M., ed., Handbook of Nausea and Vomiting (New York: Parthenon Publishing Group, 1993).
2. Watcha, M. F, and White, P. F., «Postoperative nausea and vomiting: its etiology, treatment, and prevention», Anesthesiology 77 (1992), pp. 162−84.
3. Griffin, A. M., et al., «On the receiving end: patient perceptions of the side effects of cancer chemotherapy», Annals of Oncology 7 (1996), pp. 189−95.
4. Jewell, D., and Young, G., «Treatments for nausea and vomiting in early pregnancy», Cochrane Database of Systematic Reviews, 4 March 2000.
5. Profet, M., «Pregnancy sickness as adaptation: a deterrent to maternal ingestion of teratogens», in Barkow, J. H., Cosmides, L., and Tooby, J., The Adapted Mind (Oxford: Oxford University Press, 1992).
6. Классическая работа по двигательной тошноте: Reason, J. T., and Brand, J. J., Motion Sickness (New York: Academic Press, 1975).
7. Краткий информативный обзор новых исследований двигательной тошноты, в том числе космической болезни: Oman, C. M., «Motion sickness: a synthesis and evaluation of the sensory conflict theory», Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 68 (1990), pp. 294−303.
8. В частности, следующие исследования: Fischer-Rasmussen, W., et al., «Ginger treatment of hyperemesis gravidarum», European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology 42 (1991), pp. 163–64; O’Brien, B., Relyea, J., and Taerum, T., «Efficacy of P6 acupressure in the treatment of nausea and vomiting during pregnancy», American Journal of Obstetrics and Gynecology 174 (1996), pp. 708−15).
Ценные краткие рекомендации по уходу за беременными с неукротимой рвотой: Nelson-Piercy, C., «Treatment of nausea and vomiting in pregnancy: When should it be treated and what can be safely taken?» Drug Safety 19 (1998), pp. 155−64.
9. Краткий взвешенный обзор использования марихуаны в медицине: Voth, E. A., and Schwartz, R., «Medicinal applications of Delta-9-Tetrahydrocannabinol and marijuana», Annals of Internal Medicine 126 (1997), pp. 791−98.
10. Дополнительную информацию о таком необычном явлении, как синдром срыгивания, можно прочитать в статье: Malcolm, A., et al., «Rumination syndrome», Mayo Clinic Proceedings 72 (1997), pp. 646−52.
11. Исследование применения «Зофрана» при тошноте, проведенное группой исследователей под руководством Гэри Морроу: Roscoe, J. A., et al., «Nausea and vomiting remain a significant clinical problem: trends over time in controlling chemotherapy induced nausea and vomiting in 1,413 patients treated in community clinical practices», Journal of Pain & Symptom Management 200 (2000), pp. 113−21.
12. Блестящий обзор психологических аспектов тошноты: Morrow, G. R., «Psychological aspects of nausea and vomiting: anticipation of chemotherapy», in Sleisinger, ed., 1993.
13. Революционный отчет об антагонистах субстанции Р при тошноте: Navari, R. M., et al., «Reduction of cisplatin-induced emesis by a selective neurokinin-i-receptor antagonist», New England Journal of Medicine 340 (1999), pp. 190−95.
14. Обзор свидетельств благотворного влияния специалистов по паллиативному уходу: Hearn, J., and Higginson, I. J., «Do specialist palliative care teams improve outcomes for cancer patients?: a systematic literature review», Palliative Medicine 12 (1998), pp. 317−32.
15. Информация о «Бендектине» рассматривается в статье: Koren, G., Pastuszak, A., and Ito, S., «Drug therapy: drugs in pregnancy», New England Journal of Medicine 338 (1998), pp. 1128−37.
16. Cassell, E. G., The Nature of Suffering and the Goals of Medicine (New York: Oxford University Press, 1991).
1. Фрейдистские аргументы: Karch, F. E., «Blushing», PsychoanalyticReview 58 (1971), pp. 37−50.
2. Чарльз Дарвин рассуждает о способности краснеть в книге The Expression of the Emotions in Manand Animals (1872): Дарвин Ч., Экман П. О выражении эмоций у человека и животных. — СПб.: Питер, 2013.
3. Майкл Льюис подробно рассказывает о проявлениях смущения под чужими пристальными взглядами в статье: «The self in self-conscious emotions», Annals of the New York Academy of Sciences 818 (1997), pp. 119−42.
4. Научные и психологические обоснования появления румянца, описанные мной, включая исследование Лири и Темплтона, почерпнуты из трех источников: Leary, M. R., etal., «Social blushing», Psychological Bulletin 112 (1992), pp. 446−60; Miller, R. S., Embarrassment: Poiseand Peril in Everyday Life (New York: Guilford Press, 1996); Edelmann, R. J., «Blushing», in Crozier, R., and Alden, L. E., eds., International Hand book of Social Anxiety (Chichester: John Wiley&Sons, 2000).
5. Результаты лечения блашинг-синдрома хирургами из Гётеборга методом торакоскопической симпатэктомии были опубликованы в работе: Drott, C., etal., «Successful treatmen to ffacial blushing by endoscopictransthoracic sympathicotomy», British Journal of Dermatology 138 (1998), pp. 639−43. Более сдержанная оценка хирургического метода приводится в статье: Drummond, P. D., «A caution about surgical treatment for facial blushing», British Journal of Dermatology 142 (2000), pp. 195–96.
6. Сайт организации Кристин Друри: www.redmask.org.
1. Статистика по операциям шунтирования желудка: Blackburn, G., «Surgery for obesity», Harvard Health Letter (2001), no. 884.
2. Удручающие данные Национальных институтов здравоохранения о практически полной безуспешности диет в долгосрочной перспективе приводятся в статье: «Methods for voluntary weight loss and control», Annals of Internal Medicine 119 (1993), pp. 764−70.
3. Обширный перечень хирургических методов лечения ожирения и их результатов: Kral, J. G., «Surgical treatment of obesity», in Bray, G. A., Bouchard, C., and James, W. P. T., eds., Handbook of Obesity (New York: M. Decker, 1998), а также Munro, J. F., et al., «Mechanical treatment for obesity», Annals of the New York Academy of Sciences 499 (1987), pp. 305−11.
4. Исследование диеты при детском ожирении: Epstein, L. H., et al., «Ten-year outcomes of behavioral family-based treatment for childhood obesity», Health Psychology 13 (1994), pp. 373−83.
5. Информация о синдроме Прадера — Вилли взята из статей: Lindgren, A. C., et al., «Eating behavior in Prader-Willi syndrome, normal weight, and obese control groups», Journal of Pediatrics 137 (2000), pp. 50−55; Cassidy, S. B., and Schwartz, S., «Prader-Willi and Angelman syndromes», Medicine 77 (1998), pp. 140−51.
6. Объяснение «жирового парадокса»: Blundell, J. E., «The control of appetite», Schweizerische 129 (1999), p. 182.
7. Исследование, продемонстрировавшее «эффект аппетайзера»: Yeomans, M. R., «Rating changes over the course of meals: What do they tell us about motivation to eat?» Neuroscience and Biobehavioral Reviews 24 (2000), pp. 249−59.
8. Публикация о французском исследовании жевания: Bellisle, F, et al., «Chewing and swallowing as indices of the stimulation to eat during meals in humans», Neuroscience and Biobehavioral Reviews 24 (2000), pp. 223−28.
9. Исследование питания людей с глубокой амнезией: Rozin, P., et al., «What causes humans to begin and end a meal?» Psychological Science 9 (1998), pp. 392−96.
10. Информация о неспособности одной лишь операции по ушиванию желудка, без других мер, обеспечить сохранение достигнутого веса в долгосрочной перспективе почерпнута из процитированной статьи Блэкберна 2001 г., а также работы: Nightengale, M. L., etal., «Prospective evaluation of vertical banded gastroplasty as the primary operation for morbid obesity», Mayo Clinic Proceedings 67 (1992), pp. 304–5.
11. Информация о психологическом и социальном опыте хирургического лечения ожирения: Hsu, L. K. G., etal., «Nonsurgical factors that influence the out come of bariatric surgery: areview», PsychosomaticMedicine 60 (1998), pp. 338−46.
12. Два блестящих обзора исследований устойчивой долгосрочной потери веса после оперативного лечения ожирения приведены в вышеупомянутых статьях (Kral, 1998; Blackburn, 2001).
13. Данные о высоком показателе распространения морбидного ожирения: Kuczmarski, R. J., et al., «Varying body mass index cut off points to describe overweight prevalence among U. S. adults: NHANES III (1988 to 1994)», Obesity Research 5 (1997), pp. 542−48.
1. Робкая борьба против отказа от аутопсии описана в статье: Lundberg, G. D., «Low-tech autopsies in the era of high-tech medicine», Journal of the American Medical Association 280 (1998), pp. 1273−74.
2. История аутопсии описана по двум источникам: Iserson, K. V., Death to Dust: What Happens to Dead Bodies (Tucson, Ariz.: Galen Press, 1994); King, L. S., and Meehan, M. C., «The history of the autopsy», American Journal of Pathology 73 (1973), pp. 514−44.
3. Три недавних исследования ценности аутопсии: Burton, E. C., Troxclair, D. A., and Newman III, W. P., «Autopsy diagnoses and malignant neoplasms: How often are clinical diagnoses incorrect?» Journal of the American Medical Association 280 (1998), pp. 1245−48; Nichols, L., Aronica, P., and Babe, C., «Are autopsies obsolete?» American Journal of Clinical Pathology 110 (1996), pp. 210−18; Zarbo, R. J., Baker, P. B., and Howanitz, P. J., «The autopsy as a performance measurement tool», Archives of Pathology and Laboratory Medicine 123 (1999), pp. 191−98.
4. Упомянутый обзор исследований аутопсии: Hill, R. B., and Anderson, R. E., The Autopsy: Medical Practice and Public Policy (Newton, Mass.: Butterworth-Heinemann, 1988), pp. 34–35.
5. Классическое сравнение аутопсии по десятилетиям: Goldman, L., et al., «The value of the autopsy in three medical eras», New England Journal of Medicine 308 (1983), рр. 1000−05.
6. Предлагаемое Горовицем и Макинтайром объяснение неизбежности ошибок приводится в их статье: «Toward a theory of medical fallibility», Journal of Medicine and Philosophy 1 (1976), pp. 51−71.
7. Исчезновение данных об аутопсиях описано в статье: Burton, E., «Medical error and outcome measures: Where have all the autopsies gone?» Medscape General Medicine, 28 May 2000.
1. Подробности этой истории взяты, главным образом, из двух источников: письменных показаний, давших основание для ареста Мэри Ноу, и нашумевшей статьи Стивена Фрида: «Cradle to Grave», Philadelphia Magazine, April 1998.
2. О сокращении внезапной младенческой смертности в связи с национальной кампанией «Сон на спине»: Willingner, M., et al., «Factors associated with the transition to nonprone sleep positions of infants in the United States», Journal of the American Medical Association 280 (1998), pp. 329−35.
3. Исчерпывающий источник информации о паттернах насилия над детьми: Sedlak, A. J., and Broadhurst, D. D., The Third National Incident Study of Child Abuse and Neglect (Washington: U. S. Department of Health and Human Services, 1996).
1. Katz, J., The Silent World of Doctor and Patient (New York: Free Press, 1984).
2. Исследование предпочтений раковых больных: Degner, L. F., and Sloan, J. A., «Decision making during serious illness: What role do patients really want to play?» Journal of Clinical Epidemiology 45 (1992), pp. 941−50.
3. Schneider, C. E., The Practice of Autonomy (New York: Oxford University Press, 1998).
1. Информация о некротизирующем фасциите взята из статей: Chapnick, E. K., and Abter, E. I., «Necrotizing soft-tissue infections», Infectious Disease Clinics 10 (1996), pp. 835−55; Stone, D. R., and Gorbach, S. L., «Necrotizing fasciitis: the changing spectrum», Infectious Disease in Dermatology 15 (1997), pp. 213−20. Полезным источником информации для пациентов также является сайт Национального фонда борьбы с некротизирующим фасциитом www.nnff.org.
2. Исчерпывающий обзор исследований качества медицинского обслуживания (включая описанные исследования инфарктов): Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm (Washington, D. C.: National Academy of Sciences Press, 2001).
3. Naylor, C. D., «Grey zones of clinical practices: some limits to evidence-based medicine», Lancet 345 (1995), pp. 840−42.
4. Poses, R. M., and Anthony, M., «Availability, wishful thinking, and physicians’ diagnostic judgments for patients with suspected bacteremia», Medical Decision Making 11 (1991), pp. 159−68.
5. Detmer, D. E., Fryback, D. G., and Gassner, K., «Heuristics and biases in medical decision making», Journal of Medical Education 53 (1978), pp. 682−83.
6. Dawson, N. V., et al., «Hemodynamic assessment in managing the critically ill: Is physician confidence warranted?» Medical Decision Making 13 (1993), pp. 258−66.
7. Потрясающий цикл публикаций Дэвида Эдди о проблемах с принятием решений в медицине начался со статьи «The challenge», Journal of the American Medical Association 263 (1990), pp. 287−90.
8. Великолепная книга Гэри Клейна о его исследовании интуитивного принятия решений: SourcesofPower (Cambridge: M. I. T. Press, 1998).
9. Информацию о паттернах поведения врачей одной специализации по сравнению с врачами другой специализации можно найти в работе Джека Уэннберга и его исследовательской команды Dartmouth Atlas of Health Care (Chicago: American Hospital Publishing, Inc., 1999). Их результаты также выложены на сайте www.dartmouthatlas.org.
Над книгой работали
Переводчик Наталья Колпакова
Научный редактор Александр Минич, канд. мед. наук
Редактор Валентина Бологова, канд. биол. наук
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректор М. Миловидова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
