Капля чужой вины бесплатное чтение
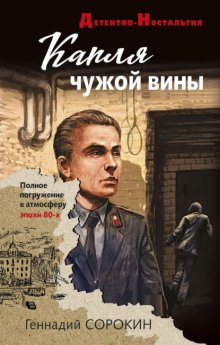
© Сорокин Г. Г., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Глава 1
Сквозь сон я услышал стук в дверь.
– Андрей Лаптев, вставай! На вахте сказали, что ты здесь.
Я открыл глаза, посмотрел на часы. Половина двенадцатого! Мне удалось поспать всего час. В десять утра я пришел в общежитие после дежурства, уставший, вымотавшийся за сутки, только прикрыл глаза – и на тебе! Какой-то незнакомец долбит в дверь с такой силой, словно выломать ее хочет.
– Андрей, дело срочное, отлагательств не терпит!
Я сунул ноги в тапочки и как был, в одних трусах, пошел к двери. На пороге стоял незнакомый парень. Я видел его на заводе, но кем он работает и как зовут, не знал.
– Что ты ломишься, как пьяный, в чужую квартиру? – спросил я. – Ты не видишь, что дверь вся разболтанная, на одном честном слове держится?
– У нас ЧП! – не обращая внимания на мой вызывающий тон, сообщил незнакомец.
– Какое еще ЧП? Дохлая крыса в тестомесильную машину попала или мука на заводе закончилась?
– Главный инженер повесился.
Я на секунду оторопел, не зная, как отреагировать на известие о самоубийстве человека, который откровенно недолюбливал меня. Да что там недолюбливал! Главный инженер Горбаш ненавидел меня, ждал случая поквитаться за унижение, и вот теперь он болтается в петле… Но я-то тут при чем?
– Где он вздернулся? – задал я первый пришедший на ум вопрос. – В заброшенном теплоузле? Хорошее место, там трубы под потолком, не надо крюк выискивать. Давно его нашли? Всего полчаса назад? В милицию сообщили?
– Участковый должен прийти с минуты на минуту.
– Вот об участковом давай и поговорим. Хлебозавод стоит на территории Центрального РОВД. Я работаю в Заводском. Скажи, зачем мне в чужие дела лезть? Мне что, делать больше нечего, как у центральщиков под ногами путаться?
– Тебя директор хочет видеть.
– Мать его! – с досады выругался я. – Что за манера тянуть кота за хвост! Ты сразу не мог сказать, что меня Алексей Георгиевич вызывает? Он где? У себя? Сейчас приду.
Если бы после дежурства меня захотел увидеть начальник управления хлебопекарной промышленности облисполкома или начальник милиции Центрального района, я сказался бы больным и лег дальше спать. Но директор! Ему я отказать не мог.
Директор хлебозавода Полубояринов выделил мне отдельную комнату в заводском общежитии. Во всем городе он оказался единственным руководителем, кто согласился приютить меня. По утвержденным в горисполкоме правилам отдельные комнаты в ведомственных общежитиях предоставляли только работникам с детьми или специалистам, проработавшим на заводе не менее десяти лет. Мне было двадцать два года, я был холост и к хлебопекарной промышленности не имел ни малейшего отношения. Собственное жилье, хоть от милиции, хоть от горисполкома, мне пришлось бы ждать несколько лет, а я получил его через двадцать дней после начала работы в уголовном розыске Заводского РОВД. Долг платежом красен! Полубояринов имел полное право вызвать меня к себе в любое время дня и ночи.
Не теряя времени, я быстро оделся, подошел к столу за сигаретами. От окна сквозило. Щели между рамой и косяком были чуть ли не в палец толщиной. Чтобы заделать их, понадобился бы огромный кусок ваты, а где его взять?
«Сразу осеннюю куртку надеть или после директора подняться?» – подумал я, поежился и решил идти в джинсах и легком свитере.
Погода за утро изменилась. Когда я заканчивал дежурство, моросил мелкий дождик, а сейчас за окном плавно проплывали снежинки. Конец октября! Если наступят холода, то снег ляжет и уже не растает до самой весны.
Кабинеты директора, главного инженера, технологов, бухгалтерия и касса располагались на первом этаже нашего общежития. Здесь же были проходная на завод и актовый зал. Отдельного административного здания на хлебозаводе не было.
Полубояринову Алексею Георгиевичу было около пятидесяти лет. Он был невысокого роста, круглолицый, с выступающим под одеждой животом. Хлебозаводом руководил с середины 1970-х годов, был на хорошем счету у руководства, план по выпуску продукции выполнял и перевыполнял. За два с половиной месяца моего проживания на территории завода я видел Полубояринова всего три раза: дважды мы поздоровались, случайно встретившись на проходной, один раз он поинтересовался, как я устроился на новом месте.
В кабинете директора было накурено, сизый дым висел слоями и в открытую форточку выветриваться не желал.
– Садись! – Директор указал на стул у приставного столика. – Ты, говорят, только утром приехал с суточного дежурства? Устал, поди? Понимаю, но ничего не поделаешь! Кроме тебя мне послать некого.
– Алексей Георгиевич, не знаю, чем могу помочь, но все, что вы попросите, сделаю.
– Делать ничего особенного не надо. – Директор ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговичку рубашки. – Сходи в теплоузел, постой там где-нибудь в уголке, посмотри, как твои коллеги работать будут, какие версии выдвинут. Сам понимаешь, дело не шуточное! Если бы повесился главный инженер какого-нибудь машиностроительного завода, то это было бы, без сомнения, ЧП, но не катастрофа. Железяки они и есть железяки, а мы хлеб выпускаем, наша продукция по всему городу расходится, а тут – мертвец висит.
– Он же не в цеху повесился, а в заброшенном теплоузле. До ближайшего хлебохранилища метров пятьдесят будет.
– Если слухи поползут по городу, то кому ты объяснишь, что он нашел самый укромный уголок на заводе? Слухи они и есть слухи. В прошлом месяце неизвестно откуда пошел слух, что в буханке с первого хлебозавода мышь нашли, так к ним три комиссии приезжали, все закоулки облазали, мышиный помет искали. Ничего не нашли, но главному технологу выговор дали. Придрались к какой-то мелочи и наказали.
– Как нашли Горбаша?
– О, там целая детективная история! – Директор полез за сигаретами, но передумал – в кабинете и так нечем было дышать. – В шесть утра его жена позвонила на проходную, поинтересовалась, когда муж с работы ушел. Вахтерша посмотрела записи и видит, что вчера он зашел на территорию завода, а назад не вышел. В половине девятого на проходную заступила новая вахтерша, узнала о звонке и тут же доложила мне. Я подождал до начала рабочего дня, вижу, Горбаша нет ни в кабинете, ни в бухгалтерии, и дал указание проверить территорию. Мало ли что с человеком может случиться: сердечный приступ или сознание внезапно потерял. Хотя я сразу же заподозрил что-то неладное. Какой приступ – Горбаш был здоров как бык. Курил много, так от этого еще никто скоропостижно не кончался. Капля никотина только лошадь убивает… М-да, что-то я не о том. Мы о чем говорили? А, где его нашли! Значит, так, мужики все цеха осмотрели, все склады проверили, а про новый теплоузел даже не подумали. Он уже второй год заброшенный стоит. Бригадир грузчиков догадался замок на теплоузле проверить. Замка на месте не оказалось, а внутри наш дорогой Владимир Николаевич висит.
– Все понятно. Я пошел?
– Погоди, там вот еще какое дело, – остановил меня директор. – Горбаш, когда веревку к трубе привязывал, на строительные козлы залез, а на пол, прямо возле ножек, положил брикет шербета. Меня этот шербет больше всего с толку сбивает. Что он хотел этим сказать? На что намекал?
– Ерунда! – не согласился я. – Щербет на месте самоубийства мог оказаться случайно.
– Свежий шербет в закрытом теплоузле? Как он там случайно окажется? Это его с собой Горбаш принес. Не буханку хлеба взял, не батон и не булочку, а брикет щербета. В этом что-то есть, какой-то намек, какая-то загадка. Придешь на место – проконтролируй, чтобы о шербете лишних разговоров не было.
– Сделаю! – заверил я директора и вышел из кабинета.
По пути к себе я заглянул на проходную, попросил тетрадь с записями. Вахтерши, чтобы знать, где находится руководство предприятия, завели тетрадку, в которой напротив фамилий директора, главного инженера и главного технолога ставили плюсы и минусы. Зашел на территорию – минус, вышел – исправили на плюс. За вчерашний день, 28 октября 1982 года, главный инженер зашел на территорию завода пять раз, а вышел – только четыре. Последний минус так и не остался незачеркнутым.
– Вашу сменщицу не насторожило, что Горбаш после окончания рабочего дня не вышел с завода? – спросил я.
– Мы же тетрадь в руки берем только когда инженер или директор через проходную проходят, – пояснила вахтерша. – Тут за день столько народу войдет и выйдет, что всех и не упомнишь.
Я поднялся в комнату, оделся и пошел в новый теплоузел.
Глава 2
Сразу за проходной начиналась главная площадь хлебозавода. Не большая и не маленькая, но вполне широкая, чтобы на ней могли разъехаться два грузовика-муковоза. Асфальтированные дороги вели с площади к производственным корпусам и подсобным помещениям.
Самым большим зданием на заводе был пятиэтажный главный корпус. Особенностью его архитектуры были не высокие потолки и не огромные окна, а пятый этаж, занимающий только среднюю часть здания. С земли этот этаж не было видно, и я до некоторых пор даже не подозревал о его существовании. На пятом этаже изготавливали торты – продукцию дорогостоящую, не подлежащую длительному хранению. Ниже был цех по изготовлению сувенирных пряников и шербета, еще ниже – основной пряничный цех, с тоннельной печью и складскими помещениями. Первый и второй этажи занимали цеха хлебопекарного производства.
Напротив главного корпуса был длинный одноэтажный цех по производству булочек и батонов. Там же стоял единственный на заводе автомат, выпекающий жареные трубочки с повидлом. За двумя основными цехами, на всю длину хлебозавода, шел двухэтажный корпус, в котором чего только не было! Начинался он со склада бестарного хранения муки, далее шли промышленные холодильники, склады, заводская столовая, вновь склады и подсобные помещения.
Практически весь второй этаж отводился для нового пряничного цеха с самым современным оборудованием, в основном импортного производства. Но этот цех бездействовал. После года работы нового пряничного цеха срочно вызванная из Москвы комиссия пришла к выводу, что фундамент здания не рассчитан на нагрузку, создаваемую современным оборудованием, и в любой момент может дать трещину или того хуже – может обвалиться потолок. Работу цеха немедленно прекратили, оборудование демонтировали, частично распихали по складам и пустым подсобным помещениям, а частично оставили ржаветь на улице, у забора со стороны железнодорожной линии.
Новый пряничный цех отоплением и горячей водой должен был обеспечивать отдельный теплоузел – самое последнее помещение во вспомогательном корпусе. За теплоузлом был бетонный забор, напротив него – булочный цех. Именно здесь, в бездействующем теплоузле, и покончил жизнь самоубийством главный инженер Горбаш.
Выйдя с проходной, я, поскальзываясь на замерзших за ночь лужах, пересек главную площадь, обогнул булочный цех и направился к теплоузлу. Двери в нем были раскрыты, у входа стоял молоденький лейтенант в новом форменном пальто, с кожаной папкой под мышкой.
– Привет! – панибратски сказал я, хотя видел его в первый раз.
– Гражданин, идите, откуда пришли, не мешайте работать! – нахмурился лейтенант.
– Я не гражданин, – улыбнулся я и достал служебное удостоверение. – Я из уголовного розыска Заводского РОВД.
– А здесь что делаешь? – удивился коллега, сразу перейдя на «ты».
– Живу я тут. На входе четырехэтажное жилое здание видел? Это общежитие. Моя комната выходит окнами на завод.
– А… тогда понятно, – протянул лейтенант.
– Ты, как я понял, участковый? Новенький, что ли? Я старого участкового видел. Усатый такой, майор. Ему на пенсию пора, а он все в участковых ходит. Залетчик, поди?
– Да нет, он нормальный мужик, но с понедельника в отгулах. Отпросился у начальства к родственникам в деревню съездить, а тут такое происшествие! Мой участок дальше, за промзоной. Частный сектор, склады, два магазина.
Лейтенант обернулся:
– Ты знал его? – кивнул он внутрь помещения. – Говорят, был большим начальником.
– Главный инженер. Это примерно как заместитель по оперативной работе в райотделе.
– О, тогда, конечно! – согласился участковый. – Представляю, если бы наш зам вздернулся, сколько бы беготни было.
Я двинулся внутрь. Участковый заградил мне путь.
– Ты что! – опасливо осмотрелся он. – Туда нельзя. До приезда оперативной группы велено никого не пускать!
– Перестань ерунду городить! Я что, первый раз на месте происшествия?
На правах старшего товарища, к тому же местного, я бесцеремонно отодвинул участкового и вошел в теплоузел.
– Ты бы на ветру не стоял! – посоветовал я. – Не май месяц. Просквозит, заболеешь, кто за тебя работать будет?
Участковый нехотя вошел, но не дальше, чем на два шага от двери. Я же прошелся вокруг валяющихся на полу козел, посмотрел на свисающее с потолка тело, ногой поддел брикет шербета.
– Не трогай здесь ничего! – испугался участковый. – Приедет следователь, узнает, что мы обстановку на месте происшествия изменили, нас обоих накажут!
– Погоди раньше времени жуть наводить! – грубо оборвал я его. – Здесь есть одна лишняя деталь.
Я поднял шербет, поднес к двери, чтобы получше рассмотреть на дневном свете.
– Так и знал! – воскликнул я. – Бракованная продукция!
Не успел участковый ахнуть, как я размахнулся и зашвырнул брусок на крышу булочного цеха. Одинокая ворона, бдительно контролировавшая территорию завода с крыши общежития, взлетела, дала круг над булочным цехом и спикировала на внезапно появившуюся поживу. Голубей, примостившихся на подстанции, шербет не заинтересовал.
– Ты с ума сошел? – в отчаянии застонал участковый. – Зачем ты вещественное доказательство выбросил?
– Помолчи и послушай! – властно велел я. – Я не первый день на заводе живу и знаю что к чему. Этот брикет успел плесенью покрыться, значит, украли его из варочного цеха не меньше недели назад. К покойнику он не имеет ни малейшего отношения. Следователь, когда приедет, обратит на брикет внимание и пошлет тебя искать, кто и когда его принес в это помещение. Даю гарантию, ты пробегаешь по заводу до глубокой ночи, но ничего не найдешь. Никто не признается, что украл шербет и хотел вынести с завода, но не смог. На нашем заводе мелкие кражи случаются. Здесь же не монастырь, где все – святые, здесь обычные люди работают. Дернул кого-то черт брикет хапнуть – подошел к проходной, увидел, что охрана на КПП усилена, и не стал рисковать. Вернулся назад, спрятал шербет здесь, в теплоузле.
– Как это вор в закрытое помещение смог попасть? – недоверчиво спросил участковый.
– Перед началом отопительного сезона слесари проверяли систему отопления и могли ворота на замок не закрыть. Тут мимо шел вор… Кстати, где замок? Как его открыли?
Лейтенант охотно поменял тему разговора. В мою версию о появлении в теплоузле шербета он не поверил, но для себя уяснил, что если он проболтается, то отвечать за утрату вещественного доказательства придется ему, а не мне, праздношатающемуся коллеге из другого отдела.
Пока участковый рассказывал, где был обнаружен замок, я обошел труп, всмотрелся в лицо главного инженера. Обычно повесившийся или повешенный выглядит отталкивающе, а иной раз просто омерзительно: высунувшийся синий язык, перекошенное болью лицо, и все такое, от чего у слабонервных случаются спазмы желудка. Горбаш в петле выглядел умиротворенно, словно исполнилось его давнее желание, и он наконец-то обрел вечный покой.
«Что-то тут не то! – подумал я. – Агония не зависит от воли человека. Как бы ни хотел расстаться с жизнью Владимир Николаевич, после потери сознания он бы не смог контролировать свои рефлексы. Язык у него высунут, но как-то странно, словно он хотел кого-то подразнить в последние свои секунды».
От плеча повесившегося до трубы под потолком было примерно полметра. Расстояние достаточное, чтобы самому завязать узел. В полутемном помещении я не смог рассмотреть веревку, но предположил, что она слишком тонкая, чтобы применяться для погрузочно-разгрузочных работ на заводе. Скорее всего, главный инженер принес ее с собой. Одет Горбаш был как обычно: серый костюм, белая рубашка, темно-синий галстук. Я ни разу не видел его без галстука и без пиджака. Рубашки он носил только белого цвета, всегда свежие, с чистым воротником. Итээровский шик, культура производственного поведения!
– Ты давно в уголовном розыске работаешь? – оторвал меня от осмотра участковый.
– Два с половиной месяца.
– Всего? – изумился лейтенант.
Он явно обиделся. По моему уверенному тону участковый решил, что я – мастер сыска, не успевший состариться на службе ветеран, а оказалось – его ровесник, в милиции без году неделя.
– К этим двум месяцам приплюсуй четыре года учебы в Высшей школе милиции.
– Так то учеба… – разочарованно протянул он.
– Это у тебя была учеба в институте, а у меня – служба. Кто нашел труп?
Лейтенант открыл папку, сверился с записями:
– Некто грузчик Бобров.
– Знаю такого. Со мной на одном этаже живет. Он ничего тут не трогал?
– Побожился, что только к телу подошел, пощупал ноги, убедился, что инженер мертв, и пошел руководству докладывать.
Я выглянул на улицу. Двое мужиков покуривали у стены булочного цеха в ожидании новостей. Группка женщин, сгорая от любопытства, стояла немного поодаль.
– Серегу Боброва позовите! – велел я, ни к кому конкретно не обращаясь.
В этот момент булочный цех обогнул милицейский уазик. Приехала опергруппа.
– Стоп! – успел крикнуть я. – Бобра не надо. В общаге с ним поговорю.
Автомобиль дежурной части Центрального РОВД остановился у входа в теплоузел. Из него вышли эксперт-криминалист с чемоданчиком, инспектор уголовного розыска и следователь, тридцатилетняя женщина с погонами старшего лейтенанта. Следователь заглянула в помещение и заявила, что трупом она заниматься не будет, не ее подследственность.
– Я вообще не понимаю, зачем мы сюда приехали? – сказала она. – Самоубийцами должен участковый заниматься, а дежурный нас послал.
– Алена, давай хоть труп осмотрим, – попросил инспектор. – Может, это вовсе не самоубийство.
– Ничего не знаю! – фыркнула следователь. – Если это убийство – вызывайте прокурора, если суицид – сами осмотр пишите.
Она села в уазик и больше наружу не показывалась. Минуты через две приехал судебно-медицинский эксперт на автомобиле, приспособленном для перевозки трупов.
Пока на улице шло препирательство, я продолжил изучение следов в теплоузле.
«Если в это помещение заходили только Горбаш и Бобров, то почему так много следов вокруг козел? Я близко не подходил, а на полу вся пыль в отпечатках обуви, все затоптано».
– Где Пименов? – спросил инспектор уголовного розыска, принявший руководство на себя. – Иди, сфотографируй следы на полу. О, а ты кто такой? Понятой? Сходи, погуляй пока. Мы тебя потом позовем, когда надо будет протокол подписывать.
– Я из уголовного розыска Заводского РОВД, – представился я.
– А здесь что делаешь? В общаге живешь? Тебя, поди, директор послал? Когда я жил в фабричном общежитии, точно такая же фигня была! Что бы ни стряслось, за мной посылают. Прибежит комендантша, глаза выпучит, пальцем в пол тычет: «Там, на первом этаже, мужики драться собрались, сходи разгони!» Или директор вызовет: «У нас в раздевалке прядильного цеха снова вор завелся. Опроси всех работников, будем эту сволочь вычислять». Так как, говоришь, тебя зовут, Андрей? Я – Максим Павлович. Ну что, православные, давайте работать! Пименов, ты фотки сделал? Ставьте козлы на место, будем труп снимать.
Я помог поставить козлы на ножки, для себя отметил, что они довольно тяжелые, одному перемещать эту громоздкую конструкцию неудобно.
Труп Горбаша положили на пол, судебно-медицинский эксперт осмотрел странгуляционную борозду, потрогал подъязычную кость.
– Самоубийство! – вынес он предварительное заключение.
– Я же говорила, что зря приехали, – подала голос из автомобиля следователь.
– Участковый, ты где? – спросил Максим Павлович. – Пиши протокол осмотра.
На морозе авторучка у участкового отказалась работать. Он попробовал отогреть ее дыханием, но тепла хватило только на две строки.
– Держи! – инспектор протянул ему карандаш. – Всему-то вас, молодежь, учить надо! Протокол осмотра напишешь карандашом, в отделе ручкой буквы обведешь. Доктор, ну что, начнем? Как говорится: «На трупе одето…» О, Андрей, ты где? Подскажи, покойник всегда так одевался или у него сегодня праздник был? Кстати, когда он помер?
– Вскрытие проведу – скажу, – пробурчал эксперт.
«Странно все это, – размышлял я, наблюдая за действиями судебного медика. – Козлы в известке, в засохшем растворе, а одежда у инженера чистая, словно он занес козлы в теплоузел на вытянутых руках. Или они тут стояли, и он только подвинул их под трубу? Еще странность: у Горбаша была всегда до блеска начищенная обувь, а тут носки туфель потерты, словно его, пьяного, волокли под руки по асфальту».
– Андрей! – позвали меня с улицы.
Я вышел. Малознакомый заводской парень сообщил: «Тебя Татьяна у столовой ждет».
Татьяной, просто Татьяной, без отчества, звали технолога пряничного цеха Татьяну Авдеевну Маркину, тридцатидвухлетнюю симпатичную женщину, мать-одиночку, проживающую на втором этаже нашего общежития. Почему ее, единственную из руководства завода, звали исключительно по имени, я не знал.
– Андрей, – вполголоса сказала Татьяна, – директор говорит, может, стол накрыть надо? Чай, булочки, орешков вазочку насыплем, сгущенки нальем.
– Брикет шербета есть? – вместо ответа спросил я. – Подели брикет на четыре части и принеси сюда. Опергруппа на месте происшествия долго не задержится, так что одним брикетом обойдемся.
Я вернулся к теплоузлу, потолкался возле трупа, через плечо участкового прочитал протокол осмотра, составленный под диктовку судебного медика.
От погрузки тела на носилки мне удалось увильнуть. Пока инспектор ОУР опрашивал грузчика Боброва, первым обнаружившего Горбаша, я сходил к столовой, забрал брикет, аккуратно завернутый в вощеную бумагу.
– Ну что, поехали? – спросил Максим Павлович, закончив работу.
Я молча протянул ему сверток. Инспектор осторожно развернул уголок, с наслаждение понюхал содержимое.
– Сегодня сделали? – спросил он. – Сразу чувствуется – свежак! В магазине такой никогда не купишь. Спасибо, брат!
Он похлопал меня по плечу, сел в автомобиль и укатил со всей свитой в райотдел. Объяснять коллеге, что первая партия шербета еще остывает в формочках, я не стал.
По пути в общежитие я велел Боброву зайти ко мне вечером, сообщил Татьяне, что ее подарок всех устроил, и пошел к директору.
– Ну как? Что с шербетом? – с порога спросил он.
– Вороны на крыше второго корпуса доедают. Шербет на морозе затвердел, как кирпич, но по виду свежий был, наверное, вчерашний.
– Что твои коллеги говорят? Это самоубийство?
Я, не вдаваясь в подробности, пересказал выводы судебного медика. Полубояринов посокрушался, что его деятельный и образованный инженер совершил такой необдуманный поступок, и отпустил меня. Поднявшись в комнату, я вскипятил чай, закурил, сел у окна.
«Слава богу, что вчера я целые сутки был у всех на виду, – подумал я. – Покончил с собой Горбаш или ему помогли, вчера он вздернулся или сегодня рано утром – мне без разницы. Меня в это время на заводе не было».
Глава 3
Во время учебы я твердо решил, что буду жить отдельно от родителей. В Омске я привык к независимости, к отсутствию диктата в быту. В школе я мог распоряжаться свободным временем по своему усмотрению, а в родительской квартире – нет. Я не мог привести в гости понравившуюся девушку и уединиться с ней на всю ночь или пригласить друзей выпить водки после работы или удачно выполненного задания.
Мои родители считали, что интимные отношения до брака – это разврат, я же был уверен, что пуританское воздержание и условности со штампом в паспорте – средневековый идиотизм. Нравится тебе ухаживать за женщиной три года, кто же не дает? Гуляй с ней по городу, дари цветочки, сочиняй стихи. Вольному – воля! Но если вас влечет друг к другу, и девушка ждет от тебя любви и ласки? Что делать? Соблюсти условности и рассказать ей о творчестве Бродского? Я бы рад рассказать, но толком не знаю, кто этот мужик. Вроде бы поэт, о котором сроду бы никто не знал, если бы его стихи цензура не запрещала.
Как-то мне, соблюдая правила конспирации, дали прочитать одно его стихотворение. Я был изумлен. В этом опусе не было ни матерных слов, ни проклятий в адрес советской власти, ни пошлых намеков. За что его запретили, для меня осталось загадкой.
Со спиртным та же история – одни условности и ограничения. Мать и отец, демонстрируя редкое единодушие, считали, что употреблять спиртные напитки можно только по праздникам. Полностью согласен, но что делать, если душа просит праздника, а в календаре его нет? Словом, жил бы я один, творил бы что хотел, а в родительской семье меня ожидали только условности и запреты.
Перед окончанием школы, во время стажировки, я объехал всех начальников райотделов и предложил свои услуги. Вкратце мое предложение выглядело так:
– Я буду служить вам лично и возглавляемому вами райотделу с преданностью цепного пса. Я буду работать сутками, не считаясь с личным временем. Мне ничего не надо взамен. Кроме отдельной жилплощади. Какой угодно, но отдельной.
Начальники РОВД вздыхали и с сожалением объясняли, что готовы взять меня хоть завтра, но жилье предоставить не могут, так как я прописан у родителей и в улучшении жилищных условий не нуждаюсь.
Последним я встретился с начальником Заводского РОВД Вьюгиным Сергеем Сергеевичем. Выслушав меня, он задал несколько профессиональных вопросов, проверяя, насколько я готов к самостоятельной работе и будет ли с меня толк в будущем.
– Ну что же, ты мне подходишь, – сказал Вьюгин. – С распределением вопрос я решу, с жильем помогу. В заводское общежитие пойдешь? Комната отдельная, удобства на этаже.
В этот миг мне показалось, что я ни о чем в последние годы так не мечтал, как о комнате в рабочем общежитии. Я начал сбивчиво благодарить Вьюгина, но он, коварно усмехнувшись, продолжил:
– У меня тоже будет условие. За отдельное жилье ты будешь обязан отработать в моем отделе пять лет. Если в течение этого срока тебе предложат пойти на повышение в другой орган милиции, ты откажешься. Откажешься, даже если на новом месте предоставят отдельную квартиру и досрочно повысят в звании. С ответом не спеши, подумай.
– Мне нечего думать. Я согласен.
– Тогда бери лист бумаги и пиши расписку.
Я взял авторучку, но Вьюгин остановил меня:
– Погоди, так дело не пойдет. Ручкой любой дурак написать сможет. Ты кровью расписку напиши, тогда я поверю, что ты – хозяин своему слову.
Честно говоря, я написал бы расписку хоть кровью, хоть кровавыми слезами. Отдельное жилье того стоило. На общих условиях точно такую же комнату мне предоставят лет через шесть-семь, а тут – сразу, в обмен на какую-то расписку… Но как писать кровью? Проткнуть палец иголкой и начать кровью выводить на бумаге расползающиеся буквы? Насколько одного прокола хватит? И еще вопрос: где эту самую иголку взять?
Я размышлял не более секунды:
– Сергей Сергеевич, я напишу расписку авторучкой, а подпись, если надо, поставлю кровью.
Вьюгин засмеялся:
– Зайди на той неделе, предметно поговорим, обсудим сроки. Расписку можешь не писать. Я тебе на слово верю.
С первых дней работы в уголовном розыске шефство надо мной взял заместитель начальника РОВД по оперативной работе Геннадий Александрович Клементьев. Как-то, находясь в хорошем расположении духа, он завел разговор о расписке:
– Если бы ты, не задумываясь, стал писать расписку кровью, то Вьюгин тут же выгнал бы тебя и запретил впредь твое имя в своем присутствии упоминать. Доверчивым простачкам, придуркам и подхалимам в милиции не место!
В следующую нашу встречу Вьюгин сообщил, что как только я выйду на работу, мне предоставят комнату в общежитии хлебокомбината. С кем он договаривался и на каких условиях, я не знаю, но территориально хлебокомбинат располагался в другом районе, то есть обычным, законным путем, через райисполком, решить вопрос о предоставлении мне жилья было невозможно.
Получив диплом и лейтенантские погоны, я вернулся в родной город. Впереди меня ждал месяц отпуска, который я планировал посвятить сладостному безделью: чтению детективных романов на диване, встречам с друзьями и знакомыми, пиву, прогулкам по набережной, флирту с хорошенькими девушками.
Но не тут-то было! На дворе стоял август, и этим все сказано. К августу у родителей на мичуринском участке накопилось море работы, которая без меня простаивала. Пару дней я безропотно помахал тяпкой, вскопал грядки, помог починить крышу. Потом начал звереть от отсутствия цивилизации и развлечений.
Мичуринский участок – это заповедный уголок средневековья, где современный городской человек приобщается к труду и быту крепостного крестьянина начала XIX века. Даже хуже! У крестьянина была лошадь, а на мичуринском все приходилось делать руками. Крепостной крестьянин после отработки барщины мог заняться своим хозяйством, я же увильнуть никуда не мог.
Вскоре отец и мать вышли на работу, а меня оставили охранять урожай. Пожив сутки один, я чуть не взвыл от отчаяния: за что мне такое наказание – куковать одному в безлюдном массиве крохотных домиков? Я же четыре года в Омске не на землекопа и не на сторожа учился. На кой черт мне месяц жизни на «свежем воздухе» убивать? Здесь, в мичуринских садах, словом не с кем переброситься. Через забор видны одни лишь спины и зады копошащихся в земле немолодых женщин в синем нейлоновом трико. Вся молодежь в городе, а я – в изоляции, даже магазина рядом нет и пива выпить не с кем.
В субботу, воспользовавшись приездом родителей, я вырвался в город, приехал в райотдел и попросился выйти на работу до окончания отпуска.
«Потом как-нибудь отгуляю!» – решил я и по неопытности ошибся.
Отгулять оставшиеся двадцать дней мне в этом году не дали, а на следующий год про них «забыли».
Вьюгин был в отпуске. Отделом руководил Клементьев. Узнав о моей необычайной просьбе, он искренне посмеялся:
– Допекло тебя сельское хозяйство? Понимаю. Жизнь на мичуринском хуже, чем в деревне. Там городские девки на каникулы приезжают, танцы в клубе, винишко в сельмаге, а тут – работа от зари до зари и радикулит в знак благодарности. На работу можешь завтра выходить, а с жильем как поступим? Ключи раньше сентября ты не получишь.
Ответ я продумал заранее, даже съездил на хлебозавод, посмотрел на общежитие.
– Мне могут предоставить в этой же общаге койко-место?
– Ты пойдешь жить в одну комнату с заводской молодежью? – с сомнением спросил он.
– Геннадий Александрович! Я четыре года прожил в мужском коллективе. Я знаю, как пахнут пропотевшие портянки и какая вонь стоит в казарме под утро. После школы милиции меня ничего не смутит, я в любой коллектив впишусь.
– В среду зайди, я скажу, к кому в общежитии обратиться.
Родители, узнав о моей подлой измене, разобиделись. Они распланировали строительно-полевые работы до самого сентября, а тут безропотный работник взял и смылся, выдумав неправдоподобный предлог – начальство из отпуска отзывает!
– Ты еще ни дня не работал, зачем тебя отзывать? – дрожащим от негодования голосом возмутился отец. – Ты что, специалист, без которого производство встанет? Так и скажи: «Не хочу родителям помогать! Пусть они зимой голодают».
Песенку о голодной зиме я слышал с самого детства, так что впечатления на меня она не произвела. Живут же наши соседи по площадке без мичуринского участка – и ничего, в голодный обморок не падают.
– Андрей, с работой понятно, – сказала мать. – Вызвали так вызвали. В общежитие-то зачем уходить? Тебя что, из дома кто-то гонит? Ты же не знаешь, какие соседи тебе попадутся. Обворуют, без последних штанов останешься.
Неприятный разговор закончился тем, что мать всплакнула, а отец демонстративно перестал со мной разговаривать. Ну и ладно! Свободы без конфликтов не бывает. Хочешь быть независимым – не поддавайся на уловку со слезами, иначе никогда понравившуюся девушку домой не приведешь и стопку водки с усталости не выпьешь.
Старший брат был в отпуске, в другом городе, у родителей жены. Приехав, он попытался наставить меня на путь истинный, но я его даже слушать не стал.
– Юра, о каком долге перед родителями ты мне талдычишь? Я на этом мичуринском участке с пятого класса барщину отрабатываю. Как купили эти шесть соток, так у меня ни одного нормального лета не было. Все мои ровесники в городе веселятся, а я мотыгой в руках картошку окучиваю. Уехал в Омск, и что-то изменилось? Как отпуск – так на участке работы невпроворот. А смысл-то какой в этой работе? Вырастить кривой огурец и его всем показывать: «Посмотрите, какой замечательный огурчик! Без всякой химии выращен». Меня в школе милиции черт знает чем четыре года кормили, может быть, одной химией пичкали, так какой мне прок от одного огурца? Он что, здоровья прибавит? Один огурец на весь год? Сам его ешь.
Брат был необидчивый, поворчал и перестал. Он, кстати, с охотой на мичуринский приезжал, но появлялся там только раз в неделю, на выходные. В субботу к обеду приедет, в воскресенье утром сумку «дарами природы» набьет – и домой, готовиться к новой трудовой неделе.
Брату всегда везло с мичуринским. В десятом классе Юрий заявил, что будет поступать в институт. Вся родня была в восторге, так как в нашем роду еще никого не было с высшим образованием. Для успешного поступления его освободили от всех домашних дел и полевых работ. Юра поступил и последующие пять лет на мичуринском появлялся наскоками. Каждое лето он был занят: то готовился к сессии, то сдавал экзамены, то уезжал в стройотряд. А мотыга и лопата доставались мне.
Уладив дела с родственниками, я заселился в общежитие и первым делом попытался пройти на территорию завода, но вахтерша меня не пустила:
– Ты еще не наш жилец, так что и делать тебе на заводе нечего.
Я подождал, когда получу отдельную комнату, и повторил попытку, но меня вновь не пустили, сославшись на устное распоряжение главного инженера Горбаша. По моим наблюдениям, Горбаш был «серым кардиналом» в руководстве завода и его мнение решало все.
Директор Полубояринов был каким-то полумифическим существом, неуловимым Джо. Он постоянно отсутствовал на рабочем месте: то выезжал в управление хлебопекарной промышленности, то выбивал с мелькомбината дополнительные лимиты муки, то целыми днями «устанавливал взаимодействие» с предприятиями розничной торговли. Производственным процессом на заводе руководили два его заместителя: главный технолог и главный инженер, неизвестно по какой причине ополчившийся на меня.
Собравшись с духом, я пошел на прием к Горбашу. Для солидности надел форму, начистил до блеска ботинки.
Владимиру Николаевичу Горбашу было пятьдесят три года. Он был среднего роста, обычного телосложения, с чертами лица настолько грубыми, что казалось, это не лицо, а маска, вырезанная из цельного куска дерева. Глубокие морщины избороздили не только лоб и щеки Горбаша, они пролегли даже в уголках губ и на подбородке, отчего у главного инженера всегда было недовольное выражение лица. Говорил он короткими обрывистыми предложениями. Если внимательно прислушаться к его речи, то можно было заметить, что иногда Горбаш вместо звука «г» произносил мягкое «х», что выдавало в нем уроженца юга России или украинца.
Горбаш встретил меня неприветливо. Выслушав мою просьбу, он ответил отказом.
– То, что вы проживаете в нашем общежитии, еще ни о чем не говорит. Вас заселили сюда в обход установленных правил, по блату, так сказать. У нас ползавода нуждается в улучшении жилищных условий, но мы вынуждены идти на уступки и предоставлять комнаты… – Горбаш явно хотел сказать «всяким сомнительным личностям», но глянул на погоны и решил, что хамить представителю власти не стоит. – На нашем заводе, – продолжил он, – никто не учитывает продукцию поштучно. Зайдя на территорию завода, вы сможете съесть булочку, или отломить ломоть хлеба, или набить карманы пряниками. Да что говорить! В нашей столовой хлеб бесплатно на столах лежит, и он, этот хлеб, предназначен исключительно для наших работников.
– Прошу прощения, – спокойно, без вызова сказал я. – Вы что, серьезно полагаете, что я, офицер милиции, пойду пряники на заводе воровать?
– Я этого не говорил, – выкрутился инженер. – Я хотел сказать, что все наши сотрудники проходят специальную медицинскую комиссию и имеют допуск к работе с пищевыми продуктами. У вас есть такой допуск? Далее. На заводе много машин и механизмов, представляющих опасность для постороннего. Правила внутреннего распорядка требуют, чтобы каждый работник завода прослушал курс по технике безопасности, сдал зачеты и получил удостоверение установленной формы. Вы имеете такое удостоверение?
– У меня нет ни медицинской книжки, ни удостоверения по технике безопасности. Но в душ-то я могу сходить? Для посещения душа не надо никаких курсов проходить?
– Душевые кабины предназначены исключительно для работников завода. Располагаются они на территории предприятия. Для того чтобы вам выйти за проходную, необходимо иметь санитарную книжку…
– Спасибо, я все понял! – Я не стал дослушивать Горбаша и вышел.
Главный инженер лукавил, если не сказать – врал как сивый мерин. Я двадцать дней прожил в одной комнате с заводскими рабочими. По вечерам от нечего делать они рассказывали мне о жизни и обычаях хлебозавода. Так, например, я точно знал, что ни грузчики, ни технички специальной медицинской комиссии не проходили, справки об отсутствии сифилиса или чесотки не приносили. При устройстве на работу зачет по правилам техники безопасности принимал главный механик. Обычно он говорил: «Не суй пальцы куда не надо!» – и предлагал расписаться в журнале инструктажа по безопасности. С этого момента, если кто-то из работников получит увечье на производстве, то виноват будет исключительно он сам. Подпись в журнале есть? Есть. Значит, инструктаж прошел.
После разговора с Горбашом я весь вечер простоял в своей комнате у окна, наблюдая, как на территорию завода въезжают хлебовозки, как взад-вперед снуют работники второй смены.
«Формально Горбаш прав, – размышлял я. – Правила техники безопасности не объедешь и не проигнорируешь. Мне ничего не стоит поставить подпись в журнале главного механика, но как я ее поставлю, если я не являюсь работникам завода, и мне, по идее, делать на его территории нечего? Но, черт возьми, через три комнаты от меня живет Горелова Зинаида, незамужняя сорокапятилетняя кладовщица с промтоварной базы. Она чуть ли не каждый вечер в душ ходит. То есть ей можно, а мне нет? Галька-парикмахерша на заводе постоянно обедает – и ничего, ее главный инженер куском хлеба не попрекает. Нет, товарищ Горбаш, так дело не пойдет! Я научу тебя уважать советскую милицию. Сам ко мне явишься и на завод пригласишь».
Перед тем как лечь спать, я понял, как мне сломить главного инженера. Помочь в этом мне должны были особенности советской экономики и трудовой коллектив хлебозавода.
Глава 4
Мое общежитие находилось на территории хлебокомбината, который все, даже его работники, называли «хлебозавод», что было неправильно, но произносилось короче и удобнее.
Хлебозавод – это предприятие, на котором выпускается один или два вида продукции. Как правило, хлеб, формовой или подовый, сухари из него. На четвертом хлебозаводе, расположенном в квартале от Заводского РОВД, выпускался подовый хлеб – посыпанные сверху мукой круглые булки по 13 копеек. На первом хлебозаводе выпекали только формовой хлеб из пшеничной муки стоимостью 18 копеек.
Ассортимент продукции на нашем хлебокомбинате был в разы больше. В хлебопекарном цехе выпускался формовой хлеб из пшеничной муки высшего сорта. В пряничном цехе изготавливали пряники ванильные и лимонные. Этажом выше наполняли начинкой пряники «Сувенирные» и варили шербет. На пятом этаже главного производственного корпуса изготавливали торты. В булочном цехе пекли батоны по 22 копейки, сдобные булочки, соединенные по четыре штуки, булочки «Майские» с повидлом по 7 копеек штука и булочки, покрытые белой глазурью. Здесь же стоял автомат, изготавливавший жареные трубочки с повидлом, по вкусу и внешнему виду напоминающие длинный пончик с начинкой. Есть эти трубочки можно было только в горячем виде: остывая, они покрывались тонким слоем жира и становились невкусными. В новом пряничном цехе выпускали пряники по итальянской технологии, но долго цех не проработал, и этот вид продукции был снят с производства.
Для изготовления всех этих вкусностей на завод завозили огромными автомобилями-муковозами муку, яйца – сотнями штук, арахис – мешками, сахар – десятками мешков, вино – по фляге в день, коньяк – полбутылки на смену, сгущенное молоко – шесть фляг на смену, повидло – в огромных жестяных банках, дрожжи в специальных пачках, эссенции ванильные и лимонные, соль, соду и еще много-много всего в небольших коробочках и баночках.
Зайдя на хлебозавод, можно было наесться до отвала, и на количестве выпускаемой продукции это никак не сказывалось.
Но это еще не все. Хлебокомбинат стоял впритык с винзаводом. Между рабочими предприятий шел обмен продукцией, так что вино на нашем заводе не переводилось, а иногда просто рекой текло.
На проходной, рядом с помещением вахтерши, на стене висел плакат «План XI пятилетки выполним досрочно!». Данный лозунг никак не подходил к хлебокомбинату. Что значит «выполним досрочно»? Выпустим больше хлеба и булочек? А если их не раскупят, куда потом девать? На корм скоту? А как же с призывом партии «Экономика должна быть экономной»?
Если наглядная агитации должна отражать жизнь предприятия, то на проходной следовало бы вывесить плакат «Ты здесь хозяин, а не гость! Тащи с работы каждый гвоздь!». Гвозди на хлебозаводе не выпускали, зато остальную продукцию тащили, кто как мог.
На заводе было не принято уходить со смены с пустыми руками. Даже проживающие в общежитии холостяки по окончании смены набивали карманы продуктами. Семейные тащили больше. Слесари и грузчики пришивали с внутренней стороны верхней одежды длинные карманы, в которые засыпали сахар, жареный арахис и даже соль, в зависимости от того, какие продукты дома заканчивались. Яйца выносили в носках, по две штуки в одном носке. Женщины шили продолговатые мешочки, которые прицеплялись к поясу и свободно свешивались под юбкой между ног. В мешочки входило больше, чем в карманы слесарей. Вино выносили в грелках, шербет – в карманах. Булочки и хлеб на заводе не воровали, так как нести их неудобно, а места они занимают много. Лучше лишний раз сахаром карманы наполнить, чем копеечную сайку пронести.
Казалось бы, если все воруют, то от завода ничего не должно остаться. Однако нет, хлебокомбинат работал, выполнял и перевыполнял план. Причины этой аномалии кроются в особенностях советской плановой экономики.
Во-первых, сырья на хлебокомбинат поставляли процентов на семь больше, чем нужно для выпуска продукции. Излишние проценты заранее учитывались как будущий брак, но на заводе брака было не более одного процента, то есть шесть процентов сырья являлись излишками, которые можно было пустить на перевыполнение плана, а можно было использовать для улучшения благосостояния собственной семьи.
План на заводе перевыполняли на процент в год, не больше. В руководстве хлебокомбината дураков не было. Всем известно, что если сегодня ты перевыполнишь план на пять процентов, то на следующий год эти пять процентов заложат в план, который придется перевыполнять за счет изыскания внутренних резервов. Проще дать возможность рабочим растащить излишки, чем радовать главк стахановскими показателями.
Еще момент, который лично меня поначалу ставил в тупик. В кондитерском цехе для производства тортов изготавливали однородный меланж из яичных белков, а желтки считались отходами производства. Сочные и питательные желтки – в отходы? До такого могли додуматься только у нас в стране.
Во-вторых, на страже социалистического имущества стояла советская мораль. Любому из заводских рабочих со школьных времен родители и учителя внушали: воровать нехорошо! А знаменитая фраза из кинофильма «Вор должен сидеть в тюрьме»? Кто поставит эту истину под сомнение? Никто. В то же самое время лозунг «Все вокруг советское, все вокруг мое» воспринимался в прямом смысле слова: если на заводе все мое, то почему я должен выходить с пустыми карманами? «В хорошем хозяйстве даже ржавый гвоздь пригодится». «Стырил – неси домой!»
Казалось бы, как человек, ворующий продукцию со своего предприятия, может внушать своим детям уважение к чужой собственности и призывать к строгому соблюдению законов? Тут все просто: советская мораль делила имущество на чужое и государственное. Чужое, принадлежащее другому работнику или находящееся под охраной государства, брать нельзя, а то, что принадлежит этому же государству, но никем не охраняется – можно. Залезть в охраняемый склад – преступление, а прихватить десяток пряников после окончания смены – это даже не проступок, это забота о детях.
«Когда от многого берут немножко – это не грабеж, а просто дележка». Разграничение украденного и взятого для улучшения благосостояния одной отдельно взятой советской семьи происходило так: все, что у тебя спрятано под одеждой, это для детей, если что-то найдут в сумке – кража. Переброс продукции через забор – тяжкое преступление, независимо от количества украденного. За булку хлеба, переброшенную сообщнику за забором, увольняли без разговоров.
На территорию завода заходила железнодорожная ветка, закрывавшаяся на двухстворчатые металлические ворота. Под воротами свободно мог пролезть мужчина средней комплекции, а можно было просунуть мешок с мукой. Никто из работников хлебокомбината даже близко не подходил к воротам. Если подошел – значит, готовишься что-то украсть, а вору в честном коллективе не место.
Но как сохранить производство, если всем вдруг захочется унести по паре яиц? Тут на выручку социалистической экономике приходили обычаи и запреты, неукоснительно соблюдавшиеся на любом предприятии.
На четвертом этаже главного корпуса располагался варочный цех. Посреди него стоял котел метра два диаметром и больше метра высотой. По центру котла находился вал с лопастями, приводимый в движение электродвигателем. Каждое утро в котел заливали две сорокалитровые фляги сгущенного молока, доливали обезжиренное молоко, патоку, сахар, какао-порошок и варили шербет.
В зависимости от плана выпуска продукции шербет мог быть с жареным арахисом или без него, но с большим добавлением какао-порошка. Готовый продукт разливали в формочки, напоминающие бруски с золотом. Теоретически в варочный цех мог зайти любой работник завода, но обычаи предприятия запрещали находиться в цеху посторонним. Правом входа в варочный цех пользовались только руководство предприятия, технолог пряничного производства, слесарь, обслуживающий котел, электрик, сменные грузчики, работницы цеха и уборщицы производственного помещения.
Утром два грузчика вносили в цех фляги, переворачивали их в котел и ставили кверху донышком «доиться». С каждой фляги в заранее приготовленные емкости набегало по литру сгущенного молока. По обычаю, литр забирала технолог Татьяна, пол-литра доставалось дежурной варщице, еще пол-литра – мужикам: слесарям, электрикам и грузчикам. После разлива шербета по формочкам в котле оставалось граммов двести жидкого шербета. Им распоряжалась женщина, которая мыла котел.
Из готовой продукции мужики имели право забрать четыре брикета, варщица – один. Татьяна и руководство завода готовый шербет не брали. Варщице каждый день по брикету шербета ни к чему, и она обменивала его на яйца или другие продукты. Мужики меняли шербет на спиртное. Рабочие с винзавода давали за два шестисотграммовых брикета ведро вина емкостью 12 литров. Обычаи и запреты охраняли выпускаемую варочным цехом продукцию и в то же время без всякого ущерба для производства давали возможность «подкормиться» целой смене. По такому же принципу работали все цеха хлебокомбината.
Единственным исключением был обычай утреннего опохмела, в котором принять участие мог любой работник, но этим правом никто не злоупотреблял. «Опохмел» происходил с соблюдением строгих правил, нарушение которых считалось вызовом обществу, высшей степенью хамства.
Для производства сувенирных пряников каждое утро две дюжие тети получали на складе двадцать литров вина в тридцатилитровом алюминиевом баке с ручками. Не останавливаясь, они проносили бак через весь цех, к столам, где готовые коржи смачивались вином и передавались на другой этаж – для наполнения начинкой и покрытия глазурью.
Пока женщины несли бак, любой страждущий мог подойти сзади и зачерпнуть кружку. Если желающий опохмелиться промахивался и вместо целой кружки подцеплял только жалкие капли, это были его проблемы. Второй раз подходить к баку или преграждать тетям путь было строго запрещено.
Вообще-то вина на заводе было вдоволь, но иногда с вечера мужики все выпивали и до обеда, до нового обмена с рабочими винзавода, опохмелиться было нечем. Кто не мог ждать, шел в пряничный цех, подцеплял кружечку, тут же выпивал, закусывал вчерашним пряником и шел работать.
Еще один строгий обычай касался готовой продукции. Никто не запрещал взять булку хлеба или майскую булочку и съесть ее в подсобном помещении, запивая горячим чаем. Но взять булочку можно было только с транспортерной ленты, пока она не попала на склад готовой продукции. С лотков брать хлеб категорически запрещалось. Хочешь булочку – хватай ее, пока она горячая едет по цеху. Как только лента вышла в склад, к булочке прикасаться не смей! Она уже перешла в ведение экспедиторов и занесена в отчет о выполнении задания по выпуску хлебопродуктов.
Как-то я поинтересовался у Татьяны, почему оставшееся во флягах сгущенное молоко нигде не учитывается. Она удивилась такому вопросу и пояснила, что по правилам техники безопасности пустую флягу над котлом держать нельзя. Как только основная масса сгущенки перелита в котел, флягу надо помыть и подготовить к сдаче на склад.
– Таковы особенности производства шербета, – улыбнулась технолог.
– Нет, это особенности нашей экономики, – не согласился я. – Там – желтки в технологическую цепочку не вписываются, тут – сгущенка на стенках фляги остается. Любой капиталист при таком подходе к делу давно бы уже в трубу вылетел.
Татьяна улыбнулась и вечером подарила мне литр сгущенного молока, чтобы я наглядно убедился в преимуществах социалистического хозяйствования. Аргумент был убедительным, просто неоспоримым. При капитализме мне сгущенку никто бы не подарил.
И вот к этому социалистическому хозяйствованию, к этому Клондайку, полному румяных булочек, яиц, жареного арахиса и шербета, какой-то Горбаш не желал меня допустить. Это для него завод был просто предприятием, а для меня за проходной открывались райские кущи, мир деликатесов и сказочного изобилия. Естественно, с таким положением дел я смириться не мог.
Глава 5
С просьбой помочь решить вопрос с Горбашом я обратился к Клементьеву.
– Черт с ним, я понимаю заботу главного инженера о сохранности продукции, – объяснял я. – Но как быть с душем? Общежитие построили в начале 1960-х годов по проекту, разработанному в конце 1950-х годов. В те годы, как я понимаю, общежитие считалось временным жильем, чем-то вроде ночлежки. Питаться рабочие должны были в столовых, а мыться – в общественных банях или на производстве. В нашем общежитии нет ни столовой, ни душа. Жильцы, у которых нет доступа на завод, вынуждены ходить в баню, расположенную за пять кварталов от общежития. У них есть время по баням ходить, а у меня – нет. Я целыми днями на работе, по выходным то дежурство, то усиление. Я скоро грязью зарасту, коростой покроюсь. Вши заведутся!
Клементьев засмеялся:
– Ты меня вшами и блохами не пугай! Помню послевоенные годы. У одного ребенка в группе в детском саду вшей найдут – тут же вызывают медсестру с машинкой для стрижки волос, и всех – и мальчиков, и девочек наголо стригут! Бывало, придет мамаша за дочкой, увидит ее лысую и только руками разведет: отдавала девочку с косичками, а назад получила мальчика со стрижкой «под Котовского». И ничего, никто не возмущался. Гигиена – прежде всего! А как эту гигиену соблюдать, если обычное хозяйственное мыло дефицитом было, а уж про «дустовое» и говорить нечего?
Геннадий Александрович вызвал начальника отдела БХСС капитана милиции Задорожного.
– Вадим Сергеевич, надо Андрею помочь с заводом, а то он в душ сходить не может, грязью потихоньку зарастает, того и гляди, вшей в РОВД принесет.
– Пускай наголо подстрижется, – не задумываясь, посоветовал Задорожный.
– Вадим, ты сам понимаешь, что чепуху городишь? – рассердился Клементьев. – Я уже дважды сталкивался со слухами, что мы на работу ранее судимых принимаем, чуть ли не с зоны в милицию молодых парней приглашаем. Ты хочешь эти слухи подтвердить?
– Да я… – стал оправдываться Задорожный.
Клементьев его даже слушать не стал:
– Представь, ты идешь по городу и встречаешь лысого молодого человека. Что ты о нем подумаешь? Что это новобранец, призывник или бывший зэк освободился и еще волосы отрастить не успел. Андрею надо помочь, тем более что его план очень даже реалистичен.
Выслушав меня, Задорожный застонал:
– Представляю, какой хай центральщики поднимут! Скажут: «Что за дела, кто вам дал право на нашей территории спецоперации проводить?»
– Кто с кем разбираться будет – это не твоя забота, – жестко отрезал Клементьев. – Я с начальником Центрального РОВД договорюсь, объясню ему ситуацию. Здесь дело принципа, а не гигиены или десятка пряников. Если к нашему сотруднику относятся как к бесправному бродяге, то мы должны поставить зарвавшегося наглеца на место. Сегодня не отреагируем – завтра с нами считаться никто не будет, каждая вахтерша станет требовать пропуск на завод.
С великой неохотой Задорожный выделил мне двух инспекторов БХСС. Автобус для мероприятия на ближайшей автобазе заказал Клементьев. По его же приказу в мое распоряжение поступили три инспектора уголовного розыска и два милиционера ППС. Рядом с хлебокомбинатом занял пост экипаж вневедомственной охраны. Пеший патруль был выставлен у железнодорожных ворот, ведущих на завод.
В среду после обеда автобус встал напротив заводской проходной. В шесть вечера первые работники пошли домой. На выходе с предприятия милиционеры ППС приказали им зайти в автобус, где мои коллеги из уголовного розыска провели личный досмотр. Из десяти работников у шестерых обнаружили ворованную продукцию. Инспекторы БХСС тут же, в автобусе, составили административные протоколы о мелком хищении. После небольшого замешательства с завода попытались выйти несколько женщин. Всех их обыскали, похищенную продукцию изъяли.
На хлебокомбинате работал шестидесятилетний жестянщик по прозвищу Шаляпин. Дважды в неделю, к концу рабочего дня, он напивался до скотского состояния, выходил из мастерской, пел арию из какой-нибудь оперы, садился на велосипед и ехал домой. У подъезда его поджидали сыновья, снимали с транспортного средства и укладывали спать. Самостоятельно слезть с велосипеда Шаляпин не мог, и если останавливался, то падал и ползал на четвереньках по земле, пока сердобольные прохожие не помогали ему подняться и вновь сесть за руль. Вахтерши, заслышав пение Шаляпина, приоткрывали ворота, чтобы жестянщик мог беспрепятственно выехать на улицу. Что интересно, по пути домой Шаляпин проезжал несколько перекрестков и ни разу не попал в дорожно-транспортное происшествие. Его «автопилот» был настроен безупречно.
В среду Шаляпин напился, исполнил арию Мефистофеля из оперы «Фауст» и поехал домой. Вахтерша ворота открывать не стала, побоявшись милиции. Жестянщик, не ожидавший такого подвоха, затормозить не успел и на полном ходу врезался в ворота, упал и, не вставая с земли, запел хорошо поставленным голосом о дружбе короля и блохи. Его пение послужило предупреждением всему хлебозаводу: «На проходной облава! Шаляпину ворота не открыли».
Как по команде, работники, прихватившие кое-что «для дома, для семьи», повернули назад – раскладывать похищенное по местам.
Во время мероприятия я молча стоял у автобуса, курил, наблюдал за суетой на заводе. В семь часов я скомандовал «Отбой!», отпустил коллег и отправился в общежитие.
В девять вечера в дверь комнаты осторожно постучались. Я открыл. На пороге стоял незнакомый парень, как оказалось впоследствии, слесарь из пряничного цеха по фамилии Крюков. Путаясь в словах, волнуясь от важности порученного задания, он выпалил скороговоркой:
– Там, это… там, короче… там с тобой, то есть с вами, там, короче, поговорить хотят.
Не задавая лишних вопросов, я обулся и пошел вслед за сопровождающим на территорию завода. Вахтерша на проходной при моем появлении отвернулась в сторону и демонстративно стала что-то искать на столике с чайными чашками. Всем своим видом она показывала: «Ничего не видела! Отвлеклась».
Крюков привел меня в подсобное помещение рядом с входом в булочный цех. Эту подсобку слесари и грузчики использовали как комнату отдыха, закусочную и винный бар. Иногда по вечерам я наблюдал в окно, как из подсобки выползали совершенно пьяные субъекты и, поддерживая друг друга, ползли к проходной.
Подсобное помещение состояло из одной довольно просторной комнаты, имело отдельный вход. Справа в подсобке стоял диван, на котором спал, похрапывая, Шаляпин. Жена его работала в пряничном цехе. Узнав, что муж не смог выехать за ворота, она попросила мужиков приютить его до утра. Вдоль остальных стен стояли широкие лавки, над ними были вбиты гвозди для одежды. Посреди подсобки стоял сколоченный из досок стол, покрытый продравшейся во многих местах клеенкой. На столе – закуска: нарезанный свежий белый хлеб, вареные яйца, жареный арахис, сало и лук. Тонко порезанное сало бросалось в глаза – на хлебозаводе такой продукции не было. Вместо привычного вина посреди закусок красовалась бутылка водки «Столичная». Рядом с ней – четыре стопки.
«Ого! Меня принимают по высшему разряду, – догадался я. – Водку на заводе не достанешь, ее надо за свои кровные рублики покупать».
Я сел на табурет с широкой стороны стола. Напротив меня сидел Макарыч, пятидесятипятилетний бригадир грузчиков, самый авторитетный мужчина на заводе. Правую кисть его руки украшала татуировка – восходящее над морем солнце, под ним надпись «Север». Слева, с торцевой стороны стола, на табурете пристроился Антипов, пятидесятилетний грузчик из хлебопекарного цеха. Большую часть жизни Антипов провел в местах лишения свободы. Напротив Антипова сидел Прохор Петрович, добродушный худощавый мужчина лет сорока. Прохор Петрович был единственным человеком на заводе, кого слушался автомат по выпечке трубочек. Если кто-то другой пытался запустить автомат, то тот выдавал несъедобную смесь теста с повидлом. Вдоль стен на лавочках сидели еще пятеро мужчин, но их к столу не приглашали, и в разговор они не вмешивались.
– Крюк! Ты свободен, – сказал Макарыч. – У нас серьезный разговор предстоит. Пацанам тут делать нечего.
Крюков был моим ровесником, но это так, детали. Возраст не всегда определяет положение человека в обществе.
– Выпьем, Андрей Николаевич? – предложил бригадир. – Не побрезгуешь с пролетариатом за одним столом посидеть?
Макарыч разлил водку по граненым стаканчикам.
Я молча поднял стаканчик. Не чокаясь, выпили. Макарыч закусывать не стал, Антип занюхал корочкой хлеба. Прохор Петрович бросил в рот пару орешков.
– Я хочу рассказать тебе о жизни на заводе, – прикурив папироску, начал бригадир. – Советское государство дало нам работу, за что мы ему безмерно благодарны, но вот зарплатой оно нас обделило. Ты знаешь, сколько получает уборщица производственных помещений? Шестьдесят три рубля в месяц. Грузчик – девяносто пять. Слесарь – сто десять. На машиностроительном заводе слесари меньше ста пятидесяти не получают, а у нас, по третьему разряду, на сорок рубликов меньше. Спрашивается, почему такая несправедливость? Почему в машиностроении или химической промышленности зарплаты существенно больше, чем у нас? Слесарь что там, что тут гайки крутит, механизмы настраивает, а на руки получает меньше. Ты никогда не задумывался, почему у поваров такие маленькие зарплаты? Считается, что повар поест на работе, а после смены прихватит с собой продукты, которые остались. Ест повар на законных основаниях, он обязан пробовать суп и котлеты, чтобы не отравить трудящихся. С продуктами немного хитрее. Официально их выносить нельзя, только кто уследит за поваром или кухонным работником? К каждой столовой милиционера не приставишь. Чтобы компенсировать государству расходы на съеденные и унесенные домой продукты, поварам установили самые низкие зарплаты в сфере обслуживания населения.
Макарыч разлил остатки водки в две рюмки – себе и мне.
– На нашем заводе любой работник может съесть булочку или пряник, – продолжил он. – В заводской столовой хлеб на столах бесплатный. Казалось бы, благодать, живи, наслаждайся жизнью, копи денежки на цветной телевизор. Ан нет, на поверку все не так благостно. За каждый кусок хлеба государство недоплачивает, независимо от того, съел ты его или нет. Ты еще не вынес с завода горсть орехов, а с зарплаты у тебя их стоимость уже вычли, потому что государство считает, что ты обязательно что-нибудь сопрешь.
Пока Макарыч разъяснял особенности советской экономики, я обнаружил в своем образовании существенный пробел. Советская власть – это нерушимый союз рабочих и крестьян. Между двумя правящими классами находится прослойка служащих и творческой интеллигенции. А уборщики производственных помещений и грузчики – кто? Пролетариат, что ли? Слесари и электрики – это рабочий класс, а дворник – кто? Если дворник или грузчик не относятся к творческой интеллигенции или крестьянству, то получается, что они пролетарии.
Закончив речь, бригадир выпил, я последовал его примеру.
– Скажи, как жить на девяносто пять рублей, если у тебя семья и двое детей? Чем домочадцев кормить, если ты не можешь с завода вынести причитающиеся тебе продукты? Не мы установили такие правила игры, это государство нам их навязало.
«Государство никого не заставляет менять ворованный шербет на вино», – подумал я, но промолчал.
– Андрей Николаевич, поведай, где мы тебе дорогу перешли? – с едва уловимой угрозой в голосе сказал Макарыч. – За какие грехи ты решил всему заводу трепку устроить? Девять человек оштрафуют! Жрать и так нечего, а тут еще штраф платить!
На диване заворочался Шаляпин. Не вставая с лежбища, пропел густым басом:
– А денег нету, ха-ха!
И вновь уснул.
– Ему бы в опере выступать, – сказал я.
– Кто его, потомственного жестянщика, в оперу возьмет? – ответил кто-то из мужиков.
– Да и поет он только когда на грудь примет, – добавил Прохор Петрович. – Десять лет вместе работаем, я ни разу не слышал, чтобы он трезвый запел.
– Погоди, мужики! – призвал к тишине Макарыч. – Мы же не о Шаляпине собрались поговорить.
– Все верно! – поддержал я бригадира. – Первым делом – самолеты, а Шаляпины – потом. Я внимательно выслушал вас и хочу сказать, что я не хотел в заводские дела вмешиваться. Как говорится, «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Я бы рад не плевать, да вот только Горбаш меня к этой самой водице не подпускает. Он считает, что я один столько хлеба съем, что по магазинам развозить нечего будет. Мне с вами делить нечего, а вот Горбаш…
– Я всегда говорил, – воскликнул бригадир, – что Горбаш не понимает: если ты по-человечески к людям относишься, то и они к тебе никогда задом поворачиваться не будут! Спрашивается, чего он на парня взъелся? Что он, на сто рублей продукции сожрет? Полюбовницу свою на склад устроил…
– Макарыч! – перебил его Антип. – Вяжи базар не по теме!
Прохор Петрович согласно кивнул. Мужики на лавочках промолчали. Бригадир понял, что сболтнул лишнего, и решил закончить разговор.
– Даю тебе слово, – сказал он, – в пятницу заводские ворота для тебя будут открыты.
– Спасибо!
– Осталось решить один небольшой вопрос, – помрачнев, продолжил Макарыч. – Оплату штрафов нельзя отсрочить до получки? Сейчас у людей денег нет, аванс потратили, а штраф все равно платить придется.
Я провел рукой по краю граненого стаканчика. Бригадир понял и отправил мужиков с лавочек подышать свежим воздухом.
– Поступим так!
Я достал из внутреннего кармана протоколы, составленные инспекторами БХСС, демонстративно разорвал их пополам, потом на четыре части.
– Со штрафами вопрос решен. Независимо от того, получу я допуск на завод или нет, платить никому ничего не придется.
– Постарайся послезавтра часикам к трем быть в общежитии, – прощаясь, попросили мужики. – К этому времени мы все уладим.
В пятницу, перед обедом, я сказал начальнику уголовного розыска, что пошел работать на участок, а сам помчался в общежитие. Около четырех часов ко мне заглянула главный технолог хлебозавода Тамара Сергеевна Лысенко, сорокапятилетняя полненькая брюнетка.
– Андрей Николаевич, дорогой вы наш, что же получается: вы месяц в нашем общежитии живете, а на заводе ни разу не были? Так дело не пойдет. Вы просто обязаны познакомиться с производством, попробовать нашей продукции. Скажу вам по секрету: у нас лучшие пряники в Сибири. А какой у нас шербет! Пальчики оближешь.
Глава 6
Советская экономика делилась на две группы предприятий. Группа «А» – производство средств производства (товаров промышленного назначения) и группа «Б» – производство товаров народного потребления.
Группа «А» имела приоритет в экономическом развитии. Ей уделялось основное финансирование, работники группы получали зарплату больше, чем в других отраслях народного хозяйства. Группа «Б» снабжалась по остаточному принципу и не считалась важной отраслью экономики.
Железная дорога относилась к группе «А», хлебокомбинат – к группе «Б». В своей производственной деятельности хлебокомбинат вынужден был подстраиваться под график работы железной дороги.
По какой-то необъяснимой причине сахар на завод поставляли дважды в месяц в субботу, когда штатные грузчики предприятия отдыхают. Сколько ни билось руководство хлебопекарной промышленности, служба грузоперевозок железной дороги на уступки не шла и график поставки сахара менять отказывалась. Выход был найден. На хлебозаводе отдельной строкой финансирования прописали проведение сдельных погрузочно-разгрузочных работ.
На практике это выглядело так. В субботу утром на завод приходил состав, вагон с сахаром отцепляли и оставляли до вечера. Главный технолог Лысенко получала в кассе наличные деньги и шла к месту разгрузки, где ее уже дожидались грузчики. Кому разгружать вагон, решал Макарыч. Как правило, он давал подработать трем-четырем штатным грузчикам и одному-двум человекам со стороны. Сторонними грузчиками были знакомые работников хлебозавода или слесари, желающие заработать на разгрузке вагона.
По окончании работы Лысенко пересчитывала мешки с сахаром и выдавала деньги. Никаких ведомостей о получении зарплаты не составлялось, так как работа оплачивалась по факту разгрузки вагона. Выгруженный сахар развозили по цехам, часть помещали на склад.
В четверг к Лысенко пришел Макарыч и заявил, что если с завтрашнего дня Лаптев не получит свободный доступ на завод, то в понедельник производство встанет, потому что вагон в субботу разгружать будет некому.
Главный технолог без лишних пояснений поняла ультиматум и всю бессмысленность противостояния ему. Работать в выходной день она заставить грузчиков не могла, разгрузка вагонов – дело сугубо добровольное. Привлечь грузчиков со стороны тоже было невозможно: со штатными грузчиками чужаки не стали бы связываться. За штрейкбрехерство можно было пустой бутылкой по голове получить и без денег остаться.
Не откладывая дело в долгий ящик, Лысенко пошла к главному инженеру и потребовала отменить запрет в отношении меня.
– Ни за что! – отрезал Горбаш. – Если мы пойдем на поводу у Лаптева, он нам на шею сядет и ноги свесит. Понятно ведь, откуда уши растут. Он устроил облаву на заводе, и наши слабохарактерные коллеги поддались на его шантаж. Но он зря думает, что такой умный. Я свяжусь с его начальством и доложу, что он тут вытворяет.
– Владимир Николаевич, вы о чем? – изумилась Лысенко. – Что вы скажете начальнику милиции? Что у нас рабочие с завода с пустыми руками не уходят? Если вы берете на себя смелость утверждать, что на заводе бардак с сохранностью сырья, то меня в это дело не впутывайте. У меня никто ничего не ворует, каждый пряник посчитан, каждая булочка на своем месте.
– Тогда давайте объявим субботу рабочим днем!
– В нарушение установленного правительством графика «черная суббота» объявляется только в случае чрезвычайных обстоятельств.
– Так у нас и так ЧП! В понедельник завод может встать.
– У нас половина грузчиков судимые-пересудимые, клеймо ставить негде. Когда надо, они в законах разбираются лучше любого адвоката. Если завтра мы объявим «черную субботу», они на работу не выйдут и петицию в прокуратуру накатают, что мы их трудовые права нарушаем.
– Пошли к директору! – решил Горбаш.
Полубояринов, узнав о сути конфликта, не на шутку струхнул:
– Представьте, что будет, если до райкома дойдут слухи о том, что у нас на заводе грузчики забастовали из-за нарушения трудовых прав. Нас за одно слово «забастовка» из партии исключат, никто не будет разбираться, кто прав, кто виноват.
Директор позвонил на проходную и распорядился, чтобы мне был предоставлен свободный доступ на территорию предприятия.
В пятницу Лысенко пришла лично проводить меня на завод. Она провела меня по заводским корпусам, рассказала о производстве, о технологических особенностях выпечки хлеба и пряников.
В главном корпусе мы поднялись на четвертый этаж, осмотрели варочный цех, прошли в помещение, где сувенирные пряники наполняли начинкой.
– Свежего пряничка попробовать не желаете? – спросила главный технолог.
– Я с детства не ем пряники и не пью молоко. Я даже в детском саду пряники не ел. Когда на Новый год давали подарки, я обменивал пряники на конфеты.
– Так ведь это не простой пряник, а сувенирный! У него коржи вином пропитаны.
Боковым зрением я заметил, как к сломавшемуся механизму подошел слесарь Крюков, снял защитный кожух цепной передачи. Наверное, захотел покрасоваться перед девушками, работавшими на пряничном производстве, показать им свое профессиональное мастерство.
Главный инженер хлебозавода итээровский шик демонстрировал белой рубашкой с галстуком. Слесарь нарядной робой похвастаться не мог, зато продемонстрировать рабочую удаль – запросто. Закинул одним пальцем цепь на звездочку – кто такой трюк повторить сможет? Только что механизм стоял и – оп! – заработал!
Забыв о правилах техники безопасности, Крюков электродвигатель не отключил, рукой приподнял цепь, попробовал надеть соскочившие звенья на звездочку. Первая попытка не удалась. Слесарь взялся за цепь поближе к звездочке, вставил на место. Как только звенья цепи и зубцы звездочки совпали, электродвигатель заработал. Крюков отдернул было руку, но было поздно: зубец подцепил его указательный палец и втянул в механизм. В шоковом состоянии, еще не ощутив пронзающей боли, Крюков рванул руку на себя, посмотрел на изуродованный палец и дико завопил: вместо верхней фаланги торчал жалкий обрубок раздробленной кости.
В первую секунду в цехе никто не понял, что произошло. Но когда у слесаря ручьем побежала с пальца кровь, кто-то пронзительно, как в кино, завизжал.
Крюков заметался по цеху, разбрызгивая кровь по пряникам и по полу. Главный технолог побелела. Женщина у разделочного стола крикнула: «Врача! «Скорую помощь» надо вызвать». Но все в цехе остались на месте, словно оцепенели. В наступившей неразберихе я один сохранил завидное спокойствие. Неспешно, словно каждый день имел дело с травмированными слесарями, открыл сумку Крюкова с инструментами, достал синюю изоленту и крепко-накрепко перетянул верхушку оставшейся фаланги.
– Держи руку вверх, чтобы к ней не было притока крови, – сказал я. – Аптечкой пользоваться бессмысленно, надо «Скорую» вызывать.
Главный технолог повела Крюкова вниз. У варочного цеха к ним присоединился дежурный электрик. Он взял Крюкова под локоть – подстраховал на случай потери сознания.
Я бросил изоленту назад в сумку и с победным видом осмотрел цех. У разделочного стола замерли три девушки и две женщины лет сорока. Все они были в костюмах пекаря, состоящих из просторных белых хлопчатобумажных блуз, брюк и шапочек.
Одна из девушек, худенькая крашеная блондинка, смотрела на меня с нескрываемым восхищением. Еще бы! Я только что на ее глазах спас человека. В мешковатой робе оценить ее фигуру было трудно, но девушка мне понравилась, и я решил познакомиться с ней после окончания смены.
Я уже собрался уходить, но вдруг встретился взглядом с женщиной в синем халате уборщицы и замер, не понимая, что происходит.
«Это что еще за ведьма? – мелькнула мысль. – Какого черта она смотрит на меня с такой ненавистью, словно я только что отрезал палец ее любимому племяннику?»
Внешность незнакомки была примечательной. На вид ей было лет шестьдесят. Среднего роста, очень худая, длиннорукая. Некогда темные волосы поседели, но брови остались черными, густыми, сросшимися на переносице. На подбородке белел давний шрам. Темно-карие глубоко посаженные глаза, лицо морщинистое, губы узкие, плотно сжатые, малокровные.
Еще в школе мне запомнилось, как Зоя Монроз увидела «горящие глаза» инженера Гарина[1] и влюбилась в него без памяти. Гарин, судя по всему, был парень не промах, если с одного взгляда смог растопить сердце первой красавицы Парижа и отбить ее у самого богатого человека в Европе.
Сколько раз, стоя перед зеркалом, я пытался понять, как сделать взгляд «горящим». Классно было бы: взглянул на девушку – и она твоя! Потренировавшись у зеркала, я приступил к практике и потерпел фиаско. От моих «горящих» глаз девушки в лучшем случае отворачивались, а в худшем переходили в наступление: «Чего уставился?»
Прошли годы, и я понял, что такое «горящие» глаза. Старуха-уборщица прожгла меня взглядом до самого сердца, но не любовью, а лютой ненавистью. Если бы ее взгляд мог быть преобразован в тепловую энергию, от меня бы осталась только кучка пепла.
«Могу поклясться, что я вижу ее в первый раз. Эту ведьму я никогда раньше не встречал».
Пару секунд мы смотрели друг другу в глаза. Старуха первая прекратила дуэль, но не потому, что не смогла выдержать мой взгляд. Она просто выплеснула внезапно вспыхнувшую ненависть до конца и решила больше не форсировать события, уйти в тень.
Я дождался, пока уборщица отвернется, улыбнулся понравившейся блондинке и вышел из цеха.
«Черт возьми, на этом заводе творится что-то неладное, – подумал я. – Вначале на меня ни с того ни с сего взъелся главный инженер. Потом – старуха. Я просто физически ощутил, как от нее исходила ненависть. Надо будет разузнать, кто эта уборщица и где я мог перейти ей дорогу».
За оставшиеся дни сентября и почти весь октябрь я несколько раз встречал Горбаша на территории завода. Каждый раз он сухо кивал мне и проходил мимо. После нашего единственного разговора мы с ним больше ни словечком не перекинулись.
С девушкой-блондинкой я познакомился, начал за ней ухаживать, о загадочной старухе-уборщице толком ничего не узнал.
Глава 7
В уголовном розыске Заводского РОВД каждая суббота была рабочим днем. Практического смысла в дополнительных рабочих днях не было, зато Вьюгин мог заверить руководство областного УВД, что его подчиненные из кожи вон лезут ради процента раскрываемости. Любое недовольство со стороны инспекторов уголовного розыска начальник милиции легко подавлял одной фразой: «Вы что, уже все преступления раскрыли?»
Практически все субботы проходили по одному сценарию. Утром инспекторы собирались у начальника уголовного розыска на планерку, потом расходились по кабинетам, пили чай, перекуривали и вновь собирались всем коллективом в одном из пятиместных кабинетов. Слово за слово, начинался спор. Обсуждали футбол или хоккей, международную политику, заготовки на зиму, проблемы воспитания детей или какую-нибудь ерунду, не поддающуюся квалификации.
О чем никогда не говорили, так это о раскрытии преступлений. Обсуждение служебных тем в субботу считалось дурным тоном. Примерно в половине двенадцатого мужики скидывались и отправляли в винно-водочный магазин гонца. Бегал за спиртным, разумеется, я как самый молодой член коллектива. В двенадцать часов водку разливали по кружкам, быстро выпивали граммов по сто пятьдесят без закуски и расходились по домам. Мне выпить не предлагали, так как я считался «субботним резервом» – сотрудником, всегда готовым выполнить внезапно свалившуюся работу. Домой в субботу я уходил на полчаса позже остальных.
Рабочий день в субботу приносил больше вреда, чем пользы. Очень редко кто-то из инспекторов брался за бумажную работу, наводил порядок в оперативных делах, печатал справки или отчеты. Раскрывать преступления на участок не выходил никто. Проведя впустую половину выходного дня, инспекторы наверстывали упущенное в рабочее время, благо отследить, где находится тот или другой оперативный сотрудник, было невозможно.
Бессмысленность еженедельной «черной субботы» понимал даже начальник уголовного розыска Зыбин. Проведя развод, он включал транзистор, настраивал канал на развлекательную музыку и до обеда носа не показывал из кабинета, занимаясь неизвестно чем. Возможно, дремал или читал научно-популярные журналы.
В последнюю субботу октября я сидел за своим столом, делал вид, что перебираю бумаги. В этот день покурить и обсудить новости инспекторы собрались в нашем кабинете, так что воздух вокруг меня слоился от табачного дыма – когда разом закуривают шесть мужиков, никакая форточка не справится.
«Зачем нужна эта гнусная показуха? – размышлял я. – Со времен крушения Римской империи известно, что рабский труд не может быть производительным. Любая принудиловка всегда будет натыкаться на скрытый саботаж. Не станет человек даром работать в свой законный выходной».
Мои философствования прервал звонок телефона. Трубку взял инспектор Матвеев, молча выслушал собеседника и вернул телефон на место.
– Андрей! Вьюгин велел тебе до особого распоряжения не уходить.
– Зачем я ему понадобился? – недовольно спросил я.
– Сходи и узнай! – отсек возможные вопросы Матвеев. – Мужики! Андрюха отпадает. Кто за пузырем побежит?
Желающих сходить в магазин не нашлось, так что в этот день инспекторы разошлись по домам трезвые и злые.
Вьюгин вызвал меня около шести вечера. В ожидании его звонка я просидел голодным весь день, выкурил пачку сигарет и выпил весь припасенный на неделю чай. Настроение у меня было отвратительным. Но в приемной начальника милиции я посмотрел в зеркало, изобразил деловой вид и вошел к Вьюгину без признаков недовольства на лице.
Сергей Сергеевич был не один. За приставным столиком сидел Шаргунов, начальник Центрального РОВД. Напротив него стояли початая бутылка коньяка и блюдечко с дольками лимона. Закусывать коньяк чем-либо еще в милиции считалось неприличным. Судя по уровню жидкости в бутылке, начальники успели выпить всего по паре рюмок, но по их раскрасневшимся лицам я догадался, что початая бутылка была в этот вечер не первой.
Я доложил о прибытии, остановился посреди кабинета, ожидая дальнейших указаний.
Разговор начал Шаргунов. Из всех начальников территориальных органов милиции он был самым необычным: матом не ругался, на подчиненных не кричал, но в то же время был требовательным и строгим. Каким-то непостижимым образом Шаргунову удавалось удерживать процент раскрываемости преступлений в самом большом и густонаселенном районе города.
Знакомый инспектор уголовного розыска из Центрального РОВД как-то сказал: «Кто выдержит нагрузку в Центральном, тот выдержит все». Преступлений в Центральном районе совершалось примерно в два раза больше, чем у нас. Многие из них попадали на контроль к руководству горкома партии, а партия ошибок и нераскрытых преступлений не прощала.
Каждый день Шаргунов ходил по лезвию ножа, рисковал карьерой, но вот что удивительно: коллектив работой не насиловал, рабочей каждую субботу не объявлял.
Еще одна примечательная деталь: одевался Шаргунов как интеллигент, а не как начальник милиции. Когда я летом приходил устраиваться к нему на работу в обмен на жилье, то подумал, что он, в безупречно сидевшем гражданском костюме, больше похож на институтского профессора, чем на полковника милиции.
– Рассказывай, – обратился ко мне Шаргунов, – зачем ты забросил шербет на крышу? Кто тебя научил вещественные доказательства от следственных органов скрывать?
По легкой улыбке Вьюгина я понял, что беседа предстоят неофициальная и мне не надо оправдываться перед Шаргуновым.
– Участковый проболтался? – спросил я первое, что пришло на ум.
– Участковый? – «удивился» Шаргунов. – Да ты, как я вижу, еще молод и зелен, а Сергей Сергеевич нахваливает тебя, говорит: «Перспективный сотрудник! Цепкий, с нестандартным мышлением». Запоминай! Все тайное становится явным. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Сейчас ты поговоришь с нами, выйдешь в коридор и тихо так, одними губами, скажешь: «Вот ведь козлы! Это я из-за них свой законный выходной в пустом холодном кабинете просидел. Они вон коньячок попивают, а я весь на нервах, жду, когда Вьюгин соизволит вызвать». Недели не пройдет, как Сергей Сергеевич тебя спросит: «Ты кого «козлом» в прошлую субботу называл?» У тебя дар речи пропадет. Твоих слов ведь никто не слышал, так откуда же начальник все узнал? Запоминай! В милиции даже у стен есть уши. Так что не надо моего участкового во всех смертных грехах обвинять.
– Болтливость вроде бы не смертный грех, – заметил Вьюгин.
– Давай у него спросим! – показал на меня Шаргунов. – Он ведь умный, в этом году Высшую школу милиции окончил. Это мы с тобой в гражданских институтах штаны просиживали, а он – профес- сионал!
Я посмотрел на Вьюгина. Начальник кивнул: отвечай!
– Болтливость не смертный грех, – начал я. – Стукачество – грех, а болтливость – порок. Теперь о шербете. Главный инженер хлебокомбината Горбаш был чистоплюем. Если он на заводе в лужу нечаянно наступал, то, войдя в цех, тут же ветошью обувь протирал, а вернувшись в кабинет, до блеска ботинки надраивал. У него на костюме никогда ни пятнышка не было. В тот день, когда обнаружили тело Горбаша, костюм его был без следов известки или раствора. Спрашивается, как он козлы в теплоузел занес и не испачкался? Носки ботинок у Горбаша были потертыми, как если бы его бесчувственного тащили под руки, а ноги бы волочились по асфальту. Одна работница ночной смены рассказывала подругам, что той ночью выходила покурить на свежий воздух и видела, как двое мужчин вели под руки третьего, сильно пьяного. Она еще подумала, что мужики пошли не туда: не к воротам, а в сторону забора у булочного цеха. Она не стала им ничего говорить и вернулась в помещение.
– С пьяными не захотела связываться? – уточнил Вьюгин.
Я кивнул и продолжил:
– Когда я осматривал следы на полу в теплоузле, обратил внимание, что их слишком много для одного человека. На мой взгляд, в помещение заходили двое или трое. Двое установили козлы и наследили вокруг. Потом зашел Горбаш, не останавливаясь, забрался на подставку и выбил ее из-под ног. Или ему помогли избавиться от нее. Все зависит от экспертизы, но, как я помню, на месте происшествия судебный медик сказал, что странгуляционная борозда одна, следовательно, Горбаш повесился сам.
– Ты противоречишь сам себе, – возразил Шаргунов. – То у тебя толпа народа заходит в теплоузел, то Горбаш сам вешается.
– Он мог попросить друзей принести козлы, а потом вздернуться. Хотя это маловероятно. У Горбаша на заводе друзей не было, да и туфли потерты! Смахивает на то, что ему помогли в последний раз по заводу прогуляться. Но тут все от борозды зависит.
– Вернемся к шербету, – предложил Шаргунов.
– Горбаш никогда бы сам не украл шербет. Руководство завода к продукции не притрагивается – это закон. Тем более ему незачем нести шербет к месту самоубийства. Сладость принес кто-то из тех, кто устанавливал козлы, либо потом, уже ночью, вел главного инженера под руки. Как бы то ни было, присутствовавшие в теплоузле неизвестные мужчины хотели, чтобы на шербет обратили внимание и начали выяснять, откуда он взялся и кто его принес. Я лишил их этой возможности. Если Горбаш покончил жизнь самоубийством, то в моем поступке нет ничего противозаконного. Если ему помогли повеситься, то пусть преступники голову ломают, куда делся шербет, почему на него никто не обратил внимания.
– Странный ты малый! – пожал в недоумении плечами Шаргунов. – Если ты счел, что на заводе произошло убийство, то почему не взял следствие в свои руки?
– Как бы я это сделал, если сотрудники Центрального РОВД шикали на меня, как на бездомного пса? Не прогнали и то ладно.
«Да и район не мой!» – хотел добавить я, но промолчал.
– Тебя послал на место происшествия Полубояринов, – вступил в разговор Вьюгин. – Он про шербет что-нибудь говорил?
– Директор был в недоумении: зачем Горбаш перед самоубийством принес шербет? Полубояринов решил, что шербет у ног главного инженера – это намек, только не понял, на что.
– Так, дай-ка подумать! – Шаргунов достал пачку кишиневского «Мальборо», повертел в руках, достал сигарету. – С год назад был я на хлебозаводе. Полубояринов меня по цехам провел, показал производство. Шербет, как я помню, делают в варочном цехе.
Начальник Центрального РОВД постучал пальцем по крышке стола, словно приказал мыслям выстроиться в ровную цепочку.
– Завпроизводством была симпатичная женщина, лет так тридцати. Она мне с собой хотела кулечек орехов дать, но я отказался.
Шаргунов посмотрел мне в глаза.
– Ты ничего не хочешь про нее рассказать?
– Мать-одиночка, живет со мной на одном этаже. Зовут Татьяна, но она не завпроизводством, а технолог прянично-кондитерского производства.
– О, вот она, суть! – обрадовался Шаргунов. – Как только в деле появляется женщина, так тут же все события смотрятся в другом свете. Твою Татьяну бы взгрели, если бы шербет нашли?
– Она не моя, – резко возразил я.
– Не цепляйся к словам! Твоя – не твоя, какая разница! Что ты насупился, словно я тебе мораль собрался читать? Я что, по-твоему, в общежитии не жил, не знаю, какие там нравы? Она тебя по-соседски попросила детскую кроватку починить, ты зашел на минутку и остался до утра. Прошло немного времени – главный инженер вздернулся. Если бы у его ног нашли шербет, то с вопросами бы к кому пошли? К Татьяне. «Твой шербет? При каких обстоятельствах его украли? Что еще у тебя воруют?» Зачем тебе соседку подставлять? Вот ты и забросил вещественное доказательство на крышу, помог симпатичной женщине выйти из щекотливого положения.
– С шербетом – все? – спросил Вьюгин. – Если вас со стороны послушать, то вы не висельника обсуждаете, а кражу сладостей на заводе.
– Еще пара вопросов. Шербет свежий был или его крысы успели покусать?
– Свежий или нет, я сказать не могу. Холодно было, шербет успел окаменеть, но с виду был чистый, без плесени. Крыс на заводе нет. Не знаю, чем их отпугивают, но ни мышей, ни крыс даже на складах нет.
– Кто мог украсть шербет?
– Украсть – никто. Взять, как причитающуюся тебе продукцию, могли слесаря или электрики, обслуживающие варочный цех. Потом они могли выменять шербет на что угодно. Если вы хотите проследить, через сколько рук прошел этот брусок, то ничего не получится.
– Чутье мне подсказывает, что в этом шербете что-то есть, – сказал Шаргунов, – но что – не пойму. Ладно, поедем дальше! Почему Горбаш был без верхней одежды?
– От административного корпуса до любого цеха три минуты ходьбы. Одеваться смысла нет.
– Работница ночной смены подтвердит, что видела троих мужчин?
– Нет. Побоится с мужским коллективом завода отношения портить.
– Откуда в теплоузле появились козлы?
– Я ненавязчиво расспросил мужиков, никто не мог вспомнить, где они стояли: или на улице около булочного цеха, или на входе в демонтируемый пряничный цех. Осенью ремонтных работ на заводе не было, так что козлы были никому не нужны.
– М-да! – Шаргунов вновь постучал пальцами по столу, подумал и сделал вывод: – Мы ходим впотьмах! Лаптев видит одну картину, мы – другую. Надо свести половинки в целое. Дополним твой рассказ небольшой деталью: у Горбаша на спине и ягодицах обнаружены ссадины и царапины. Обрисуй картину преступления в новом свете. Сможешь?
– Вы думаете, что его убили? Понял – не то спросил. Если у Горбаша были ссадины, то я думаю, было так. Двое мужчин с наступлением темноты принесли в теплоузел козлы. Потом они взяли Горбаша под руки и повели вдоль булочного цеха. Часть пути он шел сам, часть – они его волокли. Если бы они его тащили всю дорогу, то у Горбаша бы все носки туфель стерлись. В теплоузле один человек залез на козлы, второй в это время поддерживал главного инженера в вертикальном положении. Потом мужчина на козлах подхватил Горбаша, дал возможность сообщнику залезть наверх. Вдвоем они затащили инженера на козлы, накинули на шею петлю, очистили пиджак и брюки от известки и столкнули подпорку. Когда я осматривал тело в петле, следов известки на одежде Горбаша не было.
– У главного инженера были на заводе враги?
– Его никто не любил. Но чтобы убить? Я не представляю, кто бы мог это сделать.
– Представь, что главный инженер – это ты. Что бы ты мог украсть с завода? Про булку хлеба или мешок муки не рассказывай, за это не убивают.
– Ничего! Рядом с нами стоит винзавод. Если выпустить тысячу бутылок неучтенного вина, то их можно продать в сельской местности, а у нас что можно выпустить из неучтенного сырья? Хлеб? Куда его потом девать?
– С вином идея интересная, – похвалил Вьюгин. – Для тысячи бутылок портвейн или плодово-ягодное вино ты найдешь, а где пустые бутылки достанешь? Свой пункт приема стеклотары откроешь?
– Давайте я немного повеселю вас! – предложил Шаргунов. – Когда я был заместителем по оперативной работе, послали меня на курсы повышения квалификации. Скукотища! Криминалистика, оперативно-разыскная деятельность, право, процесс – все сидят, зевают, носами клюют. Начинается лекция по судебной бухгалтерии. Преподаватель рассказывает новые методы хищения в строительстве и на производстве. Вы бы видели, какое оживление наступило! Сна – как не бывало! Все стали конспектировать, что и где можно украсть так, чтобы никто не заметил.
– Ну что, перейдем к делу? – спросил Вьюгин.
– Андрей, тебя, как проверенного товарища, мы решили привлечь к очень необычному делу. Горбаша убили, но в заключении судебно-медицинской экспертизы будет сказано, что он покончил жизнь самоубийством. У нас есть прямые доказательства его насильственной смерти, но в конце года я не хочу показатели портить. В то же время мы не можем оставлять убийц безнаказанными. Мы с Сергеем Сергеевичем посоветовались и решили пойти нестандартным путем. Я подпишу материал по самоубийству, а ты займешься розыском преступников. К убийству Горбаша наверняка причастны работники хлебокомбината. Ты живешь на территории завода, всех знаешь, детские кроватки чинишь, так что тебе и карты в руки! Будешь нашим секретным агентом.
– Будешь расследовать это убийство без отрыва от производства, – вставил важное уточнение Вьюгин. – Производство – это твоя основная работа, а раскрытие Горбаша – общественное поручение, что-то вроде задания сделать стенгазету к седьмому ноября. Справишься?
От оказанного доверия адреналин в крови подпрыгнул до максимального уровня, сердце заколотило в грудь, словно хотело выйти наружу и отрапортовать: «Найду убийц! Ночами спать не буду, но разоблачу гадов!» Но природная осторожность не дала распустить хвост как у павлина. Пообещать можно все что угодно. Как потом оправдываться, если ничего не получится?
– Приложу все усилия, – заверил я, ничего конкретно не обещая.
– Завтра поедешь в морг, встретишься с экспертом Иваном Романовым. Он введет тебя в курс дела, расскажет о возникших подозрениях. Потом позвони по этому телефону и договорись о встрече с доцентом Павлом Романовым, отцом эксперта. Они оба будут предупреждены о твоем визите.
– Андрей! – перебил Шаргунова мой начальник. – То, что тебе расскажет Романов-старший, не должен узнать никто ни при каких обстоятельствах. Иначе мы все будем иметь бледный вид.
– Погоди, не запугивай парня раньше времени! – остановил Вьюгина Шаргунов. – Там все еще вилами на воде писано. Получим подтверждение, тогда и думать будем, как из этой истории выпутаться. Андрей, ты про морг все понял? Выспишься, поешь – и за работу! О ходе следствия будешь докладывать или Сергею Сергеевичу, или Клементьеву. Если понадобится моя помощь, звони в любое время.
– Ну все, иди! – велел Вьюгин и пересел за приставной столик допивать коньяк.
Мне к застолью присоединиться не предложили.
Глава 8
Вернувшись в кабинет, я посмотрел на время – восемь вечера! Я пробыл у Вьюгина почти два часа. Все мои планы на субботу полетели псу под хвост. Но это еще полдела. Завтра будет хуже во всех отношениях. Еще в начале недели я договорился с Ларисой о встрече в воскресенье. Кто бы знал, что Вьюгин отправит меня в морг именно в воскресенье! Черт возьми, что за жизнь! Вместо прогулки с хорошенькой девушкой придется посетить патологоанатомическое отделение судебно-медицинской экспертизы, не самое веселое место в городе.
Лариса Калмыкова была той самой худенькой блондинкой, которая с восхищением смотрела на меня во время инцидента с Крюковым. Ей было двадцать лет, проживала она с матерью в другом конце города. Об отце я ничего не слышал. Подозреваю, что мамаша Ларисы нагуляла дочь в студенческие времена.
Окончив кондитерское училище, Лариса второй год работала на хлебокомбинате, в цехе по производству пряников. Руководство завода ее не ценило, перебрасывало с места на место: с сувенирных пряников – на ванильные, с начинки пряников – на разделку коржей. По специальности ей работать не довелось, так как в кондитерском цехе, где изготавливались торты, коллектив был устоявшийся и в пополнении не нуждался.
Лариса была вызывающе крашеной блондинкой с волосами светло-желтого цвета до плеч. Моя мать искренне считала, что только развратницы красят волосы в такой цвет. Увидев Ларису в первый раз, она чуть в обморок не упала. Для нее это был шок: «В городе тысячи хорошеньких девушек, а сын связался с самой настоящей проституткой, падшей женщиной». Реакция родителей меня позабавила, но не более. Мне было безразлично, что мать и отец думают о девушке, с которой у меня развивались интересные отношения, но кое-какие выводы я все же сделал и с Ларисой к родителям в гости больше не заходил.
В тот день, когда Крюков сунул палец в работающий механизм, я с понравившейся девушкой встретиться не мог. На другой неделе тоже ничего не получилось. Я уже стал забывать о ней, но, видно, высшие силы, следящие за нами с неба, решили, что знакомство должно состояться.
Как-то после дежурства я зашел пообедать в заводскую столовую. В очереди встал за Калмыковой, потом мы, не сговариваясь, сели за один столик. Под монотонный шум толпы и выкрики поварихи на раздаче мы договорились о встрече.
После работы я проводил Ларису до остановки и был вынужден попрощаться – в автобус она села одна, хотя я был готов сопровождать ее до дома. Как оказалось, Лариса не хотела раньше времени показываться со мной во дворе, полном скучающих старух на лавочках. Им, старухам, только дай повод – они целый месяц тебе косточки перемывать будут: «Вот ведь вертихвостка! Полгода назад с другим парнем гуляла, а теперь этого где-то подцепила. Чем ее прошлый не устроил? Куда, спрашивается, мать смотрит?»
Первая неудача не смутила меня. В наступившие выходные я выкроил время и встретился с Ларисой в оговоренном месте. Погода стояла чудесная. Мы немного прогулялись по набережной, сходили в кинотеатр, где показывали какую-то откровенную ерунду про любовь медсестры и молодого инженера, заглянули в кафе-мороженое.
С наступлением темноты Калмыкова захотела улизнуть, оставив меня на остановке, но не тут-то было! Я поехал провожать ее. В подъезде она не сопротивлялась, не стала строить из себя недотрогу. Как только я обнял ее и наши губы соприкоснулись, Лариса прижалась ко мне и забыла, что минуту назад рвалась домой. Что сказать? Целовалась она классно. Зря, что ли, в ПТУ училась?
С того вечера наши отношения стали стремительно развиваться, но как-то странно, словно мы играли в загадочную игру «Нет общежитию!». Я, владелец собственной комнаты, никак не мог заманить Ларису в гости. Она наотрез отказывалась идти в общежитие, хотя наши отношения ни для кого на заводе не были секретом. Если бы она уступила и перешагнула порог моего скромного жилища, я бы в момент все устроил, и мы бы перешли на новый уровень отношений: от поцелуев в подъездах и на лавочках в парке до регулярных встреч в будущем семейном гнездышке.
В начале октября игра в «запретное общежитие» мне надоела. В пятнадцать лет целоваться по подъездам романтично, в двадцать два года – глупо. Лариса поняла, что наши отношения близятся к закату, и предложила встретиться у нее дома, в воскресенье, пока мать будет навещать родственников.
Наша первая близость была скоротечной, но устроила обоих. Лариса, кстати, оказалась не такой уж худой, как выглядела в просторном костюме пекаря на голое тело.
Следующая наша интимная встреча прошла там же, но времени у нас был – почти весь день, и мы могли предаться любви, не прислушиваясь к шагам на лестничной клетке. В это воскресенье мы договорились сходить в кинотеатр на фильм с участием Андрея Миронова, но не судьба! Инженер Горбаш испортил нам выходные…
Я хлопнул себя по карманам, поискал сигареты, но не нашел. В ожидании вызова к начальнику я незаметно для себя выкурил всю пачку. Не теряя времени, я оделся и помчался в ближайший гастроном. За сигаретами успел, со спиртным, конечно же, пролетел.
После разговора с Шаргуновым и Вьюгиным меня переполняли противоречивые чувства. С одной стороны, мне было оказано большое доверие. Я не помню, чтобы кому-то из сотрудников милиции поручали расследовать преступление в частном порядке, негласно, словно разведчику, внедренному в стан врагов. Мне предоставлялась полная самостоятельность. Если я справлюсь с заданием, мой рейтинг в глазах руководства взлетит.
С расследованием убийства Горбаша все было в моих руках. Сможешь раскрыть преступление – молодец, провалишь задание – бездарь. Дополнительная нагрузка, без сомнения, поглотит почти все мое свободное время. Ну и черт с ним! Зато какой азарт – выйти на тропу войны с неведомым противником и победить его! Игра стоит свеч. В то же время новое задание заморозит всю мою личную жизнь. Если бы Лариса не упрямилась и согласилась встречаться в моем общежитии, то проблем бы не было, а мотаться на другой конец города времени у меня не будет.
Для разрешения этого противоречия мне захотелось выпить, поболтать с кем-нибудь, а потом остаться одному и поразмышлять, что делать дальше. Если бы в гастрономе продавали спиртное, то я, не задумываясь, взял бы бутылку и поехал бы в общагу. Но время торговли горячительными напитками истекло! Кто-то в правительстве, а вернее, в окружении Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Л. И. решил, что страна спивается и торговлю алкоголем надо ограничить.
Удавку на шею трудовому народу решили набросить, изменив режим работы винно-водочных отделов. Теперь они были открыты только с 11 до 19 часов. Для кого такой график работы был сделан, совершенно не понятно.
К примеру, рабочий на заводе трудится у станка с девяти часов утра и до шести вечера. По дороге на работу он купить бутылку не сможет, а после работы может не успеть до закрытия магазина. По воскресеньям и праздничным дням винно-водочные отделы не работали. Чтобы выпить-закусить в «красный» день календаря, спиртное надо было покупать заранее. А где его купишь, если магазины закрываются, когда весь народ еще толпится на остановках?
Зато бездельникам всех мастей было раздолье! Перед открытием магазина они уже кучковались на входе, сбрасывались, переругивались. К обеду бичи и фальшивые инвалиды напивались, отсыпались в притонах и вечером снова собирались у входа в магазин. Я не раз слышал, как мужики, не успевшие за бутылкой, материли родную партию и советское правительство: «Для нас, для работяг, ничего не хотят сделать, а для этих сволочей – все!»
