Твое имя бесплатное чтение
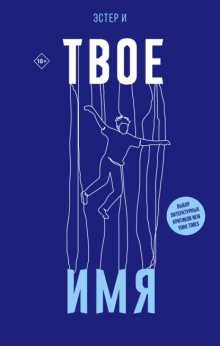
Esther Yi
Y/N
Published by special arrangement with Astra Publishing House in conjunction with their duly appointed agent 2 Seas Literary Agency co-agent Lester Literary Agency & Associates.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© 2023 by Esther Yi
© Чернякова Е.Б., перевод, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
1. «Банда Парней»
Через два года после релиза своего первого альбома в Сеуле «Банда Парней» уже покоряла концертные площадки крупных корпораций и олимпийские стадионы. Я знала, что группа сейчас на пике популярности: недавняя премьера их последнего клипа обесточила целый остров посреди Тихого океана. Эти ребята обладали настолько яркой харизмой, что на концертах одной фанатке буквально сносило голову, и она еще долго не могла прийти в себя и вернуться к привычной рутине. Еще я была в курсе, что у «Парней» огромные добрые сердца, ведь они подарили той фанатке шанс, причину жить в мире, который, по их мнению, был полон фальши.
По крайней мере, такой вывод я сделала из многочасовых разговоров с Ваврой. Мы жили в одной квартире, так что она целыми днями только и делала, что пыталась обратить меня в свою веру. Но чем сильнее Вавра принуждала меня любить этих парней, тем большее отторжение я испытывала. Их открытое и искреннее общение с поклонниками казалось мне не более чем хитрым планом по расширению фэндома и шло вразрез с моим пониманием любви. Тогда я была скрытной, воинственной, суровой и предпочла бы и дальше находиться в своем коконе, разочаровывая себя и создавая препятствие для других.
Поэтому, когда Вавра объявила, что ее подруга заболела, и пришла вручить мне билет на самый первый концерт группы в Берлине, я отказалась.
– Но я уверена, что этот концерт изменит твою жизнь, – заявила она.
– А я не хочу менять свою жизнь, – ответила я. – Я хочу, чтобы моя жизнь оставалась прежней, настолько неизменной, насколько это возможно.
Вавра посмотрела на меня с сочувствием. С тех пор как я, странная незнакомка из сети, въехала к ней в квартиру, прошел уже год. Все это время она постоянно пыталась заботиться обо мне, а я отчаянно этой заботы избегала, что в итоге привело к появлению своеобразной дружбы между нами.
Такие вещи, как смерть или глобальные катаклизмы, меня не сильно пугали. Больше всего на свете я боялась открыть свою душу дешевизне и глупости, тем самым разрушив образ серьезности, который сама для себя создала. Тем не менее Вавра невольно учила меня искусству самоопределения, и за это я, в принципе, была ей благодарна. Я снова посмотрела на книгу, лежащую на столе передо мной.
– Ты выглядишь как ученый, – заметила Вавра, – коим не являешься.
– Спасибо, – довольно кивнула я.
– Я имею в виду, ты ничего не делаешь с тем, что читаешь. Как насчет преподавания? Ты могла бы воспитывать юные умы.
– Как? Я себе-то не могу помочь.
– Если бы «Банда Парней» думали так же, они бы не достигли таких высот, – произнесла Вавра. – Они не боятся оставить след в жизни других людей, при этом искренне верят в свою гениальность.
Закрыв глаза в молитве и открыв их снова, она снисходительно улыбнулась, как будто только что вернулась из места за гранью моего понимания. Однако ее возвращение в наш огромный глупый мир поразило меня до глубины души, словно мне недоставало решимости меняться. Именно тогда я поняла, что до сих пор не последовала за ней только потому, что знала – возможно, я уже никогда не вернусь. Я испытывала не отторжение, а страх, что это изменит меня навсегда. Моя трусость раздражала меня, но любопытство оказалось сильнее, и я впервые задалась вопросом, каково это – любить «Парней».
Два часа спустя я уже направлялась с Ваврой в переполненный зал. С наших мест в самом конце зала сцену было видно очень плохо, поэтому я смотрела на большой экран, служивший фоном. Этот экран размером с многоэтажный дом очень четко воспроизводил все, что происходило на сцене. Так что, когда пятеро ребят появились будто случайно и, опустив головы, сложили руки на животе, я думала только о том, как они, такие маленькие, словно рисовые зернышки, смогут пережить вечер у подножия своих гигантских изображений. Тысячи зрительниц разразились пронзительными криками. Я вспомнила рассказ Вавры о том, что в последнее время на концертах «Банды» участились случаи разрыва барабанных перепонок, поэтому продюсеры группы рекомендовали фанаткам пользоваться берушами. Но я не видела ничего подобного у окружающих меня девушек. Они наконец-то дышали одним воздухом со своими кумирами; сейчас было неподходящее время, чтобы заботиться о таких пустяках, как собственное тело.
Парни все еще стояли в линию, склонив головы, как будто их только что отругали. Они были одеты в одинаковые черные туфли-дерби и черные брюки, но верхняя часть их образов отличалась, передавая индивидуальность. Каждый из участников группы носил имя, данное ему в честь какого-то космического тела, но среди них не было Земли. Я не знала, как кого звали. Вавра без конца выкрикивала имена всех пятерых, специально стараясь не произносить одно имя чаще другого.
Я же не была сторонницей равенства. Я уже решила, что крайний слева парень нравится мне больше всех. На нем была розовая шелковая рубашка на пуговицах с длинными манжетами, которые полностью скрывали его руки, оставляя на виду лишь кончики пальцев. Он отчаянно вцепился ими в подол рубашки, как будто мог в любой момент вылететь из нее. У него были светлые волосы, в точности как цвет его лица, и казалось, что его кожа продолжается за пределами его головы.
Когда он поднял голову, я увидела плоское, ничем не примечательное лицо, с глазами узкими, как щель между двумя полосками жалюзи. Но его простота казалась продуманной, призванной подчеркнуть глубину взгляда, которая идеально сочеталась с каменной холодностью бледной кожи. Поза, которую он принял, казалась невозможной: он стоял абсолютно прямо, вытянувшись вверх, но шея находилась под таким невообразимым углом, что голова, которую он тоже держал прямо, принадлежала будто другому телу. Больше всего меня волновала именно шея. Она была длинная и гладкая, с крепкими мышцами, которые тянулись вниз, вдоль всего тела, прямо до паха, где они, как я себе представляла, мужественно сходились к пенису.
Софиты на сцене зажглись красным, и их огни сложились в новое созвездие, отбросив длинные тени на лица парней. Заиграла музыка – атональные звуки синтезатора смешались с драйвовыми ударными, и парни начали танцевать. По словам Вавры, они никогда не использовали подтанцовку, так как считали дешевым трюком выделяться на фоне сравнительно обычных ребят. И вот они были там: пять одиноких пятнышек на огромной черной сцене. Они встали в круг, лицом друг к другу, и создали между собой невидимый энергетический шар. Во время потрясающего припева они развернулись и раскинули руки ладонями вверх, словно отдавая энергию окружающей пустоте.
«Парни» пели:
– Что значит умереть на этой планете? Одиночество, отчаяние, хаос. Человек – это песчинка в космосе. И что значит жить на этой планете? Созидание, желание, борьба. Человек – это космос в песчинке.
Вавра рассказывала, что почти каждый вечер, после усердной тренировки, «Банда Парней» мылись, а затем собирались в своей гостиной и изучали классическое искусство и литературу. Каждый их альбом был отдельной эпохой, и, готовясь к нынешнему, «Парни» корпели над корейским переводом Софокла, возмущенные решением Эдипа ослепить себя. Да, он был слеп в своем невежестве, но почему бы тогда не сделать две новые дырки у себя на лице для еще одной пары глаз? Альбом стал протестом против капитуляции Эдипа перед тьмой, превозносил истину и свет.
Я продолжала смотреть на мальчика с волнующей шеей. Другие участники группы выражали глубину своих чувств через движения или выражение лица; я понимала, как они взаимодействуют с миром. Но его поведение не поддавалось логике. У меня не получалось предугадать его следующее действие, но как только оно происходило, я не сомневалась в его правильности, необходимости. Казалось, он контролировал даже скорость, с которой двигался, его ноги приземлялись с невероятной нежностью, как будто он не хотел потревожить сцену. Его движения были плавными, трагичными, античными. Каждый мускул напрягался в подходящий, самый последний момент, как будто он заранее перемещался во времени.
Каждый из участников по очереди становился во главу треугольного строя и исполнял свою партию, отчего крики в зале усиливались пятикратно. Когда парень с будоражащей меня шеей рванулся, чтобы выйти вперед, мои глаза наполнились слезами. Я следила за резкими движениями его тела и слаженной работой мышц и все яснее понимала его индивидуальность – то, чем он отличался от других. И я знала, что люблю его, потому что он нравился мне больше остальных.
Его голос был словно розовая лента, развевающаяся на ветру:
– Раньше я стоял неподвижно и внимательно наблюдал за миром. Теперь я бегу так быстро, как только могу, и осознаю все так быстро, насколько возможно, но даже этого недостаточно, ведь все, что я вижу, – улицу передо мной, готовую исчезнуть за горизонтом. Вот бы расплющить землю, чтобы я видел все и всегда.
Я бы никогда не смогла соотнести исчерпывающие рассказы Вавры о каждом парне с их именами и лицами. Но его движения на сцене подняли мысли из глубин моего сознания, и они завихрились, как нить вокруг катушки со звучным именем: Мун. Я вспомнила, что двадцатилетний Мун был самым молодым в группе.
Он был вундеркиндом в балетной труппе Сеула, исполнял все главные роли, пока ему не исполнилось четырнадцать и его не наняла развлекательная компания. Четыре года спустя он почти провалился, пытаясь завоевать себе место в «Банде Парней», потому что президент компании, известная как Профессор Музыки, была настроена скептически: ни на кого не похожий Мун мог поставить группу в зависимость от индивидуальных особенностей своего танца. Другим участникам пришлось бы подстраиваться под него, и яркие, но вполне обычные, присущие остальным парням особенности стали необходимыми для проявления индивидуальности Муна. Для меня обрели смысл однажды сказанные Ваврой слова: он ел тяжелую пищу прямо перед сном и просыпался стройным и подтянутым, что доказывало интенсивность его метаболизма во сне.
Меня уносило. Я испытывала то, что Вавра однажды описывала как «Мой Первый Раз». Но, в отличие от потери девственности, которую я предвкушала с таким трепетным осознанием, что больше была уверена, что когда-нибудь займусь сексом, чем умру, я не знала, чего ожидать от Муна. Мой первый раз, пережитый в возрасте двадцати девяти лет, заставил меня задуматься обо всех других первых разах, которые у меня еще могут быть. Мир внезапно наполнился множеством возможностей для любви.
Через несколько песен парни снова встали в ряд. Поскольку Сан, самый старший, двадцатичетырехлетний, участник группы, говорил по-корейски, переводы на английский и немецкий транслировали на экране. По его словам, у них за плечами была уже половина их мирового турне, которое началось два месяца назад в Сеуле, после чего они отправились на восток, чтобы встретиться со своими поклонниками в Северной и Южной Америке. Он сказал, что теперь их путешествие привело их в Европу, и они решили удивить свои семьи, вызвав для них самолет на континент, на котором они, как и сами парни, никогда не бывали.
Каждый из парней смотрел в камеру, изображение с которой выводилось на экран, и выражал благодарность своей семье. Мун, выступавший последним, подошел к краю сцены.
Спрятав глаза от софитов, он посмотрел прямо в зал.
– Мама, папа, старшая сестра, – произнес он, – я вас не вижу. Я люблю вас. Но где же вы?
Это «но» ошеломило меня.
Звуки струнных инструментов, меланхоличные и медленные, наполнили зал. Мун подошел к центру сцены и встал там один. На его глазах была черная повязка. Все в зале подняли свои телефоны, включив перед моими глазами тысячи лун.
Он пел о том времени, когда ему было невыносимо пройти по комнате в присутствии других. Он не хотел, чтобы кто-нибудь знал, в какой он форме, поэтому носил безразмерные рубашки до колен. Тот факт, что он не мог спрятать от окружающих свое лицо, причинял ему боль. Если бы только оно могло оставаться скрытым от глаз, как и его паховая область. Но потом он увидел «меня». Наконец-то он смог выдержать то, что на него смотрят. «Я» смотрела на него так часто, чаще, чем кто бы то ни был в мире, что у него не оставалось выбора, кроме как увидеть себя. В этом и была проблема – в том, чтобы честно и открыто посмотреть на самого себя.
– Взведи курок своих глаз, – пропел он. – Я сделаю так, что в меня будет легко выстрелить.
Все в зале подняли руки и развели большие и указательные пальцы в стороны, превращая их в пистолеты, нацеленные на Муна. Я не могла сделать так же, ведь мои руки были скрещены на груди, не допуская ни единого лишнего движения, которое могло бы нарушить мое состояние абсолютной пассивности, которое я изо всех сил поддерживала, чтобы Мун мог воздействовать на меня как можно сильнее.
Послышались звуки выстрелов. Тысячи запястий свело судорогой. Мун, пораженный в грудь, отшатнулся назад. Я думала, что он упадет, но вместо этого он начал поворачиваться на одной ноге, подставляя себя под длинный поток пуль поклонников. Он нырнул головой, затем остальным телом. Его вторая нога раскачивалась в такт музыке. Я наконец поняла, что его рубашка цветом напоминала язык новорожденного. Он пробовал своим телом пространство на вкус. Этот день всегда будет первым днем его жизни.
Он остановился и сорвал повязку с глаз. Я смотрела то на экран, где видела капельки пота на кончике его носа, то на сцену, где его тело было крошечным размытым пятном. Я не знала, чего мне хотелось больше – четкой копии или размытой действительности. Он начал спускаться с подиума, который тянулся от главной сцены до самого центра зала. На экране я увидела, как капелька пота задрожала и исчезла, вероятно, упав на пол. Мун вздернул подбородок и посмотрел слегка свысока, как будто соблазнял того же человека, с которым хотел подраться. И этим человеком была я. Он шел прямо ко мне.
Я начала протискиваться сквозь толпу. Разъяренные поклонницы пытались преградить мне путь. Я не винила их, я была очень плохой фанаткой. Но и не чувствовала никакой солидарности. Я вычеркнула их из своего восприятия, из пространства вокруг. В моей голове стало тихо. Мун и я были одни в зале и шли друг к другу. Я хотела запрыгнуть на сцену и заставить его посмотреть мне в глаза. На долю секунды он не видел бы никого, кроме меня. Я знаю, меня бы осудили за навязчивость, но мне было все равно, я была человеком, я знала это, как ничто другое, настоящим человеком, пускай и несчастным и пустым.
Мун из крошечного сделался маленьким, из маленького – чуть менее маленьким. Я мечтала, чтобы он стал таким же большим, как я сама, но чем быстрее он приближался к тому, чтобы стать размером с нормального человека, тем больше я чувствовала, что он никогда не сможет этого сделать. Мы остановились одновременно: он дошел до конца подиума, но я не могла пробиться дальше сквозь толпу. Он мечтательно запрокинул голову, обнажив шею, почти такую же длинную, как и его лицо. Можно было разглядеть просвечивающие голубые вены под белой кожей. В них бурлила жизнь. Его шея была спокойной, в отличие от лица, которое отражало всю глубину его души. Ошибка Вавры была в том, что ее рассказы были настолько понятными, что я сразу знала о Муне все. Но все, что меня интересовало на данный момент, – это его необычная шея.
С потолка спустился стальной трос. Мун опустил голову, снова спрятав шею в тень, и прикрепил трос к пряжке у себя на ремне. Все лучи софитов в зале были направлены на него. Он стоял неподвижно и старался выдержать такое внимание к себе. Он был как подарок, который вручили, но тут же отняли. Меня пронзил голод. Я хотела большего, хотела всего этого, но не осмеливалась желать Муна, ведь насколько это было просто, настолько же и невозможно.
– Я буду тобой, когда вырасту, – пел он. – Ты будешь мной, когда родишься заново.
Когда трос поднял Муна в темный небосвод зала, я не прощалась с ним. Я знала, что увижу его снова, что я теперь обречена всегда видеть его. Его глаза были закрыты, а руки повисли по бокам, как будто он отдавался некой божественной силе. Его ладони сжались в кулаки, но при этом казались расслабленными. Мне стало дурно при мысли о том, насколько влажными они должны быть.
Я работала удаленно, копирайтером на английском языке в компании по производству консервированных артишоков, принадлежавшей австралийскому эмигранту. Я выражала словами любовь, которую гипотетически мог испытывать овощ к своим покупателям. Я и раньше не пылала особой любовью к своей работе, а после концерта и вовсе стала избегать звонков босса, чувствуя тошноту при мысли о том, что придется обсуждать серьезно такие несерьезные вещи.
Вместо этого я часами переписывала длинную записку, которую Мун написал для своих поклонников по случаю своего двадцатого дня рождения. Я мечтала иметь почерк как у него: узкий и угловатый, с особой энергетикой, заполняющей всю страницу. У меня не было своего корейского почерка. Я выросла, разговаривая на этом языке, но почти никогда ничего не писала. Всякий раз, когда я обжигалась кипятком, я вскрикивала от боли по-корейски, но, чтобы выразить боль, которую я испытывала от отношений с самой собой, требовался английский. «Мне нравится стареть на ваших глазах, – написал Мун. – Так я чувствую себя историей, от которой вы никогда не устанете». К тому моменту, когда я переписала записку в пятый раз, я уже знала текст наизусть. Его рука, так же как и его мысли, уже казались мне моими собственными.
На кровати заверещал мой телефон. Теперь звук на нем я включала только тогда, когда Мун собирался выйти в прямой эфир. Запустив трансляцию, я увидела его лежащим на белоснежных простынях на кровати в гостинице в Дубае. Он держал телефон прямо над своим лицом. Я перевернулась на живот и пристально смотрела на него сверху вниз, положив телефон на матрас. Его взгляд потяжелел от усталости. Я надеялась, что он не сделает ничего необычного. Его манера запросто общаться с фанатами заставляла меня почувствовать себя еще ближе к нему.
– Привет, Ливеры[1].
Парни называли своих фанатов «Ливерами», потому что мы были не просто «дорогими сумочками», которые они носили с собой. Мы поддерживали в них жизнь, как жизненно важные органы. Я подозревала, что они использовали английское слово liver, потому что оно было созвучно со словом lover. Они могли позволить себе некоторую жеманность. Но я бы предпочла быть печенью Муна, а не любовницей.
– Я только что вернулся из кафе внизу, – сообщил он. – На выбор была сотня различных блюд, но я ел только вредное. Надеюсь, вы хорошо поели сегодня?
– Пожалуйста, – напечатала я по-английски, – прибереги эту пустую болтовню для других. Еда мешает мне сосредоточиться. Немыслимо, что нужно есть три раза в день. Имеет ли это хоть какое-то значение?
Мун начал читать комментарии, и его глаза бешено забегали по экрану. Каждый комментарий исчезал после появления следующего, обычно на другом языке. Один фанат-веган просмотрел меню кафе и теперь составлял список всех представленных в нем животных, чтобы полюбить Муна «без иллюзий». Однако мне показалось, что если бы Мун пожевал этого фаната, как тех животных из меню, то доставил бы ему массу удовольствия.
Я слышала, как под Муном шуршит простыня при малейшем движении его тела. Но он не мог слышать тысячу шуршащих простыней его поклонников по всему миру.
Я пыталась представить, что больше никого нет, что мы с Муном парим одни в этом виртуальном пространстве. Но это быстро утомило меня, особенно когда я поймала себя на мысли, следует ли мне держать рот открытым или закрытым. Дело в том, что он не мог меня видеть. Даже возможность выглядеть перед ним тупицей казалась мне невозможной привилегией.
Мун громко рассмеялся. Он слегка прикрыл один глаз. Он был единственным человеком, которого я знала, кто мог так искренне подмигивать.
– Вы не спите всю ночь, беспокоясь о том, достаточно ли я ем.
Он был прав.
– Когда мой живот исчезает, вы скучаете по нему. Но когда он появляется снова, вы скучаете по тому, как раньше торчали мои ребра. Так чего же вы на самом деле хотите?
Его вопрос был абсолютно верным.
Я энергично застучала по экрану телефона:
– Я очень надеюсь, что ты периодически пропускаешь приемы пищи. Когда ты становишься худее, твоя душа становится заметнее, она практически у тебя под кожей. Ты становишься чистым потоком энергии, словно пламя факела. Но продюсеру лучше не сажать вас на диету. Это было бы отвратительно самонадеянно. Тебе виднее, как изнурять себя. Никто не может заниматься подобным, кроме тебя самого.
Я достигла максимального количества символов, нажала «Отправить» и смотрела, как мой текст исчезает в потоке гораздо более содержательных сообщений.
– Так много английского, – рассмеялся Мун. – Мне нужно воспользоваться переводчиком. – Он повозился со своим телефоном и прищурился. – Судя по тому, что я вижу, вы либо поэты, либо идиоты. А здесь? Это даже не перевод. Это просто корейское начертание английских слов. Должно быть, у этих английских слов нет аналогов в корейском. Боже мой. Что это за непостижимую вещь вы хотите мне сказать?
Мун тихо застонал. Чувствуя, что он скоро отключится, я умоляла его опустить телефон, чтобы почувствовать его лицо еще ближе к своему. Он застыл, будто встретившись со мной взглядом, и послушно улыбнулся, а мне захотелось раствориться в бархатной тьме его улыбки. Затем все видео расплылось.
Его левый глаз заполнил весь экран. Он был широко раскрыт и напряжен. Я поняла, что Мун больше не улыбается. У меня было странное чувство, будто он всегда был здесь, в моей постели, хоть и находился за тысячу километров отсюда, в Дубае. Этот глаз всегда прятался среди усталых складок моих простыней, всегда пристально следил за моей маленькой жизнью, прятался даже за темной стеной у моей кровати по ночам. Я придвинулась ближе. С той стороны экрана находился весь остальной Мун, его шея, все его тело. Мы смотрели друг на друга, не двигаясь и не произнося ни слова. Я знала, что лучше не думать, что он прочитал мою просьбу, а тем более решил покориться ей. Но это не имело никакого значения. Мне не нужна была безумная удача, чтобы остаться с ним наедине.
Я мысленно обвила руками его шею и крепко прижала к себе телефон, отгораживая нас от окружающего мира. В моей комнате было тепло от обогревателя, а свет – приглушен. Изображение было настолько размытым, что я не могла сказать, где заканчивалась коричневая радужка и начинался черный зрачок. Меня гипнотизировала абсолютная тьма его глаз. Но чем больше я в нее всматривалась, тем больше цвета я видела. Вдруг глаз отделился от Муна, став отвратительным иероглифом.
– Простите меня, – сказал он. – Но у меня так устала рука. – Его глаз закрылся; экран потемнел. Простыни подо мной внезапно похолодели. Мун продолжил. – Я очень устал. В моем желудке верблюжье мясо, но в голове… там ничего нет.
Затем он отключился. Он так надрывно произнес: «Там ничего нет». Я сделала часовое аудио из одной этой фразы. Мне хотелось снова и снова переслушивать этот невероятно милый момент.
– Там ничего нет, – снова прозвучал его голос на повторе, достаточно громко, чтобы мой динамик задрожал. Вавра сердито забарабанила в мою дверь. Я сжала кулаки и прикусила язык.
Но, учитывая все, что я чувствовала в тот момент, мне хотелось сделать больше. Я оглядела свою комнату и взяла со стола книгу. «Там ничего нет, – сказал Мун. – Там ничего нет». Я швырнула книгу на пол. Мое сердце смягчилось, когда я увидела, как она терпеливо лежит, прислонившись к стене, тихо приходя в себя. Поэтому я встала на колени и открыла первую страницу, пообещав читать внимательно. Но слова текли мимо, не производя на меня никакого впечатления.
Все, что мне было нужно, – одно единственное предложение, в котором я увижу истину. Но я переворачивала страницу за страницей, все быстрее и быстрее. Мои руки были в порезах, как будто я схватилась за пасть бешеной собаки.
2. Все доступное человеку
Мастерсон и его соседи по квартире устраивали вечеринку, где все говорили на немецком. Я могла уловить суть разговоров в общих чертах. К тому моменту, когда мне было что сказать и я знала, как сказать это по-немецки, разговор перескакивал на совершенно новую тему. Например, друг Мастерсона сказал:
– Каждый рождается с добрым сердцем. Я ненавижу не своих врагов, а общество, которое сделало их такими.
После чего я произнесла:
– Мне нравится все плохое, что когда-либо случалось со мной.
Устав от разговоров, я села в кресло и принялась следить за перемещениями каждого гостя по комнате. Всем присутствующим было около тридцати, они заканчивали высшие учебные заведения в области гуманитарных или социальных наук и имели параллельные проекты в области искусства или политики. Они балансировали между непоколебимой силой своего профессионализма и несколькими тщетными способами эту силу отрицать. Эти люди нуждались в своих «правильных» развлечениях, которые как бы невзначай поддерживали их карьерный рост, – пока равновесие не нарушалось, к большому их тайному облегчению. Затем они немного падали духом, что, конечно, сопровождалось случайными удовольствиями.
По комнате перемещались все, кроме Мастерсона. Все постоянно подходили к нему. Он сидел на подоконнике справа от меня в дальнем конце комнаты, зажав сигарету двумя костлявыми пальцами, вытянув ноги и натянув мыски ступней на себя. Он терпеливо и подробно отвечал на стандартный вопрос одного из гостей, который, казалось, был встревожен этим незаслуженным проявлением интереса. Все в Мастерсоне было долгим, даже его мысли. Я украдкой наблюдала за ним через прямоугольное зеркало на стене слева от меня. Я надеялась, что все скоро уйдут. Больше всего мне нравилось лежать обнаженной и абсолютно неподвижной под ним в постели и смотреть ему в глаза без какого-либо выражения на лице. Я была счастлива в те моменты, потому что была никем, просто мерилом его веса.
Какая-то женщина уселась на подлокотник рядом, мешая моему чувственному созерцанию.
– Что ты делаешь? – спросила я по-немецки. На иностранном языке было легче проявлять агрессию.
– Я пишу диссертацию, – просто сообщила она. – Ты, должно быть, слышала поговорку «не ножа бойся, бойся языка». Что ж, в последние годы ее употребление исчезло из массовой литературы. Зато свое место заняло сравнение пера с пистолетом. Я думаю, это отражает растущее осознание того, что писательство убивает быстро и на большом расстоянии. Литература убивает не читателя, как можно было бы ожидать, а персонажей, которые ничем не отличаются от реальных людей. За каждым персонажем скрывается обычный человек, чья незыблемость нарушается в процессе литературного преображения. Каждая черная буква на белой странице – это пуля.
Она, должно быть, решила, что я хотела спросить: «Чем ты занимаешься?» Я была возмущена, потому что каждый в теории знал, кто из присутствующих чем занимался.
– Зачем ты изучаешь литературу, если ненавидишь ее? – спросила я раздраженно.
– Ненавижу? – Женщина повертела это слово во рту, как будто оно было камешком, который попался ей в тарелке с едой. – Кто говорит о ненависти? Нет, я не испытываю ненависти к литературе. – Потом она заявила, что я должна прочитать какого-то теоретика. – Будь уверена, ты никогда больше не посмотришь на книгу как раньше.
– Мне это не нужно, – дернула плечом я.
Женщина не ответила, посмотрела в другой конец комнаты. Мы с ней никогда бы не сошлись во взглядах. Так было с большинством людей.
– Откуда ты его знаешь? – спросила она, глядя на Мастерсона.
– Я его сестра.
– Странно, – неуверенно произнесла она, снова повернувшись ко мне. Я чувствовала, как ее глаза скользят по моему лицу. – Он никогда не упоминал, что у него есть сестра.
– Я приемная. Мы давненько не виделись.
– Оу. – Ее голос прозвучал ненамного спокойнее. – Откуда ты родом? Я имею в виду, откуда твои биологические родители?
– Я не знаю.
– Ты могла бы сделать генетический тест, чтобы выяснить это.
– Я – это не мои клетки.
– Тогда кто ты?
– Ну, а кто ты?
– Мои клетки в обобщенном смысле зовут Лиз. Они из Гейдельберга.
Только тогда я поняла, кто она такая. Мастерсон рассказывал мне невероятные истории о Лиз. Год назад пики и спады их отношений достигли такой амплитуды, что за один только час он испытывал то желание жениться на ней, то чувство тошноты от звука своего имени из ее уст.
Однажды, во время расставания, он допустил ошибку, начав предложение словами «А вот мне кажется…», и она сорвала очки с его лица, бросила их на землю и раздавила ботинком. Всякий раз, когда Мастерсон говорил, что не любит ее, она убеждала его в обратном. И тогда он понимал, что действительно любит. Если большинство людей искали кого-то, кого можно было бы полюбить, то она, словно сборщик налогов, искала тех, кто не смог полюбить ее, и заставляла их расплачиваться.
Лиз рассказывала про свои любимые здания в Гейдельберге. Она водила руками в воздухе, изображая их силуэты. Я представила, как ее клетки ударяются о стены этих зданий во время драк, но все же я надеялась, что это происходило в основном от занятий любовью, – и затем изумилась, что она стоит передо мной целой и невредимой.
– Твои клетки умрут тоже в Гейдельберге? – спросила я.
– Надеюсь, – сказала она. – Там находится наше семейное кладбище. Где ты умрешь?
– Я не знаю, – покачала головой я.
Лиз встала и подошла к прямоугольному зеркалу. Она внимательно посмотрела на Мастерсона поверх плеча своего отражения, затем отвернулась. Ее взгляд выражал спокойное согласие. Мои глаза не отрывались от стакана с пивом, который Мастерсон, стоявший вдалеке, опустил на деревянный столик рядом с собой. Он сделал этот стол сам, воодушевленный своим новым планом, согласно которому мы должны были съехаться. Однажды я положила на него карандаш и наблюдала, как он перекатывается с одного края на другой и падает. Будто наши будущие ужины с грохотом падали на пол; я надеялась, что он просто хочет морить меня голодом, чтобы другим досталось меньше. Мастерсон уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но затылок Лиз скользнул в кадр и заслонил от меня его лицо.
Я хотела немедленно уступить. Я больше верила в чувства Лиз к Мастерсону, чем в свои собственные. Она знала, чего хочет, и у нее это даже было раньше. Когда она снова это получит, то будет счастлива.
Я встала с кресла и попыталась разглядеть Мастерсона в зеркале, но теперь мне мешало мое собственное отражение, которое – к моему шоку – было немного похоже на Муна. Раньше я никогда не замечала этого сходства. Это было поразительно. Мы объективно были похожи. Особенно глаза и губы; пухлость губ наводит на мысль о чрезмерной чувственности, как будто они слишком много пробовали на вкус, глубина глаз поражает, как будто они слишком много разглядывали. И мои черные блестящие волосы, похожие на шлем. Но я была подделкой во всех отношениях. Мун был красив не из-за какой-то конкретной физической особенности. Между всеми частями его лица существовала трепетная метафизическая гармония. Мне не хватало такого. Если его красота сияла на весь мир, то моя была обычной, ее замечали только находящиеся рядом люди.
После вечеринки я размяла остатки торта рукой. Сливочный крем тоскливо хлюпнул под моей ладонью. Мастерсон все еще сидел на подоконнике. Затем выпрямил ноги, развел их в стороны и потянулся ко мне. Я встала между его коленями и позволила ему обхватить себя за талию.
– Как ты? – поинтересовался он.
Я не знала, как ответить так, чтобы ему понравилось. Лично я всякий раз, когда сама спрашивала кого-то «Как дела?», на самом деле имела в виду: «Я – это не ты, твой ответ не должен быть таким, как мне хочется». Слова «О, это напомнило мне тот раз…» всегда вызывали у меня желание закончить разговор как можно быстрее. Я не хотела никому ни о чем напоминать. Мне не нравилось подстраиваться под кого-то.
В тишине я подняла свою испачканную в торте руку ко рту Мастерсона. Он обсосал мои пальцы один за другим, проводя языком по каждому суставчику. Наконец-то я начала получать удовольствие. Я поняла это, потому что мне захотелось, чтобы у меня было больше тела, которому мог бы доставить удовольствие весь мир.
Мастерсон начисто вылизал тыльную сторону моей ладони, на которой появилась временная татуировка в виде лица Муна. Я еще не рассказала Мастерсону о Муне. В любом случае он не заметил татуировку, которая была настолько плохо сделана, что даже нельзя было понять, что по задумке это был человек. Но я ценила все, что было связано с Муном, даже нереализованные намерения.
– Почему ты всем говоришь, что ты моя приемная сестра? – спросил Мастерсон.
– Они постоянно спрашивали меня, откуда я тебя знаю, – ответила я. – Что за безумный вопрос? Мне понадобились бы еще как минимум две скучные вечеринки, чтобы объяснить, откуда я тебя знаю.
– Мы познакомились в интернете, – предложил он. – Неужели это так трудно сказать?
– Как ты смеешь, – возмутилась я, – считать это настолько неважным? Как ты смеешь?
Я положила руки ему на голову по обе стороны и осторожно потянула вверх, пытаясь представить, как ее вес отделяется от шеи. Его лоб поднялся не более чем на три пальца. Я чувствовала, что его лучшие идеи скрывались как раз за этой замечательной, плотной частью его лица. Между тем его шея была не очень надежной опорой. Она была тонкой, похожей на птичью.
– Нильса чуть не стошнило, когда он увидел, как я ласкаю тебя на кухне, – вздохнул Мастерсон. – Мне пришлось объяснить, что ты мне не сестра, а человек, в которого я на данный момент планирую влюбиться.
– Прошло уже два месяца, – заметила я. – Если ты все еще планируешь такую возможность, то ты никогда меня не полюбишь.
– Но я хочу быть влюбленным в тебя.
– У меня даже не было возможности подумать об этом. Я полюбила тебя, как только увидела. Я люблю тебя безмерно.
– И я хочу любить тебя. Даже мысль о том, что я влюблен в тебя, делает меня счастливым. Я хочу, чтобы это счастье продолжалось в настоящей любви к тебе. Дай мне время. Я не могу дождаться момента, когда однажды полюблю тебя.
В его комнате мы лежали по обе стороны от полосы лунного света, струящейся по его кровати. Мы изучали друг друга. Пьяная перебранка на улице началась и закончилась к тому времени, когда мы одновременно кончили со вздохами облегчения. Яркие минуты закончились. Потом мне ужасно захотелось пить.
Я опустила глаза. Мне показалось, что Мастерсон отложил в сторону свое собственное удовольствие, как какой-то отдельный предмет, и целенаправленно вернулся к моему телу, приступив к прикосновениям, которые я воспринимала как своего рода расплату. Но я ничего не требовала от Мастерсона кроме того, чтобы он никогда не мешал мне любить его.
Я закрыла глаза. Темнота за моими веками постепенно обретала форму. Я снова была в концертном зале, но на этот раз толпы людей там не было. Я была одна на танцполе и наблюдала, как Мун двигался по подиуму, а стук каблуков его обуви эхом разносился в пространстве. Дойдя до конца сцены, он спрыгнул и пошел в мою сторону. Я стояла неподвижно, наслаждаясь пониманием, что он приближается именно ко мне. Ничто в этой огромной пустоте не могло отвлечь его от меня. Когда он, наконец, оказался возле меня, я взяла его за руку и вывела из зала в беззвездную темноту, в глубине которой ждала кровать Мастерсона.
Мун лежал на спине. Я забралась на него сверху и убрала волосы с его лица. Он посмотрел на меня так, будто бы узнал. Воодушевленная его взглядом, не в силах этого вынести, я закрыла глаза и поцеловала его. Но поцелуй был необычным, будто бы я прижалась губами к тыльной стороне собственной ладони. Я чувствовала то, что он чувствовал ко мне; я чувствовала, каково это. С самого начала я поняла, что у меня нет сексуального влечения к Муну. Моя сексуальность просто любила его сексуальность, целиком и полностью. И мне не нужно было ничего знать о том, что он делал со своей. Я чувствовала себя опозоренной самой жизнью и ее странными законами и потому не могла просто хотеть его.
Почувствовав мое колебание, Мастерсон взял контроль в свои руки. Мун лежал на кровати в молочном свете луны, в то время как торс Мастерсона возвышался над ним в темноте рядом со мной. Он полностью расстегнул рубашку. Складки розового шелка соскользнули с тела, обнажив полоску сияющей кожи. Мастерсон подтолкнул меня стянуть с него брюки, затем нижнее белье.
– Как ты? – спросил Мастерсон.
Мун посмотрел на него с печальным почтением. Он открыл и закрыл рот, не издав ни звука. У него не хватало слов, чтобы описать все чувства, доступные человеку. В отчаянии он схватил крупные руки Мастерсона, которые были гораздо больше его собственных, и обхватил ими свое горло. Он запрокинул подбородок, вытягивая шею как можно длиннее, затем жестами показал, что Мастерсону следует сильнее сжать ее. Несомненно, глубоко внутри он ощущал, что ему было что сказать. Но эти мысли предстояло выдавить, как зубную пасту.
– И все-таки, как ты? – снова спросил Мастерсон.
Мун показал, что надо сжать еще сильнее.
Мастерсон подтолкнул мои колени к бедрам Муна, отчего его яички напряглись. Их сморщенная нежная плоть буквально засветилась. Мастерсон уложил меня на юного любовника, придавив нас тяжестью собственного тела. Наши тела купались в лучах лунного света, руки Мастерсона по-прежнему удерживали Муна за шею. Его лицо появилось из темноты. Мастерсон приблизился вплотную к лицу Муна и создал между этими двумя плоскостями густую тень. Наши губы слегка соприкоснулись, так и не поцеловавшись по-настоящему. Мастерсон глубоко и угрожающе выдохнул. Его хищный взгляд возбудил Муна, который, открыв рот, наслаждался своей беспомощностью в чужих руках.
Я знала, что он чувствовал, и намного лучше, чем если бы ощущала это сама. Юноша был моим послом в чужой стране, с которой моя страна была в деликатных отношениях. Такая изувеченная королева, как я, никогда не смогла бы посетить этот край самостоятельно.
Следующим утром я проснулась и обнаружила, что Мастерсон лежит на боку и читает книгу, которую я ему одолжила. Он взглянул на меня, затем протянул что-то похожее на игральную карту.
– Хочешь, чтобы я ее вернул? – спросил он. – Я нашел ее между страниц.
Это была глянцевая карточка, на которой Мун улыбался так широко, что его глаза были почти закрыты. Ее вложили в изящную пластиковую коробочку с тридцатидневным запасом ухода для кожи, который рекламировала «Банда Парней». Я купила тщательно подобранный набор увлажняющих масок для лица только для того, чтобы заполучить изображение, где Мун так искренне радуется.
Но сейчас я меньше всего ожидала увидеть эту картинку. Это настолько сбило меня с толку, что я отодвинулась, не взяв ее у Мастерсона.
– Это Мун, верно? – уточнил он.
Я встала на колени на кровати в изумлении.
– Откуда ты знаешь, кто такой Мун? – спросила я.
– А что такого? Я живу в этом мире и остаюсь в курсе событий. Ты что, фанатка?
– Нет, – ответила я. – Я не фанатка.
Я хотела рассказать о том, кем я была на самом деле, но в голову не приходило ни одного слова.
– Они – невероятный феномен, не так ли? – спросил Мастерсон, рассматривая фотографию.
– Что ты имеешь в виду? – подозрительно проговорила я.
– Когда-то мы обращались к философии, способной толковать понятие Бога, за тем, что лежит за гранью нашего понимания. Но философия уступила свое место информации. Теперь мы знаем слишком много, особенно о том, чего хотят люди и как им это дать. Мы больше не используем религию в нашей бесконечной борьбе с негативом. Религия, лишенная философии, теперь превратилась в торговый автомат для проявления и реализации себя. Вот почему в эту светскую и циничную эпоху так много богов с маленькой буквы. Забываясь в противоречиях, мы стремимся к духовным практикам, которые сделают нас достойными получения постоянных ответов и решений. Бойз-бэнд типа этого, – Мастерсон помахал фотографией Муна, – один из таких богов. Это всего лишь данные, замаскированные под философию, сухая информация, замаскированная под искусство. Мы больше не ходим в церковь раз в неделю, мы посещаем концерт на стадионе раз в год. – Он широко улыбнулся, взбудораженный своей новой идеей. Я даже не стала с ним спорить. Тем не менее у меня была своя точка зрения, основанная на личном опыте. – Я думаю, что буду использовать их в своем исследовании, – сказал он, глядя на Муна сверху вниз с дружелюбным любопытством. – Я должен узнать о них все, что смогу.
Я выхватила фотографию у него из рук.
– Ты чего? – спросил он.
– Муна нельзя изучить, – отрезала я. – Он слишком живой, может быть слишком разным. Вообще-то, мы с ним будем общаться сегодня вечером. Он спросит о том, как прошел мой день и с какими сложностями мне пришлось столкнуться. Он подробно обо всем расспросит. Он ничего не скажет, когда я попрошу его быть абсолютно серьезным. Но при этом с ним я смогу безудержно смеяться, так, как никогда не выходит с тобой. Как будто я вот-вот надорвусь.
Лицо Мастерсона помрачнело от замешательства, но я видела, что до него начало доходить, что мои слова были язвительной шуткой.
– Ты говоришь о нем так, будто знаешь его, – осторожно заметил он.
– Я и правда знаю его. Совершенный незнакомец для меня только ты.
– Я должен отнестись к этому серьезно?
– Я всегда серьезна. Я понятия не имею, кто ты такой.
– Но ты знаешь Муна. Это, кстати, трудно доказать.
У меня возникла спонтанная фантазия спрятать свое сердце в груди Мастерсона, прямо рядом с его сердцем. Но если бы у меня не вышло полностью соединиться с его телом, то мне бы пришлось сослать себя в Иркутск. В любом случае мне больше не пришлось бы мучиться из-за неопределенности между нами – то опьяняющая близость, то леденящее душу отчуждение. Мне захотелось высказать ему самые подлые, самые гадкие слова, которые только могли прийти мне в голову:
– Он будоражит мое воображение больше, чем ты.
– Разумеется, – ответил Мастерсон, – потому что он существует в твоем воображении.
– Он – человек, который дышит, ест и мечтает в Сеуле.
– А я – человек, который дышит, ест и мечтает в Берлине. – Мастерсон протянул руку и больно ущипнул меня за бедро. – И я знаю о твоем существовании.
– Ты, возможно, и знаешь о моем существовании, но он, в отличие от тебя, знает обо мне самое важное, а именно о моей потребности в духовном общении.
– А, ты имеешь в виду, что он создает свою лирику, максимально используя при этом свою сексуальность и привлекательность, с особым намерением затронуть самые тревожащие человека темы, такие как одиночество или стремление к безусловной любви, а затем извлекает огромную прибыль из своего вампиризма?
Я скатилась с кровати и начала одеваться, попутно засовывая фотографию в карман.
– Он работает над нашими отношениями в сто раз усерднее, чем ты, – бросила я, агрессивно засовывая ногу в ботинок. – Он каждый день делает физиотерапию, потому что его связки постоянно находятся на грани разрыва. Можешь ли ты сказать то же самое о своих связках?
Когда я включила прямую трансляцию, то увидела Муна, сидящего за столом. Я узнала вид позади него. Это была роскошная квартира, которую он снимал с другими парнями в неизвестном районе Сеула. Его глаза припухли, а значит, он недавно проснулся. У них было утро. Он тихо напевал что-то, не сводя с меня глаз. Во рту пересохло; я широко улыбнулась.
– Ливер, – пробормотал он, – я бы хотел сесть на поезд и отправиться прямо к тебе.
Я так сильно скучала по нему, что мои глаза наполнились слезами. Как так получилось, что я скучала по кому-то, кого никогда раньше не встречала? Тому, кого я надеялась однажды увидеть? Значит ли это, что я могла упустить свое будущее?
Мун повернул телефон, чтобы показать Меркьюри, сидящего напротив за столом. Я была уязвлена предательством, его невниманием к нашему редкому шансу побыть наедине. Испытывать негативные чувства из-за Муна было настолько некомфортно, что я перенесла их на Меркьюри. Я сместила эмоциональный фокус с одного парня на другого, и у меня закружилась голова. Все, что я чувствовала в течение нескольких секунд, – только испепеляющая ненависть. Мне стало страшно, что мое сердце может никогда не вернуться к своему основному чувству – любви к Муну.
– Не злись на меня, – сказал Мун в камеру. – Это не то, что ты думаешь. Я правда хочу побыть с тобой наедине. Но иногда не могу целый час слушать только свой голос.
Меркьюри сидел неподвижно, уставившись в стол, словно он был охвачен одной-единственной, самой удручающей идеей в мире. Он был известен как наименее разговорчивый среди парней, но все же его настроение сегодня показалось мне особенно подавленным.
– Я бы хотел слышать голос каждого из вас, – продолжал Мун. – Но если бы я поговорил с каждым из вас всего по одной минуте, это заняло бы два столетия. Поэтому я хочу кое-что попробовать. Представь, что Меркьюри – это ты. Да, притворись, что мы с тобой одни в этой комнате. Напиши в чате, что бы тебе хотелось сказать или сделать, и Меркьюри будет говорить вместо тебя.
Мун едва успел договорить, как в чат посыпались сообщения. Меркьюри тут же вскочил со стула и бросился к окну, где спрятался за длинной шторой. Оттуда он посмотрел на Муна.
– Не смотри на меня! – воскликнул Меркьюри. – Я не готов!
– К чему? – спросил Мун.
– Быть наедине с тобой.
– В этом нет ничего такого. Поверь мне. Я делаю это постоянно.
Меркьюри вышел из-за занавески и осторожно приблизился к столу. Он вернулся на свое место. Его лицо выражало множество эмоций – от мучительного страха до добродушного удовлетворения. В конце концов он открыл рот и смотрел на Муна с благоговейным трепетом, приблизившись к нему.
– Есть ли в тебе что-нибудь некрасивое? – спросил Меркьюри. – Покажи мне. Тогда я буду точно знать, что ты реальный человек.
Мун провел руками по столу:
– Кутикула.
Меркьюри склонился над руками Муна и начал дергать одну кутикулу за другой. Он оторвал лишние кусочки кожи и собрал их в небольшую кучку. Затем отправил кусочки в рот и принялся жевать их. Судя по работе его челюстей, по консистенции они напоминали вяленое мясо.
– Я люблю даже твою мертвую кожу, – печально сказал он. – Я обречен.
Меркьюри расплылся в улыбке, которая обычно предвещает неуместный смех. Но он не засмеялся. Вместо этого он пробормотал, что ему холодно и одиноко в санатории, затем что-то о желании спрятаться под столом всякий раз, когда в комнату входит человек красивее него. Он улыбался все время, пока говорил.
Затем он встал и ненадолго исчез из вида. Вернулся со свечой и зажег ее от спички.
– Ты можешь сгореть? – спросил он, хватая Муна за руку и поднося ее к пламени. – Трудно представить, что ты сделан из того же материала, что и я.
– Да, – ответил Мун. – Это очень больно.
– Я так разозлюсь, если ты умрешь раньше меня.
– Прекрати, прекрати. – Сначала Мун наблюдал за Меркьюри с нежным любопытством, но сейчас он высвободил руку и сердито посмотрел на него. – Ты действительно хочешь провести те крохи времени, что отведены нам, так? Может, ты хочешь о чем-нибудь поговорить?
Услышав эти слова, Меркьюри явно загорелся желанием поболтать, но в таком избытке, что беседа стала практически невозможной. Он хотел затронуть множество тем:
– Это правда, что у женщин в Корее аура белая, как снег? Тебе нравятся твои яйца? Можно я рожу тебе детей? Как мне заставить его согласиться на то, чтобы я его любила? Должен ли я сказать «да»? Тебе когда-нибудь было стыдно за меня? Не щади моих чувств. Я выгляжу отвратительно, когда выкрикиваю твое имя? Когда я слушаю новости, я завидую самому ужасному событию дня, например старшекласснику, стреляющему в своих одноклассников, или семьям, сгоревшим дотла в результате военного удара. Я бы хотел быть одним из этих ужасных событий, чтобы ты услышал обо мне. Эй, а почему тебе не нравится Достоевский?
Мун не успел ответить, как Меркьюри поднялся со своего места и встал позади. Он обвил руками шею Муна. Сначала объятие было дружеским. Но затем рука скользнула по груди Муна и расстегнула верхнюю пуговицу его рубашки. Мун оттолкнул руку. Меркьюри испуганно вернул руку на плечо Муна и похлопал его как партнера по группе. Но потом, с той же чувственностью, присущей объятию, Меркьюри чмокнул то место, где плечо Муна переходило в шею, и хохотнул. Кадык дернулся от волнения.
– Прошу тебя… – сказал Мун.
Меркьюри закрыл лицо руками. Он сделал пару шагов назад и исчез из поля зрения, где-то под столом.
– Я делаю тебе неприятно? – услышала я его голос. – Войдет ли это в твою личную историю как момент, когда все изменилось к худшему? Будешь ли ты приходить в себя после меня? Мне стыдно за то, как плохо я живу. Стать человеком – наша единственная задача, и я смутно осознаю, что для ее выполнения требуется, чтобы я прикоснулся к самой сокровенной части другого человека руками истины, ненадолго дарованными свыше. Но никто мне этого не позволит. Что же мне теперь, покончить с собой? Скажи мне как. Я хочу сделать это мрачно и элегантно, чтобы ты мог гордиться.
– Нет, нет, нет, – затараторил Мун.
Он соскользнул со стула и опустился на пол, тоже скрывшись из виду. Слышен был только плач. Поскольку его источника нигде не было видно, плач будто звучал с моей стороны экрана, и я чувствовала, что, если я закрою свой ноутбук, плач продолжится.
Я посмотрела на окно чата впервые с тех пор, как Меркьюри начал свою работу в качестве нашего посредника. Там разгорелся спор. Фанаты, которые поклонялись Муну как святому, были возмущены святотатством фанатов, которые хотели получить шанс на романтическую любовь с ним. Однако и тех, и других раздражали те немногие здравомыслящие люди, которые просто хотели «узнать его получше».
Сбоку на экране появилась рука и направилась к середине. Я повернула лицо, чтобы подставить щеку, сгорая в предвкушении ласки, которую ждала от Муна. Но как только его ладонь стала достаточно большой, чтобы я могла разглядеть ее изогнутую линию жизни, мой экран потемнел, и плач исчез.
3. @fleurfloor
В один из дней, сидя на краю своей кровати и обхватив голову руками, Мастерсон признался, что не смог полюбить меня, как бы он ни старался. И вряд ли когда-либо сможет это сделать.
– Конечно, ты не сможешь, – согласилась я, затем скатилась с матраса и продолжила собирать свои книги с его стола. Мои движения были естественными. Убираться из чьей-то жизни было моим обычным занятием. – Однажды я как бы случайно оставила здесь свой дневник, надеясь, что ты украдкой прочитаешь. Но ты этого не сделал. Как ты вообще смог бы влюбиться в меня, если я тебе ни капли не интересна?
– Ты обижена, – отметил Мастерсон. – Ты поступаешь нерационально.
– Я действительно веду себя недостаточно рационально. Людям следует делать более поспешные выводы. – Я не могла в точности объяснить то, что я чувствовала, и это было сокрушительным разочарованием. Это было то чувство, которое бы без труда мог выразить ребенок. – Я и вправду твоя приемная сестра. Ты знаешь, что должен любить меня, но ты не знаешь, как сделать так, чтобы эти чувства казались органичными, как будто бы ты всегда их испытывал.
– Возможно, ты права, – деликатно согласился Мастерсон. – Но я знаю, на что похожа любовь. Я уже испытывал ее раньше.
– И на что же она похожа? На бабочек у тебя в животе? От нее бегут мурашки по коже?
– Да, – сказал он. – Ты, наверно, думаешь, что это глупо, но да, так и есть.
– Я не думаю, что это глупо, – холодно ответила я. Я совсем не думаю, что это глупо.
– Ты всегда так делаешь, ты вынимаешь чувства буквально из всего. Я хочу чувствовать, что возвращаюсь куда-то. Я хочу чувствовать себя с тобой как дома.
Я кивнула, не взглянув на него. Я понимала, что спорить невозможно. Он меня совершенно не понимал. Я прижимала книги к груди до тех пор, пока не почувствовала, как мое сердце бьется об обложки. Мастерсон взял их у меня и прочитал все. Иногда я представляла, как мы с ним встречаемся в комнате для нашего совместного чтения и продолжаем реализовывать нашу жизнь там. Но я понятия не имела, как попасть в эту комнату, а разговоры о книгах только все усугубляли.
– Я хочу чувствовать себя с тобой как дома, – проговорил он.
Прижимая к себе книги, я ткнулась в него лицом и сказала, что он самый глупый человек, которого я когда-либо встречала, даже глупее меня.
Я написала Мастерсону письмо от руки и сделала это, совершенно не думая, о чем пишу.
Когда я закончила, я была удивлена, увидев то, что написала: «Так много людей смотрят на меня, но на самом деле меня не видят. Ты другой. Ты даже не знаешь, что я существую, но ты видишь меня». Там также была фраза: «Я так сильно тебя люблю». И: «Ты самый привлекательный человек, которого я знаю. В тебе всегда есть что-то новое». Осознав, что я натворила, в строке «Дорогой Мастерсон» я зачеркнула в его имени практически все буквы, оставив только первую и последнюю и написав сверху большую У, чтобы получилось «Дорогой Мун».
Я запечатала письмо и отправила его Мастерсону.
Вполне вероятно, что он понятия не имел, что я имею в виду. Но лучше бы он вообще ничего не понял, чем понял бы большую часть, но не все. Я устала от споров и откровений, от слов, слетающих с моих губ и разбивающихся о лицо другого человека. Такая грубость неизбежно вносила изъяны в наши отношения. Я очень хотела, чтобы наше общение стало более глубоким, но мне не хотелось, чтобы оно стало от этого напряженнее. Я мечтала сделать все настолько тонко, чтобы в конце концов мышление Мастерсона приспособилось к моему и он сам бы не понял, как это произошло.
Ответа не было. Тогда я начала писать Мастерсону еще одно письмо, адресованное Муну.
Но в итоге вместо этого я написала рассказ.
Он начинается с того, что главная героиня стоит на автобусной остановке в Берлине. Она трет глаза. Мушки перед глазами мешают ей видеть мир, который просто существует. Он ни мрачный, ни ясный. Но если мир окутан мраком, она хочет иметь четкое представление об этом мраке. Она поворачивает голову и замечает мужчину, который необычайно спокойно затягивается сигаретой. Она находит его красивым и надеется, что никто из людей на остановке не считает так же. Ее внутреннее чувство прекрасного трепещет при мысли о том, что он тоже может понравиться одному из этих людей. Она подходит к мужчине и просит затянуться. Он молча протягивает ей сигарету. Она затягивается с такой силой, что дым проникает прямо к ней в мозг. Вообще она не курит. У нее нет такой привычки. Для нее это грубый жест желания. Она надеется, что это и так понятно. Со слезящимися глазами она возвращает сигарету.
– Я уже знаю, что вытерпела бы самую непростительную боль ради тебя, – говорит она, засовывая руку в карман его пальто и перебирая мелочь между пальцами.
– Тогда давай сделаем что-нибудь вместе, – отвечает мужчина. – Может, нам сходить поесть? Я знаю, что мне стоит это сделать. Но у меня не тот аппетит, что заслуживал бы внимания. Я родился с желудком меньше, чем мое сердце. Посмотри на мое тело, – он показывает на себя сверху вниз, – оно невероятно длинное. Во мне так много того, что нужно подпитывать.
Автобус приезжает, но эти двое не садятся в него. Когда они идут по улице, главной героине кажется, будто бы в прошлой жизни их грубо разлучили. Впервые в жизни она осознает, что может говорить именно то, что она думает.
В дешевом бистро они вдвоем разделяют большую лепешку, обернутую вокруг пережаренного мясного шницеля. Мужчина ест совершенно обычным способом. Ей это нравится – то, как еда приближается к его рту и быстро исчезает сама собой. Она узнает, что он философ и что его зовут Мун. Он узнает, что в ней нет ничего особенного. Она описывает себя как пустоты, собранные в форму человеческого тела. Перед расставанием они меняются своими телефонами, поэтому все, что им нужно сделать, чтобы связаться друг с другом, – это набрать свой номер по памяти. Их телефоны превратились в переговорные передатчики только для них двоих. Очевидно, что они больше никогда не свяжутся ни с кем другим.
На следующий день главная героиня одним махом прочитывает последнюю книгу Муна и понимает ее полностью, не осознавая, что именно она понимает. Этот опыт наполняет ее мощным светом. Она хочет убить каждую трусливую и целесообразную мысль в своей голове. Она также хочет рискнуть и почувствовать настолько сильное смятение, насколько это возможно. Она быстро понимает, что эти желания – одно и то же. Разумная странность работ философа иногда доводит ее до слез.
– Спасибо, что не пытаешься понравиться мне, – говорит она, встряхивая книгу, как коробку с хлопьями.
Мун пишет и публикует еще одну книгу в течение нескольких недель просто для того, чтобы ей было что почитать. Он оставляет свою жену и детей. Она так восхищается его холодной решительностью, что с нетерпением ждет, когда в будущем ей также придется страдать оттого, что ее бросили. Она готовится к этому. Она тренируется задерживать дыхание под водой до тех пор, пока у нее не начинает болеть все тело.
– Будь со мной в этом мире, – говорит она ему по телефону. Давай представим, что мы персонажи видеоигры, у которых много шансов в жизни, и без страха попадем в какие-нибудь необычные обстоятельства.
Но они не ходят рядом друг с другом. На улице она держится в нескольких метрах позади него, поэтому всегда тоскует по нему. Несмотря на то что они оба понимают, что влюблены, они сближаются постепенно. Они встречаются семнадцать раз, прежде чем по-настоящему соприкасаются друг с другом.
– Вот такая жизнь, – думает она в разгар всего, что с ними происходит. – Я умираю.
Философ не умеет ни петь, ни танцевать. Всякий раз, когда играет музыка, он замирает совершенно неподвижно и закрывает глаза. Так что же делает его таким Мунным[2]? Что делает его таким особенным? Это шея. У Муна – персонажа рассказа и у Муна – реального человека одна и та же шея. К восхищению главной героини, чем дольше она смотрит на шею Муна, тем менее человеческой она ей кажется. Это ваза Рубина: ее нельзя увидеть сразу целиком. Она ускользает от ее взгляда. Но притом эта шея принадлежит небывало сильной личности. Шея объясняет все – и то, как она это делает, можно выразить не словами «потому что», а словами «несмотря на». Ее близость к очаровательным изгибам лица резко подчеркивает ее бессовестно безличную волю, плавность в своей порывистости, индивидуальность робкого психопата.
Я отправила эти зарисовки Мастерсону. Он все так же не отвечал.
Вскоре после этого я открыла для себя «Архимидж». Это веб-сайт, который содержал тысячи рассказов, написанных фанатами, в которых главными героями были знаменитости или вымышленные персонажи. Там также были более мелкие категории, основанные на впечатлениях от прочитанного рассказа. Они были отмечены тегами, отражающими то, что каждый рассказ «заставил тебя сделать или почувствовать». У моих любимых рассказов о Муне почти всегда был тег «заставит закончить дружбу». Честно говоря, большинство историй было невозможно читать. В конце концов, их авторы были не писателями, а фанатами, которые обратились к языку в качестве последнего утешения. Я ощущала, как растет мое разочарование по мере того, как проза становится все более сырой из-за использования автором очередного клише, в надежде, что его странные чувства вспыхнут и оформятся из первичного бульона неудачного рассказа. Но я предпочитала эти рассказы большинству современных романов, в которых абсурдно рьяно отражались благочестивые настроения времени. Несмотря на превосходство этих книг, которое они внушали своим негодованием моралью, с ними было крайне легко соглашаться. Я предпочитала читать фанатов и умерших людей, потому что с ними было трудно соглашаться.
Я не могла перестать думать о двух моих влюбленных персонажах. Поэтому я переписала свои зарисовки в блокнот, который завела специально для них, и продолжила писать рассказ там. Как только я закончила то, что казалось мне главой, я напечатала текст и опубликовала его на «Архимидже» под ником fleurfloor.
Потом я полностью покрасилась в белый цвет. Я хотела выглядеть как вдова, заинтересованная в повторном замужестве.
Последнее музыкальное видео «Банды Парней» набрало невероятное количество просмотров, установив еще один мировой рекорд. На следующий день берлинский фан-клуб праздновал это событие в кафе. Когда я пришла, то остановилась на пороге, почувствовав присутствие таких же, как я. Через раздутое приветствие сквозила некая озабоченность, такая враждебная энергия, которая могла быть вызвана только ненормальной любовью к Муну. Я не знала, как вести себя в месте, заполненном незнакомцами, которые знали, что я люблю то же, что любят они. Это было похоже на поход в сауну, в которой наши идентичные тела были обнаженными, что заставляло нас бесконечно смущаться, но это было абсолютно бессмысленно.
Ко мне подошла молодая девушка:
– Привет, я уже два года как Ливер. В тот день, когда я стала поклонницей, ко мне в квартиру пришли двое крупных мужчин и установили более быстрый интернет. А ты?
– Привет, – ответила я. – Я новичок. В тот день, когда я стала Ливером, парень, сидевший рядом со мной в метро, читал книгу под названием «Как стать генеральным директором». Вот откуда я узнала, что он не генеральный директор. Мне показалось ужасным с первого взгляда понять то, кем человек не был.
Фанаты помнили произвольные подробности из своей жизни, связанные с «Бандой Парней». Так мы отслеживали время.
Девушка, которая была президентом берлинского фан-клуба, спросила, не хочу ли я «внести свой вклад в счастье каждого здесь присутствующего». Моим честным ответом было «нет», но из вежливости я позволила ей отвести меня за складную ширму, где четыре девушки переодевались в эконом-версии костюмов, которые были на парнях в их самом популярном видео. Она сунула мне в руки сверток с одеждой.
– Из тебя получится отличный Мун, – заверила она.
Одевшись, мы впятером вышли из-за ширмы, когда из колонок заиграл хит. Нас встретили восторженные крики. Местная съемочная группа следовала за нами повсюду, как будто мы были антропологическим феноменом. Я проплыла по комнате в розовой накидке из искусственного шелка. Все сфотографировались со мной. Некоторые просили, чтобы я держала их телефон так, чтобы на снимке была видна моя вытянутая рука, в качестве доказательства того, что это фото было сделано лично мной.
– Я люблю тебя, – говорили все.
– Я люблю тебя еще больше, – искренне отвечала я каждому. Я делала это, потому что верила, что Мун сказал бы мне то же самое.
После этого мы разделились на небольшие группы для «сеансов откровений». Я очень удивилась, увидев Лиз, сидящую напротив меня за столом, на ее предплечье черным маркером была нарисована моя имитация подписи Муна. В суматохе час назад я, должно быть, дала ей автограф, не узнав ее.
Я попыталась встретиться с ней взглядом, но она густо покраснела и отвела взгляд.
Инженер, который специализировался на том, чтобы кисти роботов «работали как человеческие», взял разговор под свой полный контроль. Нам невероятно повезло, заявил он, что мы живем в одно время с «Парнями» в этот эпохальный момент истории. Может ли он объединиться с другими фанатами, чтобы сформировать движение, способное соперничать даже с христианством или капитализмом? Могли бы мы взять верх над любым другим движением и тем самым превознести нашу особенность, чтобы стать равноценными самому человечеству? Он признался, что его самым сокровенным желанием было стать премьер-министром страны, которую населяют исключительно фанаты «Парней», и издавать всевозможные указы.
Лиз была следующей. Голосом, дрожащим от волнения, она застенчиво призналась, что полюбила Муна, ничего о нем не зная. Все началось с того, что она наткнулась на фрагмент Т/И рассказа, который, как она объяснила, был разновидностью фанфика, где главного героя звали Т/И, что значило «твое имя». Вместо Т/И читатель мог подставить свое имя и разделить происходящие там события со знаменитостью, с которой у него не было шанса встретиться в реальной жизни.
Прочитав свой первый Т/И фанфик, Лиз узнала о себе невероятные вещи: в девятнадцать лет она родила Муна вне брака, и ее аристократическая семья была вынуждена оставить его в сиротском приюте. Он вырос, стал водителем грузовика и специализировался на перевозке племенных лошадей. Однажды он подошел к воротам ее поместья с гнедой кобылой, которая встала на дыбы рядом с ним. Эти двое узнали друг друга, не обменявшись ни словом. Так она воссоединилась со своим сыном. Началось сказочное лето, в течение которого они преодолевали огромные расстояния рядом: она – верхом на лошади, а Мун – на своем грузовике…
Только закончив читать рассказ, Лиз узнала о «Банде Парней», их славе, о том, как Мун пел и танцевал вместе с другими. Но все это мало что значило для нее. Желая раскрыть новые грани самой себя, она начала читать один рассказ за другим.
Инженер выпрямил спину, как недовольный патриарх.
– Я засыпаю от Т/И фанфиков, – сказал он. – Чтобы учесть биографию каждого читателя, который может случайно наткнуться на эту историю, писатель создает персонажа, лишенного индивидуальности. Но истории без настоящего главного героя быть не может. Так что Т/И фанфики не являются настоящими рассказами. Это только абсурдные и произвольные скачки в сюжете. Это предупреждение, к которому я настоятельно призываю вас прислушаться. Любой, кто преследует бредовую фантазию о том, что он избранник Муна, может ожидать, что его личность будет стерта. Это, – он указал на наш столик, – все это мероприятие намного больше, чем ты. Ты не Т/И. Здесь все мы такие, все сразу.
– Нет, – ответила Лиз, не моргая. – Только я – Т/И. Был только один раз, когда я ей не была.
Она рассказала, как, желая узнать, каково это – быть соседями с Муном, она начала читать рассказ, в котором он жил в Берлине. К сожалению, он оказался точь-в-точь таким же, как ее бывший. Они оба были философами, читали одни и те же книги, тусовались в одних и тех же барах. У них даже было одинаковое родимое пятно на внутренней стороне левого бедра, и они оба махали как сумасшедшие всякий раз, когда издали видели, что она приближается.
– Я не могла быть Т/И в этой истории, – призналась она, – потому что эта девушка была слишком похожа на меня. Дело в том, что я больше не я. Я – Т/И. Я взяла свою судьбу в свои собственные руки и решила, что теперь я человек, который знает Муна.
Оказалось, что Лиз прочла мой рассказ на «Архимидже». Я попыталась еще раз встретиться с ней взглядом, но она не сводила глаз с инженера, что показалось мне восхитительно стойким, учитывая, что он выражал презрение, которого становилось все больше.
– Один человек не может быть таким количеством разных людей, – сказал он. – Ты говоришь, что ты Т/И, но на самом деле ты вообще никто. Ты просто временно занимаешь чье-то место. Влезаешь в пустоту, которую нужно заполнить.
– Вот именно, – согласилась Лиз с мечтательной улыбкой. – Мун достиг сингулярности. Такого, как он, никогда не было и никогда не будет. Он слишком специфичен, слишком необычен. Я должна попробовать свои силы в том, чтобы быть каждым человеком, если хочу быть равной ему. Он остается на одном месте, а я бесконечно скитаюсь.
Тут я вмешалась:
– А как же твоя работа, твои друзья, жизнь, в которой ты просыпаешься каждое утро? Даже сейчас – как тебе удается оставаться верной себе, когда ты сидишь здесь?
Ее губы задрожали, она изо всех сил старалась не смотреть на меня. Раздраженная ее уклончивостью, я продолжила:
– Лиз, верно? Или ты больше не Лиз?
Она резко посмотрела в мою сторону, затем закрыла лицо руками.
– Я знаю, что ты не он, – сказала она в слезах. – Но я чувствую себя ужасно взволнованной и смущенной, говоря о Муне при тебе. Ты только притворяешься им, но я уже знаю, что сделала бы для тебя все, что угодно. Ты заставляешь меня смеяться, плакать и кричать. Ты делаешь все это намного лучше и быстрее, чем мой бывший. Ты – сверхчеловек, вытеснивший его из моей головы. Раньше я думала, что никогда не смогу полюбить никого другого. Но не так давно, когда мы с бывшим снова сошлись, я продолжала с ним встречаться только потому, что я хотела, чтобы ты был нашим сыном. Я заставляла его фотографироваться с пустым пространством между нами, потому что там должен был быть ты.
