Накипь бесплатное чтение
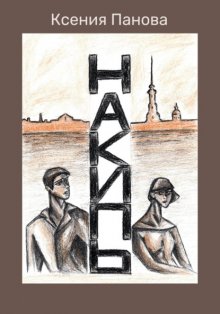
Глава 1
В первом часу дня, в мае 2019 года через Дворцовый мост шел, а точнее почти бежал, молодой человек лет двадцати шести. Одной рукой он придерживал болтавшийся за спиной рюкзак, другой, совершенно окоченевшей и красной, стягивал на груди тощую курточку. Курточка хлопала у него за плечами, и ветер рвал ее весело и безжалостно.
Все вокруг ежилось и тряслось от озноба. Мост, как затравленный, дрожал под ударами колес, а снизу ему поддавала колотушек ощетинившаяся зазубринами река. Стояла та самая «непредсказуемая» погода, когда среди распустившихся тюльпанов и забелевших черемух, возвращаются арктические холода.
Нагрудный карман завибрировал. Молодой человек остановился, прижался к перилам и негнущимися пальцами достал телефон. Лицо его напряглось, лоб собрался в складки. Он приник к трубке, стараясь расслышать собеседника сквозь грохот и рев.
– Алло, Петр Петрович… Да-да, я вас слушаю. Простите, вы не могли бы повторить?.. Извините, здесь очень шумно…
– Записать?.. – он неуверенно оглянулся по сторонам. – Могу…
Прижав телефон плечом к уху, он стащил рюкзак и, закинув его на перила, достал клочок бумаги и ручку. Затем спешно, под диктовку записал несколько строк.
– Все, Петр Петрович, записал. Я уже в пути… Да-да, конечно, обязательно, хорошо…
Засунув телефон обратно в карман, он потянул к себе рюкзак. Тот шатко качнулся на перилах, показался край синей папки. Молодой человек рванул рюкзак на себя, сам рванулся вперед. Но было поздно, папка выскользнула и стремительно ухнулась в воду. За ней следом вылетела тройка канцелярских листов. Ветер тут же подхватил их и, как больших белых чаек, опустил в Неву. Они мигнули напоследок Архипову печатями и подписями и ушли на дно.
В Петербурге, как в любом большом городе, есть особая порода молодых людей. В большом количестве поставляют ее нам железнодорожные вокзалы. Каждый день забрасывают они невода в разные концы страны, и, разложив улов по полкам плацкарта, сгребают в северную столицу. С платформ приезжие растекаются по городу ручейками, питающими спальные районы и коммунальные квартиры. По утрам их бледные лица мелькают в окнах автобусов и в вагонах метро. Они редко опаздывают на работу и часто засиживаются там допоздна.
Молодого человека, утопившего документы в реке, звали Костя Архипов.
Он был высокого роста, и, как все высокие люди, сутулился, стараясь казаться ниже. Как все неуверенные в себе люди, прятал руки в карманах. Походка его, хоть и широкая, казалась вялой. Мягкие, открытые черты лица тут же выдавали всякую мысль. Он легко краснел, и это, учитывая выбранную им профессию, часто мучило его.
Перейдя мост, он направился в сторону Галерной. Потеря документов сильно угнетала его.
В последнее время ему кругом не везло. Нелепые случайности, цепляясь друг за друга, превращались в настоящее бедствие. Здесь были поджатые губы Риты, гипсово-белый абрис ее лица, недавняя кража куртки с двенадцатью тысячами в кармане, судебное слушание, от которого осталось невнятное ощущение стыда, и, наконец, уплывшие по Неве бумаги. И хоть большинство документов можно было восстановить, их утрата подводила незримую черту под остальными неудачами. Давило не только предстоящее объяснение с Жулиным, но и то, что при этом он неизбежно будет выглядеть идиотом.
Архипов работал юристом в строительной компании. Его молодость, неопытность и диплом, полученный где-то за Уралом, определили самую скромную зарплату, на которую он мог рассчитывать. Проглядывавшая в нем неуверенность приезжего, опасение потерять работу, а вместе с нею возможность платить за жилье, необходимость полагаться только на себя делали его усердным и нетребовательным. Поэтому в течение года он занимался разного рода поручениями других, более опытных юристов и, как большинство его сверстников, ждал, когда же его заметят.
И вот наконец ему улыбнулась удача: в доме на Малой Посадской протекла крыша. Осенью вода затопила этажи и подвал, зимой – превратилась в лед, весной оттаяла, и на стенах выросла плесень, в подвале завелись комары, к маю вопрос Малой Посадской, кочуя между управляющей компанией, неким Фондом и подрядчиком, как приблудный ребенок, которого никто не желает признавать, добрался до суда.
Подрядными работами занималось ООО «Добрострой».
Из разговоров коллег Архипов знал, что проблемы начались сразу после сдачи дома, и что отсыревший и отвалившийся кусок штукатурки не то убил кого-то, не то до смерти напугал.
Однажды Жулин вызвал к себе Архипова и сказал, что дом на Малой Посадской теперь его забота. Архипов разом испытал волнение, радость, прилив энтузиазма, страх неудачи, гордость и толику вспыхнувшей в сердце унизительной холопской любви.
Он подошел к делу со всей серьезностью. Зарылся в бумаги, не спал пару ночей и наконец одним майским утром одетый настолько прилично, насколько мог себе позволить, вышел из дома, полный воодушевления и надежд.
На нем были поношенные, но еще сносные туфли, с едва наметившейся белизной на носах, серый заурядный костюм, щелкавший электрическими искрами, дешевый, и потому короткий в рукавах и широкий в плечах, белая рубашка, единственная в его гардеробе, и холодная, не по сезону куртка.
Архипов жил в центре города, и, поскольку погода казалась теплой и солнечной, решил дойти до суда пешком. Но едва оказавшись на ветру, он продрог, проезжавшая мимо машина окатила его из оставшейся после ночного дождя лужи, а на Дворцовом мосту его задержал и вовсе курьезный случай, заставив изнервничаться до боли в желудке.
Со стороны Кунсткамеры вышел, поднялся на мост и остановился, задумчиво глядя на воду, большой рогатый лось. И пока автомобилисты сигналили, а пешеходы фотографировали и снимали на камеру, лось неспешно поводил головой, поглядывая то на Зимний, то на золотящийся вдали шпиль Адмиралтейства. Он не бросался под машины, игнорировал прикованное к нему внимание, но и не двигался с места. Мост пришлось отцепить, движение остановить и, отогнав зевак, ловить лося. Откуда он взялся и что делал на мосту, осталось загадкой. Архипов потерял двадцать минут.
Он влетел в зал заседаний, когда уже все, включая судью, заняли свои места, и от короткого выговора весь залился краской, суетливо зашуршал бумажками и, опустившись на стул, с избыточным вниманием стал слушать обстоятельства дела.
Известно, что в такого рода делах виноватых нет. Искать их – все равно что черпать воду ситом. Кого не схватишь – увидишь честное, добропорядочное лицо, даже если это лицо юридическое. Лицо это исполнило свои обязательства, отчиталось по ним, и зачастую отчиталось безупречно, и теперь, выволоченное на судилище, стоит с опущенными ресницами и как бы говорит: «Судите меня, но я не виновато». «Кто же виноват?» – спросите вы. А мы ответим: когда на голову падает кирпич, то виноват сам кирпич, когда под ноги подворачивается открытый люк, то виноват, конечно, люк, а если в доме течет крыша, то виновата крыша.
Истцов представляли две старушки. Одну звали Вера Тимофевна, а другую – Вера Андроновна.
Вера Тимофевна была худенькая, с острым носиком, в пегих, всклокоченных завитушках. Вера Андроновна – грузная, внушительная, с тяжелыми камнями в ушах. Обе они как бы представляли собой две стороны народного возмущения. Вера Тимофевна говорила тихим, прерывистым голосом, она то недоуменно вертела головой, то согласно кивала. Вера Андроновна, женщина, громогласная и обстоятельная, орудовала каждым словом, как молотком. Во время выступления Архипова она не могла утерпеть и все выкрикивала с места. Судья пригрозила ее удалить, и Вера Андроновна замолчала, презрительно поджав губы. Лишь время от времени она оглядывалась кругом, словно ища куда бы сплюнуть. Но взгляд ее не находил ничего подходящего, поэтому гнев, не сцеженный в слюну, приливал к лицу и шее опасным багрянцем.
Архипов видел их как бы сквозь туман. Волнение превращало в абстракции все, кроме бумаг, разложенных перед ним на столе.
ООО «Добрострой» оказался единственным ответчиком, к которому затопленные жители Малой Посадской предъявили иск. Архипов, откашлявшись в кулак и пытаясь подавить краску на лице, начал с того, что компания все работы выполнила в срок, сдала исполнительную документацию – заверенная копия акта приема-передачи была тут же предъявлена суду. Жалоб ни со стороны заказчика, то есть Фонда, ни со стороны управляющей компании не поступало, что было чистой правдой…
На минуту замешкавшись, Архипов бросил беглый взгляд на Веру Андроновну и, моргнув, добавил, что от жителей жалоб тоже не было.
– То есть как это не было? – в восходящей тональности вскричала Вера Андроновна.
– Как это не было? – в нисходящей повторила за ней Вера Тимофевна.
– А звонки, а хлыщ этот ваш, что к нам приезжал?.. Да я сама с каким-то вашим холуем разговаривала! Все говорил: «потерпите», все за нос водил!
Судья спросила ее может ли она предоставить доказательства того, что действительно обращалась в ООО «Добрострой» с жалобами на качество ремонта. Вера Андроновна не могла.
– Так ведь эта их морда обещал нам все полюбовно сделать, только чтоб без бумажек!.. А мы все верили, все ждали и вот дождались – шиш с маслом!
Архипов начал возражать, но она криком забивала его, и получила второе предупреждение.
Храня вынужденное молчание, она сквозь прищур мерила Архипова взглядом. А он, между тем, наконец-то добрался до сути. Он упирал на то, что ООО «Добрострой» не может быть ответчиком по делу, так как договор заключал, собственно, не с жителями, а с Фондом. А Фонд претензий к качеству работ не выдвигал. Пока он говорил, взгляд Веры Андроновны становился все 󠄝уже, и какой-то хитрый пристальный огонек разгорался в нем. Этот взгляд говорил о том, что она не дура, видит и понимает, что делается кругом, и провести себя не даст.
Суд принял его доводы, и ООО «Добрострой» был признан ненадлежащим ответчиком.
Услышав это, Вера Андроновна и Вера Тимофевна пришли в суету. Обе подняли ропот. Им разъяснили, что значит «ненадлежащий ответчик», и предложили замену. Но Вера Андроновна, то ли от долго сдерживаемого гнева, то ли по вечному русскому недоверию, вдруг наотрез отказалась. Она хватала за руку Веру Тимофевну, одергивая и усаживая ее обратно на стул.
– Сядь, Тимофевна! Сядь! – говорила она. – Что они думают, дураки мы что ли? Увильнуть хотят! Нет уж, пусть отвечают! Знаю я эти штуки! Нет, не так уж мы и просты!
Их еще раз спросили, точно ли они хотят отказаться от замены. Вера Андроновна, глядя прямо перед собой, величественно кивнула. Следом за ней растерянно и испуганно кивнула Вера Тимофевна.
Архипов, не ожидавший такого поворота, поднял на них глаза, и обе они, одна, вцепившись в другую, словно выдвинулись из своего угла. Он открыл рот, хотел что-то сказать, но вдруг осекся, густо покраснел и отвернулся, уставившись в стол.
Суд принял решение в иске отказать, требования истцов отклонить.
Вера Андроновна, сидевшая до этого по-королевски незыблемо, вдруг вся заколыхалась.
– То есть как это? Почему это?.. – спрашивала она.
Кровь сходила с ее лица так же быстро, как прежде набегала, и она беспомощно оглядывалась кругом. Вера Тимофевна понурилась, и, обведя зал изумленным взглядом, сказала: «Но это же… несправедливо!». Вера Андроновна медленно встала и, больше не проронив ни слова, направилась к выходу, но поравнявшись с Архиповым, возившемся с бумагами, неожиданно ясно сказала: «Прокляну!». Архипов опешил, поднял на нее глаза. Его лицо вспыхнуло, и, спешно затолкав оставшиеся вещи в рюкзак, он выскочил из зала. Вера Андроновна наконец нашла взглядом мусорную корзину и плюнула в нее с такой яростью, что та сделала пол-оборота вокруг своей оси.
В коридоре Архипова настиг телефонный звонок, и он остановился, чтобы ответить, потом нагнулся завязать шнурок, и когда вышел из здания суда, оказалось, что две истицы никуда не делись, а все еще стоят чуть поодаль, окруженные небольшой кучкой сочувствующих, над которой клубится гул возмущенного улья.
Увидев их, Архипов хотел быстро проскользнуть мимо, но Вера Андроновна заметила его.
– Ага! Вот он! – задохнулась она, и оттолкнув плечом и боком двух стоявших рядом людей, двинулась прямо на Архипова. У нее было лицо человека, который вопреки желанию молчать, решил-таки высказаться. Такая решимость обычно страшна, потому что похожа на прорвавший плотину поток.
Она набросилась на Архипова, как коршуница на добычу, быть может, не ту, которую ей бы хотелось растерзать, но ту, которую удалось заполучить. Как только раздалось «Вот он!», Архипов вздрогнул и похолодел. Казалось, сама улица закричала и повторила несколько раз: «Вот он!». Прохожие останавливались и оборачивались посмотреть, в чем дело. «Вот он!» многозначительно обрывалось, словно за ним должно было последовать «Держи вора!».
– Это что же такое делается, а! – вскричала Вера Андроновна. – Что это делается, я вас спрашиваю!
Она выпятила грудь и уперла руки в бока. Полная и грозная ее фигура отрезала Архипову путь к отступлению.
– Испоганили людям жилье и ну с возу! – кричала она, грозя пальцем. – Мерзавцы! Подлецы негодные! Хапуги! Сами-то, небось, в чистеньком живете, а у людей на стенах вот такие грибы растут! Крыша вся как решето! Как жить в таких условиях прикажете?!.. Негодяи!
Архипова бросало в холодный пот, его лицо горело, он что-то невнятно бормотал про новый иск, «надлежащего ответчика» и пытался уйти. Но уйти не мог – толпа, окружавшая Веру Андроновну, потихоньку стянулась вокруг него и роптала. Архипов оказался пойман в ловушку и принужден терпеть публичный позор безжалостных обличений Веры Андроновны.
Голос ее громыхал, призывая всю улицу в свидетели. Толпа из прохожих густела и вытягивала шеи, чтобы разглядеть «вора».
Будь Архипов постарше и погрубее, он локтями проложил бы себе путь к свободе. Но он был молод, неопытен и просто умирал от унижения.
– Да что им говорить, – сказал кто-то, – они же бесстыжие, от чего угодно отбрешутся.
– Да ведь у тебя же молоко на губах не обсохло!
– Нет, вы послушайте, – продолжала Вера Андроновна, – ладно бы жилье затопили, ладно бы вещи испортили – пускай! Но ведь человека убили! Человек по их вине умер, а им хоть бы хны! Негодяи! А ты, голубчик, что же думаешь, я тебя пощажу? Стоишь тут, бормочешь, не я, мол, крышу делал. Но тех, кто делал, у меня нет, а ты – здесь. Так что стой и терпи, раз попался! Потом тем передашь!
Рука Веры Андроновны не могла дотянуться до ООО «Добрострой», рука закона, на которую она надеялась опереться, оказалась сыромятной, и тогда она вцепилась в того, кто был здесь и на кого она могла излить свой бессильный гнев.
– Не с того жизнь начинаешь! Ведь есть же у тебя мать, хотел бы ты, чтобы твоя мать так же по судам мыкалась? Запомни, сынок, ничего не проходит даром.
Вера Андроновна успокаивалась, гроза стихала, голос ее мягчал. Из этого умягчения и появился «сынок».
– Запомнил мои слова? – проговорила она. – Запомнил, спрашиваю? Ну хоть головой-то тряхни.
– Запомнил, – пробормотал Архипов, слабо тряхнув головой.
– Ну а теперь иди с богом! – выдохнула она и отступила в сторонку, наконец-то давая ему дорогу.
Он выскочил из сжимавшего его кольца, как кот из мешка, и так же, как кот, ошалевший от неволи, бросился наутек.
Глава 2
На Галерной Архипов свернул в один из дворов. Пройдя мимо притаившейся под аркой конторы нотариуса Л.Н. Сутейко, обогнув куст сирени, за которым робко прятались два местных алкоголика, и едва не наступив на метнувшуюся под ноги собачонку, он оказался перед дверью с надписью: «ООО “Добрострой”». Буква «Д» представляла собой крышу дома, и под ней рабочий-лилипут укладывал мастерком стену без начала и конца.
Дверь из непроницаемо-черного, матового стекла выделялась на фоне желтой, киснувшей от сырости стены. Казалось, что какое-то другое здание незаметно выросло за ней. Выросло и вытолкнуло на свет побег – дверь. За дверью сидел весь административный персонал компании по строительству и ремонту ООО «Добрострой».
Архипов поднялся по лестнице и вошел в кабинет юристов. Часы показывали половину второго – все разошлись на обед.
Не снимая куртку, он сел в кресло, со вздохом провел рукой ото лба до подбородка и сквозь растопыренные пальцы уставился в темный монитор. Он чувствовал омерзительную тяжесть в желудке. Предстояло объяснение с Жулиным.
Чтобы попасть в кабинет Жулина, надо было пройти весь коридор, минуя кухню. Кухня, небольшая комната за стеклом, в обед напоминала не то витрину в гастрономе, не то аквариум с безмолвно разевающими рот рыбками.
Архипов увидел, что там собралось четверо человек: Курицын, Докучаева, Печенкина и Спицына Виктория Романовна. Все они разговаривали и не обратили на него внимания. Только Виктория Романовна, которую он узнал по рыжему пучку волос на затылке, обернулась и посмотрела на него. Но он притворился, что не заметил ее взгляда.
– Пока нельзя, занят, – сказала Архипову Точина – секретарша Жулина.
Из-за двери кабинета доносился приглушенный шум голосов и смех.
– Ты попей чайку. Давно сидят, скоро, наверное, закончат. Я тебя позову, – сказала Точина.
Архипов поплелся обратно. Стараясь не задеть Курицына, стоявшего к нему спиной, он вошел в кухню.
На секунду разговор прервался. Курицын, желтоватый блондин лет тридцати-четырех, протянул Архипову руку и, отхлебнув из кружки, первым нарушил молчание.
– Видели, на чем Полежевский приехал? – слегка понизив голос, спросил он.
– Я видела, – ответила Докучаева, сидевшая перед тарелкой с печеньем.
– А я нет! – сказала Печенкина. – Что там такое? На чем он приехал? – округлила она свои прозрачные голубые глаза.
Печенкина принадлежала к тому типу женщин, которые, как мухи в смоле, навечно застывают в поре своей шестнадцатилетней юности, и до конца жизни смотрят на мир и ведут себя, как школьницы.
– Во дворе под окном стоит, – мотнул головой Курицын. – Посмотри, если интересно.
– Конечно интересно! Такая новость, все всё знают, а я нет!
Выбравшись из-за стола, она мелкими, семенящими шажками вышла в коридор и там, встав на цыпочки, стала выглядывать что-то в окне.
Виктория Романовна проводила ее едким взглядом.
– Как прошло заседание? – спросила она Архипова. – Оно ведь было сегодня?
Архипов, погруженный в свои мысли, от неожиданности вздрогнул.
– Все хорошо, – ответил он и, кашлянув, добавил, – нормально…
Спицына, конечно, знала, что заседание было назначено сегодня, потому что уже спрашивала его об этом. И сейчас ему показалось, что она нарочно подняла этот вопрос.
Это была высокая, худощавая молодая женщина около тридцати, с бледным лицом, покрытым маленькими йодистыми веснушками, с водянисто-голубыми глазами навыкат. Она никогда не пользовалась косметикой, а волосы, крашенные хной, носила сколотыми в пучок на затылке. По стечению обстоятельств, которые редко встретишь в маленьких городах, но в избытке – в больших, она жила в той же коммуналке, что и Архипов.
– Костик усердно готовился, – Курицын хлопнул его по плечу. – Целую неделю засиживался допоздна.
Архипов видел, что все они, переглядываясь, как будто прячут усмешку.
– А правда, что Полежевский отвозил туда? – спросила Виктория Романовна, лукаво глядя на Курицына.
Тот так же лукаво дернул бровями и ртом, легкий румянец удовольствия проступил на его щеках. И он, и Спицына, и Докучаева обменялись многозначительными улыбками, которые уже не сходили с их лиц.
Вернулась Печенкина. Глаза ее, опушенные длинными ресницами, были широко открыты, а ротик перекосило вниз.
– Ну что? – спросила ее Виктория Романовна. – Посмотрела?
– Это же очень дорогая машина, да?
Курицын наклонился к ней и что-то зашептал на ухо.
– Правда?.. – переспросила Печенкина, и глаза ее расширились еще сильнее.
Курицын кивнул.
– А помните, как начинал? Всего четыре года назад…
Но закончить он не успел. Дверь распахнулась, и внутрь просунулась очень круглая и очень красная физиономия с усами-щеткой и черными подпалинами волос вокруг абсолютно голого темени. Голова принадлежала ведущему инженеру Петухову Сергей Сергеичу.
Он обвел глазами присутствующих, увидел Викторию Романовну, щеки его надулись, ноздри шумно выдохнули. Он тут же хотел уйти, но Виктория Романовна остановила его:
– Сергей Сергеич, заходите, места всем хватит.
Петухов выдохнул еще громче и, бодливо наклонив голову, шагнул внутрь. Печенкина при виде его намеренно отвернулась, и перекос ее ротика стал заметнее.
Петухов был известен тем, что вел постоянную и непримиримую войну со всем коллективом. Он легко раздражался, выходил из себя, свирепел, лопался от злости. Многие сотрудники «Добростроя» боялись его как огня. Его глаза с красными прожилками, устав вылезать из орбит, раз и навсегда застыли в вытаращенном состоянии.
Как сотрудник технического отдела он работал на Петроградской стороне, но часто захаживал в офис на Галерной. Говоря прямо, ведущий инженер, Петухов Сергей Сергеевич, таскался на ковер к Жулину чаще, чем его начальник – главный инженер Слепнин. И там он сидел красный, как рак, и надутый, как жаба.
– Видел новую машину Полежевского? – сходу спросил его Курицын.
– Еще бы! – ответил Петухов, быстрым взглядом окинув стол со всеми принадлежностями чаепития, – такой бегемот!
– А ты слышал?.. – Курицын попытался так же интимно, как прежде Печенкиной, поведать ему что-то на ухо.
Не обращая на него внимание, Петухов сгреб с тарелки большую часть печенья и отправил в рот. Докучаева заерзала.
– Может быть, еще кто-то хочет?.. Валера, будешь?.. – спросила она Курицына.
Но тот отказался, мельком взглянув на маленькое, мягкое брюшко под джемпером.
– Все на кефире? – спросил Петухов, отряхивая руку о штанину.
Курицын неловко хохотнул и попытался продолжить прерванный разговор:
– Так вот, Полежевский…
Петухов, между тем, заметил Архипова. Развернувшись к нему всем корпусом и глубоко втянув носом воздух, он качнулся с пятки на носок и хмуро уставился на него исподлобья.
– Здравствуйте, – робко произнес Архипов.
– Ну? – с нажимом спросил Петухов.
Архипов молчал, не понимая, что от него хотят.
– Ну?! – повторил Петухов.
И не дождавшись ответа, он громко засопел и продолжал:
– Ну, говорил я, что так строить нельзя? Говорил я, что может рухнуть? Говорил! Ну вот и не удивляйтесь, что рухнуло! – с удовольствием закончил он, как будто видел перед собой не просто Архипова, а Архипова, раздавленного тем, что рухнуло.
– Сергей Сергеич, вы про Малую Посадскую? – мягко перебила его Виктория Романовна.
Петухов посмотрел на нее, но не удостоил ответом и снова вцепился в Архипова.
– Ну что там? Большой ущерб вкатали? – нетерпеливо и радостно спросил он. – Тысяч триста хоть будет?
– Суд не удовлетворил требования истцов, – ответил Архипов, смущаясь под его взглядом.
– Ааа… Вот оно что… – разочарованно протянул Петухов. – Ну да ладно! Мы еще посмотрим! Вы еще вляпаетесь – это я вам обещаю!
– Так ты же тогда премию не получишь, – посмеиваясь, сказал Курицын.
– А когда я ее получал? Вот когда нужно чей-то лоб под шишки подставить, Петухов годится. Когда нужно чужие, пардон, задницы прикрыть – Петухов тут как тут. А премии получать другие горазды, Полежевский, какой-нибудь, например…
– Вот про Полежевского кстати…
– Да взять хотя бы тебя. Вот что ты делаешь? Ты же присоска, дармоед, всю задницу себе отсидел, бока, вон, выкормил – диеты не помогают… Объясни мне, для чего ты нужен?
Курицын, не ожидавший такого выпада, только косо улыбался и краснел.
– И Полежевский тот же, еще четыре года назад в таком задрипанном пиджачишке ходил, и голосок был – в пору на хорах петь…
– Вот-вот! И я о том же! – обрадовался Курицын.
– А теперь поздороваться забывает! «Вы у нас – ценный кадр» – это он мне говорит, и по плечу хлопает… Я-то ценный, а вы…
– Не знаю, как с кем, а со мной он всегда здоровается, – не глядя на Петухова, сказала Печенкина.
– И со мной, – добавила Докучаева.
– Он вообще очень приятный молодой человек. Всегда вежливый, внимательный, аккуратный, говорит так хорошо, я и слов-то таких половину не знаю… А те, кто завидуют, сами бы хоть раз женщинам на восьмое марта цветочек подарили…
Петухов замолчал, на мгновение сбитый с толку. Затем жадно обвел глазами комнату и, наткнувшись взглядом на Докучаеву, вцепился в нее.
– Я сразу сказал, что это халтура. Но разве меня слушают?
– Ваше предложение в два раза превышало смету, – кисло ответила та.
Маленькое, невзрачное и почти незаметное существо, она обладала одним единственным талантом – крепко сидеть на своем месте.
Петухов наклонился к ней, словно собираясь вылезти из собственной шкуры:
– Голубушка моя. Мне ли не знать, что там у вас на смету легло, а что на крышу.
Докучаева не ответила и, поджав губы, сделала маленький глоточек чаю.
Курицын попытался сменить тему.
– Кто идет на корпоратив? – спросил он.
– Все идут! – за всех ответила Печенкина, и личико ее сразу просветлело от приятных мыслей. – Сергей Сергеич, вы идете?
– Да! – отмахнулся от нее Петухов и снова нашел взглядом Докучаеву. – Вот я бы посмотрел, если бы на вас или вашего Никиту крыша рухнула!
Докучаева так и подпрыгнула. Пятнадцатилетний олимпиадник Никита был отрадой и гордостью материнского сердца.
– Да оставьте меня в покое! – возмутилась она. – При чем тут я или мой сын?
– Просто так, для примера…
– Для примера возьмите сына какого-нибудь Иван Иваныча! Среди нас такого, хотя бы, нет. А моего Никиту не троньте! Зачем вообще приплетать кого-то из нас? Это просто неприятно!
– В самом деле, – вмешался Курицын, – это уже перебор.
И, не дав Петухову опомниться, он спросил:
– А что, «крестный ход» был в этом году?
– Конечно, – ответила Печенкина. – Отец Афанасий приходил, все кабинеты обошел, все освятил. Молитву о коммерческом успехе прочитал…
– Отец Афанасий – это мастер заговаривать ячмени и чирьи? – перебил Петухов.
– Чирьи?.. – брезгливо переспросила Печенкина. – Нет, никакие чирьи он не заговаривает. Он только заговорил пальчик Лампушке.
Лампушкой – Евлампией – звали дочь Жулина. О неприятности с ее пальчиком так или иначе знал весь офис. Шестилетняя Евлампия прищемила мизинчик на левой руке, и хоть палец своевременно обработали и перевязали, ранка загнила. Отрастающий ноготок пришлось дважды снимать и чистить гной. Дело пошло на лад только, когда отец Афанасий обрызгал палец святой водой и пошептал молитвы.
Все знали, что Жулин Петр Петрович человек набожный. В дни поста сотрудники, питавшиеся в офисе, получали на выбор, помимо обычного меню, гречневую кашу с грибами, морковные котлеты, овощное рагу и прочую постную пищу. Говорили, что он выстроил на свои деньги храм на севере города. Короткая иконописная бородка очень шла к его лицу.
Ежегодно, прямо перед Пасхой, Жулин на свой счет устраивал торжественное освящение офиса, в народе получившее название «крестный ход». Каждую последнюю пятницу апреля поп в рясе, густо чадя кадилом и брызгая кропилом, проходился по всем помещениям, не пропуская ни кухню, ни кладовку, ни клозет.
Дверь приоткрылась, и внутрь заглянула Точина.
– Константин, можешь идти, – бросила она и снова исчезла.
Архипов вскочил и, спотыкаясь о стулья, подвернувшиеся на пути, выбрался в коридор.
Когда он вошел, Полежевский все еще сидел у Жулина. Видимо, речь между ними шла о чем-то приятном. Обрывки смеха, как крошки после вкусного обеда, висели у них на губах, оба улыбались лоснящимися ртами.
Хоть Архипову и разрешили войти, ему все равно показалось, будто он помешал, вторгся некстати и пришелся не к месту. Неловкость, которая и так всегда охватывала его в присутствии начальства, только усилилась. При этом Полежевский заставлял его чувствовать себя не менее принужденно, чем Жулин, хоть и был старше Архипова всего на пять лет. Причиной тому служила самоуверенная манера Полежевского держаться и то, что Архипов не вполне понимал его статус и роль в делах Жулина. По слухам он догадывался, что Полежевский при Жулине – что-то вроде адъютанта при генерале. Неясным оставалось, до какой степени Полежевский обладал влиянием, на которое намекали все его повадки.
На столе между Жулиным и Полежевским стоял графин с коньяком, заткнутый хрустальной пробкой, и два пустых бокала, на блюдечке лежали прозрачные дольки лимона.
– А, ты… – сказал Жулин, мельком взглянув на Архипова. – Подожди минутку. С этим делом точно все? – обратился он к Полежевскому.
Полежевский покосился на Архипова и ответил:
– Да. И я думаю, уже окончательно.
– А передумать они не могут?
– Не передумают. Как я уже сказал, мы тамобо всем договорились. Проект наш.
– Ну, ладно-ладно… – перебил его Жулин. – Тогда я тебя больше не держу.
Полежевский зашевелился, неспешно встал, придержав белой, мягкой рукой галстук, и оправил пиджак. Жулин, продолжая сидеть, протянул ему ладонь. Полежевский взял ее и крепко потряс над столом.
– Сумма не изменилась? – окликнул его Жулин у дверей.
– Еще пять процентов сверху, – энергично отозвался Полежевский, уже держась за ручку. – Говорят, стало сложнее.
И видя, что Жулин не отвечает, задумчиво барабаня пальцами по столу, Полежевский добавил:
– Это вместе с приемкой.
– Попробуй уменьшить, – сказал Жулин.
Полежевский отворил дверь.
– Павел! Стой! – окликнул его Жулин.
Полежевский обернулся. Жулин задержал на нем взгляд, один из тех острых, смущающих взглядов, на которые он был так горазд. Но Полежевский ответил ему выражением доброжелательной и энергичной готовности на лице.
– Иди, – наконец отпустил его Жулин.
Архипов посторонился, дав пройти Полежевскому. Жулин поднял на него глаза, какое-то время думая о своем.
Жулину Петру Петровичу было сорок восемь лет. То есть ровно столько, чтобы считаться мужчиной в самом соку. Его крепкое, быстрое и бодрое рукопожатие как бы подтверждало собой этот факт. Он знал, что выглядит моложаво, и всякий раз, когда утром подходил к зеркалу, маленькое тщеславие улыбалось в его глазах.
К тому же это был очень ухоженный мужчина. Костюм безупречно сидел на нем, дорогая обувь блестела, тщательно выбритые щеки пахли утренним бризом. Руки Петра Петровича с коротко стриженными, полированными ногтями говорили о регулярных визитах в маникюрный салон. Размышляя, он держал эти безупречные руки перед собой, сложив пальцы домиком.
Помимо чрезвычайно ухоженных рук, он имел чрезвычайно ухоженные усы. Может быть, на любом другом лице такие усы и смотрелись бы нелепо, но на лице Петра Петровича они выглядели по-настоящему благородно, и содержались с тем же тщанием, что и руки.
Завершая набрасывать портрет Петра Петровича, скажем, что у него были голубые широко расставленные глаза. И когда этот человек, сидел, погрузившись в раздумье, и механически пощипывал великолепный ус, его лицо приобретало выражение кошачьей морды, обращенной к мышиной норе.
– Ну что? – нетерпеливо спросил Жулин. – Ты про Посадскую?
– Да, я только что из суда…
– Что там?
– Суд не удовлетворил требования.
– В самом деле? Даже так? – Жулин перестал вертеть в пальцах ручку и с проснувшимся интересом взглянул на Архипова.
– Они отказались от замены ответчика.
– Почему? Они что идиоты? – усмехнулся Жулин.
Видя его улыбку, Архипов тоже нерешительно улыбнулся и начал пересказывать детали слушания. Сначала Жулин просто смотрел на него своими длинными глазами, вникая в суть, но стоило Архипову дойти до момента, когда Вера Андроновна отказалась от замены ответчика, лицо его сморщилось, собралось в складки, и он засмеялся.
Он хотел сказать что-то, но не мог, смех тряс его, и он только махнул рукой. Отсмеявшись, он вытер слезу, глубоко вдохнул, и его снова разобрало.
Все это время Архипов стоял, недоверчиво улыбаясь и чувствуя, как у него горит лицо.
Проморгавшись и все еще посмеиваясь в кулак, Жулин сказал:
– Молодец, в конце месяца получишь премию.
Архипов понял, что разговор окончен, но все еще нерешительно мялся в дверях.
– Петр Петрович, – выдавил он, – есть еще кое-что… В общем, Петр Петрович, тут такое дело… Документы… Я их случайно потерял… то есть уронил… я уже звонил нотариусу, это займет время… И…
Жулин, смотревший на него покрасневшими от смеха глазами, держа кулак у рта, вдруг снова засмеялся. Продолжая смеяться, он отпустил Архипова, крикнув ему вдогонку:
– Закажи дубликаты!
Архипов выскочил за дверь в состоянии непонятного лихорадочного возбуждения, с бессознательной улыбкой на губах и красными, еще не остывшими пятнами на щеках. У лифта он налетел на главу договорного отдела – Павла Полежевского. Полежевский охорашивался перед зеркальной поверхностью лифта.
Самой заметной чертой в лице Полежевского была его мясистая нижняя губа. Губа-сластена, говорившая о хорошем аппетите, красная, веселая и блестящая. Ростом он не отличался, зато под одеждой уже наметилось небольшое самодовольное брюшко. Так как Полежевский был еще молодым человеком, то и брюшко было молодое, но все говорило о том, что со временем оно превратиться в настоящее поместительное брюхо.
Обернувшись и узнав Архипова, он неожиданно обратился к нему:
– Ну что, с Посадской улажено?
В другой раз Полежевский, наверняка, не заговорил бы с ним, даже не заметил бы его. Но им как будто тоже владело какое-то приятное, радостное чувство. Он улыбался тайной улыбкой, больше обращенной к себе самому, чем к Архипову. И заговорил, просто чтобы дать выход радости.
– Да, – ответил Архипов, чувствуя, как его собственное воодушевление тает, оставляя привкус кислятины.
– Еще бы! – усмехнулся Полежевский и скрылся за дверцами лифта.
Воодушевление Архипова окончательно пропало, и теперь он даже не понимал, почему испытывал его, а гадкий вкус – вкус всего, что случилось с ним за день – сделался сильнее.
Он спустился на лестничный пролет и, присев на подоконник, набрал Риту. Рита молчала. На улице начинал накрапывать дождик, и все вокруг становилось беспросветным и серым.
Глава 3
Все суета! – сказал царь Соломон. И, должно быть, зевнул, отходя ко сну.
Архипов, измаявшийся, истомившийся за день, уснул мертвым сном, едва добравшись до постели.
А вместе с ним уснули сады и скверы, уснули дворцы и фонтаны, уснул бронзовый Петр и Нева под его рукою. Все думы и тревоги спят до поры. И лишь угрюмое, бессонное небо бодрствует над городом. Это самый унылый, самый безлюдный час, который превращает все: и дома, и прохожих – в серые тени. Но минует он, и небо добреет. Становиться молодым, румяным и свежим.
Рождается новый день, а вместе с ним рождаются новые надежды. Вот они идут по улицам, большие и маленькие, заглядывают в окна горожан, тихо дышащих во сне. Надежды говорят им: сегодня все начнется заново, и день, и жизнь.
Сегодня все как-нибудь решится, как-нибудь устроится, как-нибудь сбудется.
Сон так сладок сейчас.
Спит Архипов.
Спит крепким, молодым, всепобеждающим сном. Он заломил руку за голову и приоткрыл рот. На его лице разомлел сонный румянец. Не будем его тревожить.
Перенесемся лучше туда, где никогда не спят – на железнодорожный вокзал.
Здесь пищат электромагнитные рамки, сквозь двери в вестибюль задувает сырой утренний ветер, пассажиры тащат поклажу и, отдуваясь, кидают ее на ленту. Грохочут колесики чемоданов, голос из репродуктора без перерыва возвещает о прибытии и отправлении поездов, в привокзальных лавчонках идет мелкая торговля. Какие-то толпы текут туда и сюда. Сталкивается, смешивается между собой многоликое столпотворение.
В зале ожидания клюют носом, зевают и смотрят на часы. Тянется скучное время. Ждут поезда, который рассовав по плацкартам и купе многоликую, многоголосую толпу повлечет ее куда-то сквозь поля, леса и степи, мимо жидкой поросли березок, мимо влажных туманчиков в низинах, мимо мелко-пестрых цветочков, сиротливо жмущихся по склону насыпи, мимо серых домишек, мимо километров и километров безлюдья, заговоренного одними только елями. Мимо всего, что вместе зовется Россией, и все не кончается, все влечется куда-то.
Нечем развлечься в зале ожидания. Все опротивело к пяти утра. Лица серые от недосыпа, рты тянет безжалостная зевота. Вот бы смориться сном, забыться хоть на пару минут. Но вместо этого снова и снова обводишь мутным взглядом соседей, и мысли медленно текут в голове, как подходящий к вокзалу поезд.
Вот дремлет перед тобой какой-нибудь Иванов Иван Иваныч. Голова упала на грудь, губы пофыркивают во сне, ослабевшие руки обнимают сумку. Остатки седых волос ласково поглаживает ветерок. Видно, что Иван Иваныч крепился-крепился, но не выдержал, сник, и сон, как смерть, навалился на него. Словно все недо́спанные сны за всю жизнь одолели его.
Так же точно спит он и в театре, и на концерте, куда его, выглаженного, выбритого, привела жена. Погас свет, актеры вышли на сцену, и веки Иван Иваныча сами собой сомкнулись, разгладилось лицо, на лице замерла безмятежность. А где-то через ряд от него спит Иван Николаич, а за ним – Иван Петрович, пока жена не дернет его за рукав. Тогда Иван Иваныч, а, может быть, Иван Николаич или Иван Петрович, разлепит свои сонные веки, обведет взглядом и зал, и сцену, и переменит позу в мучительной попытке не спать.
Так беспробудно научился засыпать он в любую минуту, на любом привале. Красть часы, минуты и даже секунды сна, украденные у него.
И наш Иван Иваныч не хорош. Лицо его изношено, на голове – пакля, в фигуре – дряблость, да и одет он черте как – во что-то серое, синее или, на худой конец, коричневое. Ходит, сутулясь, волочит ноги, в зубах у него вечный недосчет. За собою не следит.
Не то, что какой-нибудь человек из города Бордо. Тот всегда красив, прям, ухожен. Рот его улыбается белыми зубами, на голове – волосок к волоску, на лице – загар. И до чего элегантен этот человек из Бордо: от костюма до ботинок любуешься им. А впрочем, может быть, дело в климате… Да, Иван Иваныч… Что поделать…
А ведь и ты когда-то был не Иван Иваныч, а просто Ваней Ивановым. Из тундры, из лесов, из многокилометрового безлюдья, заговоренного одними только елями, привез тебя поезд безбородым, прямым, стройным, и вытряхнул на платформу вместе с твоей большой сумкой и большими надеждами. И вот встал ты, Ваня Иванов, посреди многоликого столпотворения, куда податься? Налево идти, направо, прямо?.. Да куда бы не идти, авось, дорожка выведет.
Какой-то дальний родственник встретил тебя на вокзале и, чтобы не молчать, заговорил о том, что было вашим общим, а теперь стало ничьим.
– Ну что там наш драм театр? Еще стоит?
– Нет, закрыт уже давно.
– Ну а кинотеатр «Заря»?
– Нет, там теперь магазин «24 часа».
– А, ну-ну, жалко… Ну, а ДК имени Горького?
– Сгорел.
– А бараки? Черные такие? Возле трамвайной остановки?
– Стоят! – обрадовался ты. – До сих пор стоят.
– И что, люди в них? Живут?
– Живут, до сих пор живут.
И пошла жизнь. А что? Не хуже других жил, работал, женился, родил детей. Дети выросли – стал подыскивать себе домик – дачку. Отдохновение души. Чтобы и огурчик, и помидорчик, и банька, и речка… Эх! Коротка жизнь!
Не дождется тебя твоя дачка, твоя банька, твоя речка.
Светает. Едут-едут поезда из тундры, из лесов, из заговоренного елями русского безлюдья. Везут поезда юных мальчиков. Навстречу мостам, навстречу колоннам, навстречу взнузданной каналами воде. Навстречу неясным надеждам. Не так у нас все будет, не так – думают мальчики под светом нового дня.
Кончен сон. Просыпайся, мой герой!
Глава 4
Было утро субботы. Лопухов Артур Николаевич, риелтор, съел свой завтрак, отыскал ключи от машины, кряхтя, надел ботинки, и поехал на встречу с клиентами.
За рулем он зевал и почесывал бок. Солнце слепило его опухшие со сна глазки, и он морщился, перекашивая рот в зевоте. Его просили о ранней встрече супруги, подыскивавшие жилье для своей дочери-студентки.
На Моховой Лопухов припарковался, вылез из машины и, все так же жмурясь и зевая, направился к своему «подопечному» – дому Растопиной. «Подопечными» он называл те дома, квартиры в которых сдавал или продавал.
Артур Николаевич был невысок, но крепок телом, здоровье имел отличное, дух – неунывающий. Его «подопечный», ростом в пять этажей с башенкой, казался хлипким и немощным, лоб его стягивала зеленая сетка, бок закрывала заплатка. Крыша, вся в пятнах ржавчины, в сильный дождь давала течь, и бедный «подопечный» стоял в лихорадочной испарине, сочась нездоровой зеленоватой сыростью.
Когда-то этот дом принадлежал купчихе Растопиной, вдове купца первой гильдии Федора Несторовича Растопина, о чем охотно, с болтливостью пьянчужки, сообщала каждому встречному табличка на фасаде.
Купчиха Растопина была последней владелицей дома. Жила она тем, что сдавала меблированные комнаты и ссужала постояльцев деньгами. Злые языки говорили, что со своих жильцов она снимала пенки дважды.
Всего этого, конечно, не было написано на табличке, но стоявшая перед ней супружеская пара разглядывала ее с таким вниманием, как будто бы было.
– Здравствуйте, – поздоровался Артур Николаевич. – Я Лопухов.
– Здравствуйте, – ответил его клиент. – Я Василий Иванович, а это моя жена – Марина Михайловна.
И у Василия Ивановича, и у Марины Михайловны настроение было самое благодушное. Оба вежливо улыбались и с любопытством вертели головами по сторонам, выдавая в себе приезжих.
– А вы не подскажите, к какому архитектурному стилю принадлежит этот дом? – спросила Марина Михайловна.
– Этот?
Лопухов задрал голову, моргая, посмотрел на окна верхнего этажа, затем спустился взглядом ниже, к просевшему фундаменту, и, словно прикинув что-то в уме, сказал:
– Необарокко. Да, определенно, необарокко. Видите вот этих кариатид?.. Точнее сейчас вы их, конечно, не видите – сетка мешает, но, если присмотреться, очертания проступают… – и Артур Николаевич изобразил рукой в воздухе неопределенные очертания.
– Наша дочь Оля будет учиться на реставратора, – пояснила Марина Михайловна. – Мы сами из Нижневартовска. Вот подыскиваем ей жилье…
– Ну и молодцы, ну и правильно, а то ведь к осени понаедет этих студентов, цены поднимутся… – ответил Лопухов, роясь в кармане в поисках ключей.
– А какой архитектор это построил? – снова спросила Марина Михайловна.
– Барановский, определенно, Барановский. А, может быть, и Бенуа, точно не Монферран… Да вы сейчас и сами все увидите.
«Ага!» – он наконец-то отыскал ключ.
– Ну, идемте! Да нет же, не сюда… С парадного пока нельзя, здесь недавно что-то отвалилось… Никого не убило – нет! упаси боже! – но небезопасно, сами понимаете…
И он провел их мимо забранного сеткой парадного с попавшими в невод кариатидами, через чугунную калитку в арке.
– Там с бочка будет вход… – глухо вещал он из полумрака подворотни. – Не наступите! – тут лужа…
Они оказались во дворе. И хоть смотреть здесь особо было не на что, папа студентки Оли, Василий Иванович, с вниманием и некоторым изумлением изучал ближайшую стену и единым взглядом успел охватить и облупившуюся штукатурку, и большое зеленое пятно, карабкавшееся вверх, к карнизу, и повисший в сетке, словно перебитая рука в гипсе, чей-то маленький балкончик. Потом его взгляд поднялся выше, к клочку неба, пойманному в прямоугольник двора, снова спустился вниз и наткнулся на подозрительную лужу возле стены. «Да…» и «Хм…» – все, что он сказал.
– Дом входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, – живо отозвался Артур Николаевич. – Он хоть и исторический, но хороший, сухой, и лифт есть.
«Угу» и «Хм, хм…» – ответил Василий Иванович.
– И оцените, как удачно расположен: до Летнего сада рукой подать, а до Штиглица вашей дочке вообще будет два шага.
– Мы, собственно, поэтому и выбирали… – робко вставила мама студентки Оли, Марина Михайловна. – Хотя есть, конечно, общежитие…
– Да в этом общежитии они чему только не научатся! – сказал Артур Николаевич. – А здесь все-таки отдельная комната, и все совсем близко.
Пока он говорил, откуда-то появилось три кота, черный с белым ухом, черный с белой грудкой и черный с белой лапкой. Коты сели в трех разных углах, глядя на посетителей немигающим взглядом.
– Кстати, обратите внимание, здесь водятся коты, – Лопухов со значением посмотрел на своих клиентов, но не найдя в их глазах понимания, объяснил:
– Это значит, что крыс нет! А то бывает такую тварь увидишь – размером с собаку, честное слово!
И говоря это, он шагнул в маленькую, едва приметную дверцу, отворенную настежь. Родители студентки Оли шагнули за ним.
Некоторое время они ничего не могли различить в темноте, и слепо следовали за голосом своего проводника.
– Посмотрите вниз, на плитку, – вещал Артур Николаевич из черноты, голос его гулко отскакивал от стен. – Это подлинный германский метлах.
Щурясь и моргая, родители будущей студентки Оли опустили глаза. Артур Николаевич упал на колени и, сунув голову куда-то в угол, объявил:
– Здесь даже клеймо сохранилось.
– И что там написано? – спросила Марина Михайловна.
– «Виллерой и Бох» – фирма, существующая и поныне. Впечатляет, правда?
– Да-да, – согласилась Олина мама.
Их глаза уже привыкли к полумраку, и из этого полумрака на них выдвинулось величественное видение широкой, высоко вьющейся лестницы с чугунными перилами. Сквозь просторные проемы окон лился тусклый, похожий на саван свет.
Из-под потолка на Василия Ивановича глянуло чумазое, ни на что не похожее личико обнаженной нимфы, нос другой нимфы раскрошился, придав ей сходство с египетским сфинксом.
– Лепнина почти вся сохранилась, – не без гордости заметил Артур Николаевич. – И посмотрите, какая решетка!
Решетка, поддерживавшая перила, и правда была хороша: изящные тюльпаны с раскрытыми чашечками. Из чашечек торчали сигаретные бычки.
– Очень красиво, – сказала Марина Михайловна, – но почему такое свинство? – брезгливо добавила она, обращаясь не столько к Артуру Николаевичу, сколько к окружающему пространству и дверям квартир, но ответил ей Артур Николаевич.
– Ну, так территория общая, стало быть, ничья.
– Эх, – вздохнул Василий Иванович. При этом было не совсем понятно, то ли он таким образом выразил свое мнение, то ли хотел перевести дыхание, потому что воздух в парадной дома Растопиной являл собою смесь застоялой сырости и неизбывного табачного смрада.
– А лифт где? – спросила Марина Михайловна, когда они достигли пролета на третьем этаже.
– Да вот же он, перед вами.
Лифт помещался за металлической сеткой, между пролетами.
– Дореволюционная конструкция.
Лифт вздрогнул, крякнул, скрипнул, словно прочищая горло, и правда заговорил человеческим голосом.
– Здесь кто-то есть? – спросил лифт.
– Есть-есть, – отозвался Артур Николаевич. – А вам чего?
– Я – жилец!.. Пирожков!.. Я застрял!.. Не будите ли вы так любезны вызвать диспетчера?
– Что же ты ему не позвонишь? Там же в кабине есть кнопка.
– Я звонил, никто не отвечает, – вздохнул лифт.
– И давно ты так висишь? – поинтересовался Лопухов.
– Уже второй час.
– Наверное, скоро кто-нибудь придет.
– А что лифт часто ломается? – вмешался в разговор Василий Иванович.
– Частенько, – ответил голос из лифта.
– Ерунда! – сказал Артур Николаевич. – Не чаще пары раз в месяц.
Папа будущего реставратора Оли оглянулся кругом, снова увидел зловещую мордочку нимфы под потолком, вспомнил свою Олю, занервничал отчего-то и почувствовал сильное желание закурить.
Он почти безотчетно сделал пару затяжек, когда голос из лифта едко поинтересовался:
– Вы что, курите?
– Да, – Василий Иванович тут же вынул сигарету изо рта, едва не спрятав ее за спину.
– Немедленно уберите! У настак не принято!
Василий Иванович в растерянности обвел глазами лестницу, где каждый чугунный лепесток, казалось бы, говорил об обратном.
– Простите, – пробормотал он и, еще раз оглянувшись и не найдя даже банки, чтобы затушить окурок, сунул его в тюльпан.
– Ну, идемте! – сказал Артур Николаевич.
– Так что, позовете диспетчера? – крикнул им вслед голос из лифта.
– Может быть, на обратном пути, – на ходу бросил Лопухов. – Сейчас не могу – работа.
– Уже почти пришли, – сказал он, карабкаясь на последний этаж. – О, Валерьяныч, здорово! – крикнул он кому-то, кого Василий Иванович и Марина Михайловна не сразу заметили из-за его широкой спины.
На подоконнике, положив нога на ногу, сидел совершенно босой человек и читал Конституцию Российской федерации.
– Здорово, клещ, – поздоровался он, не отрываясь от чтения. – Скоро всем вам, кровососам, каюк настанет, – произнес он, почесав грязный большой палец правой ноги.
– Какая статья уже? – весело поинтересовался Лопухов.
– Тридцать пятая. О праве частной собственности.
Человек поднял на него мутные глаза, плюнул через отвисшую губу на пальцы и, перевернув страницу, зачитал:
– Пункт два: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами».
– Да, с этим не поспоришь, – согласился Лопухов.
– А раз не поспоришь, то что ж вы, суки, у меня квартиру отобрали?
– Ну-ну! Кто отобрал? Я у тебя, что ли, отбирал?
– Не ты, но такие же клопы, как ты, в 93-ем. А я, между прочем, в Мариинском театре пел.
– Если б ты пел, а не пил, глядишь, и квартирка твоя при тебе была б.
– Тварь ты гнилая. А кто мне подливал, как не такие же клопы, как ты?
Артур Николаевич хохотнул и спросил:
– Может тебе чего надо? Я тебе завтра обувь принесу, чтобы босяком не ходил.
– Иди отсюда, падаль, – ответил ему человек.
– Ну оставайся с богом! Ботинки завтра принесу! – крикнул Артур Николаевич через плечо уже в прихожей. – Маргинальный элемент, – пояснил он родителям студентки Оли.
– Ну вот, глядите. Здесь у нас общий коридор. Вешалки все поделены по комнатам, вот этот крючок будет вашей Оли. На крючки других жильцов одежду советую не вешать, а то всякое бывает. Народ разный живет, не все со стрессом хорошо справляются.
– Ничего себе потолки, – Олин папа запрокинул голову, разглядывая уже не удивлявшие его слои отошедшей штукатурки.
– Почти четыре метра, – не без личной гордости ответил Артур Николаевич. – Счетчик у каждого свой, – он указал на стену, представлявшую собой что-то вроде коровьего вымени с сосцами в виде электрических счетчиков.
– Здесь туалет, – открыл он дверь в ближайшую комнатушку.
Василий Иванович заметил, что на туалетной двери была внушительная вмятина размером с человеческую голову, прикрытая календарем десятилетней давности. Фановая труба вся обросла бородой из пыли и копоти.
Артур Николаевич повел их в ванную.
– Ванна тоже антиквариат. Дореволюционный образец.
– Тоже Виллерой и Бох? – спросила Марина Михайловна.
– Нет, почему же? – удивился Лопухов. – Торнтонн энд санс! Английская фирма. А вот и клеймо – можете убедиться.
– Да-да, я вижу, – Марина Михайловна поспешно отступила от видавшего виды сантехнического чуда Торнтонн энд санс. – Можно воду открыть?
– Конечно, можно. С водой у нас проблем нету, – Лопухов повернул кран.
Василию Ивановичу и Марине Михайловне показалось, что весь дом затрясся от фундамента до самой крыши, в его недрах что-то загудело страшным гулом, зашипело, завыло и из крана брызнула худая, черная струйка, брызнула и тут же иссякла.
– Сейчас идет плановое отключение, – пояснил Лопухов. – Летом всегда так. Давайте посмотрим кухню.
В кухне вдоль стен стояло три плиты, две стиральные машины и пять маленьких столиков. К стене, покрытой зеленою краской, было приколочено несколько полок с разной утварью. Почерневшие подоконники украшала пара цветочных горшков, и какое-то ползучее растение тянуло слепой щуп вдоль рассохшейся оконной рамы к потолку. С потолка, шевеля усами и поворачивая голову, гостей с любопытством разглядывал рыжий таракан.
– На одну плиту приходится две хозяйки, – пояснил Артур Николаевич. – Каждая должна чистить свою половину.
В этот момент в кухню незаметно вошла, словно подкралась, молодая женщина лет тридцати, с крашенными хной волосами, с водянистым внимательны взглядом, с бледным ртом, сжатым в улыбку.
– А вот, кстати, одна из жилиц, – представил ее Артур Николаевич. – Виктория Романовна, замечательный работник и просто отзывчивый человек. Один раз меня в прямом смысле из беды спасла.
Пока родители студентки Оли изучали обстановку, Виктория Романовна, не разжимая улыбку, спросила:
– Как у вас дела? Все утряслось?
– Да утрястись-то утряслось, – морщась, ответил Лопухов. – Только этот ваш Архипов мне теперь покоя не дает: чуть ли не каждый день звонит и спрашивает, когда, мол, деньги вернешь? А мне, может, сейчас не с чего возвращать, я, может, сам последнюю краюшку хлеба доедаю. Всю душу вынул. И было же сказано ему – компенсирую.
– Ну, во-первых, он не наш…
– Свой собственный, значит.
– … а во-вторых, это ведь не доказано…
– Да-да, – пробормотал Артур Николаевич рассеянно, поглядывая на своих клиентов, которые от скуки начали пристальнее изучать стены, потолок и оконные рамы, Василий Иванович даже успел уколупнуть ногтем черную щепку на подоконнике.
– … почему вы должны верить?.. Ничего, кроме его слов…
– Да-да, – снова механически пробормотал Лопухов, все более тревожась о впечатлении, которое рыжий таракан производит на супругов.
Но вдруг слова собеседницы заставили его отвлечься от досадных мыслей.
– Что вы сказали? – глаза его широко открылись, и он как бы с пониманием новой, внезапно обретенной истины встретился с ней взглядом.
– Я говорю, – повторила она, – что на вашем месте, Артур Николаевич, задумалась, а действительно ли у него были деньги в той куртке? Потому что, кто теперь это сможет проверить?
– Даа… – протянул Лопухов.
– А ведь и правда… – сказал он, сразу сильно повеселев и оживившись. – И правда! Никто их не видел, никто не может подтвердить, в правду ли они у него были или нет… А, может быть, и вообще никаких денег не было…
– Именно.
– И как это я сам не додумался? – воскликнул Лопухов.
Она дернула плечом, показывая, что не знает, как такая простая мысль не пришла ему в голову.
– Друзья, а не пора ли нам посмотреть саму комнату, – задорно сказал Лопухов, подмигнув Виктории Романовне.
– Ну, с Викторией Романовной вы уже познакомились, – проговорил он, беря за одно плечо Василия Ивановича, а за другое – Марину Михайловну. – Кроме нее в квартире проживает еще четверо человек: один гость из Азии, не помню Большой или Малой, очень смирный человек, ни капли спиртного. Двое гражданских супругов, интеллигентнейшая пара – Михаил и Галина. А вон в той, самой дальней комнатее, живет один молодой человек, человечек так себе, скажу я вам, но порядок не нарушает, юрист, грызет себе потихоньку гранит науки, его толком-то и не видно. В общем, как видите, публика все приличная…
В ответ на это замечание из комнаты интеллигентнейших супругов, Михаила и Галины, донесся талантливо закрученный многоэтажный русский мат, следом – столь же бойкий и затейливый мат в верхнем регистре, на который ответило менее затейливое, зато более грозное восточное ругательство из другой комнаты.
Не успели Василий Иванович и Марина Михайловна опомниться, как дверь спальни счастливых супругов распахнулась, и оттуда вылетела растрепанная молодая женщина. Ударившись плечом о стену, она тут же хотела кинуться в комнату, но дверь перед ее носом захлопнулась. Тогда она стала колотить в нее босой ногой, требуя впустить ее и грозясь убить своего любимого гражданского супруга. Голос с восточным акцентом, вторя ей, обещал смерть всей квартире, если шум немедленно не прекратится. Дверь не поддавалась и только временами отвечала апатичной бранью. Пнув ее еще раз, женщина двинулась дальше по коридору и, к полному изумлению клиентов Лопухова, принялась лупить кулаком в соседскую дверь.
– Костя, вставай! – кричала она. – Вставай! Меня Мишка выгнал!
Дверь отворилась, из нее вышел Архипов.
– Что случилось? – покусывая нижнюю губу, спросил он.
– Иди, поговори с ним! Скажи, чтобы он меня впустил! Я не могу весь день тут торчать!
Архипов с тоской посмотрел на комнату супругов, на застывших в красноречивом молчании потенциальных жильцов, на Викторию Романовну, искоса поглядывавшую на него, и робко постучал.
– Миша, открой, – сказал он.
Навстречу ему высунулась длинная, в черной шерсти рука и втащила его внутрь.
– Ну вот, думайте, товарищи, – сказал Артур Николаевич, когда он и его клиенты наконец вышли на свет. – Хорошее место, исторический центр, академия рядом – лучше нигде не найдете!
– Да-да, мы подумаем, – Василий Иванович торопливо сгреб супругу под локоть и стал удаляться прочь от дома Растопиной с такой быстротой, что его жене пришлось семенить и подпрыгивать рядом с ним.
Им казалось чудесным, удивительным и странным, что на улицах светит солнце, гуляют праздные люди, и сверкает бликами река. Они прошлись по Летнему саду, сходили в Эрмитаж и, сев в светлом благовонном кафе на Невском, почувствовали себя невероятно, невыносимо, непередаваемо счастливыми.
Не сговариваясь, они решили, что Оля будет жить в общежитии.
Глава 5
– Нет, ты понял?..
– Да, понял.
– Точно понял?..
– Точно.
– Вот, епта, смотри! – человек чужой и тот все понял, а ты…ничего не понимаешь!
Михаил Потемкин вывалился в коридор, по-обезьяньи цепляясь за плечо Архипова. Галя, прислушивавшаяся к разговору, отскочила от двери.
– Нет, а что я такого сказала, а?..
– Вон, пусть человек тебе объяснит! – ткнул Миша пальцем в Архипова. – Костян…
Архипов улыбнулся и, что-то пробормотав, попытался ускользнуть к себе. В двенадцать он встречался с Ритой, и уже потерял полчаса. Но Миша крепко держал его.
– Подожди, братан, подожди… Видишь, она опять сейчас начнет, я ведь за себя не ручаюсь…
Но Галя, судя по всему, и не думала «начинать», вместо этого она примирительно спросила:
– Мишунь, ты завтракать будешь?
Миша постоял, склонив голову набок и как бы соображая, верить этой внезапной перемене или нет, потом сказал:
– Давай! И на Костяна чего-нибудь сообрази. Костян, ты ж голодный? Сейчас Галка накормит…
Он двинулся вслед за Галей, одной рукой ощупывая карман трико в поисках сигарет, другой – повиснув на Архипове.
– Мне и правда пора… – пробормотал Архипов.
– Галка, быстрее там, епта! Костян торопится! – Миша наконец отыскал сигареты и засунул одну в рот.
На кухне он рухнул за небольшой, накрытый клеенкой столик, усадив рядом с собой Архипова. Пока на сковородке шкварчала яичница, а Галя резала хлеб, Миша потягивал пиво и курил, стряхивая пепел в треснувшее кофейное блюдце. Взгляд его, все еще мутный, лениво замирал в одной точке, а рука, подносившая сигарету ко рту, двигалась заторможено и вяло.
Одет он был в растянутую майку, из которой выглядывала черная шерстяная грудь. В шерсти поблескивал серебряный полустершийся образок на замусоленном шнурке.
После завтрака, когда на столе остались в хаосе лежать раскрошившийся кусок хлеба, надкушенная зеленая луковка и остатки подгоревшей яичницы, Галя, моя посуду, покосилась на Михаила и робко загнусавила:
– Мишуня, миленький, вернись на работу… Нам одной моей зарплаты не хватит… – она работала продавцом.
– В шиномонтажку не вернусь, – угрюмо ответил Миша.
– Ну, может быть, не туда… Может быть, в какое-то другое место… Мало, что ли, работ?
Видя, что Миша не отвечает, она стала бубнить себе под нос жалобно и однообразно. Плакательные интонации появлялись в ее голосе сами собой, почти автоматически, и так же автоматически могли смениться криком.
В Гале все было вызывающе-крупно: большие круглые глаза под большими густо накрашенными ресницами, большие полные губы на круглом большом лице, большой, выпуклый и мягкий живот, большая грудь, под тяжестью которой сгибался ее торс. Ей исполнилось двадцать восемь, но все ее тело было бабьим, сдобным и рыхлым.
Миша работал в шиномонтажке последние полтора месяца, и был уволен только вчера. Причина увольнения казалась до крайности обидной: он сменил колесо приехавшему на «Ладе» клиенту, и только-то. То есть не взял с него за «гнутый» диск, не навесил грузиков, оставил старые ниппели. Одним словом, поступил, как полный и круглый дурак. О чем ему прямо сказал старший менеджер Саркисян Армен Гамлетович, а также добавил, что за упущенную выгоду, он, дурак, заплатит из своего кармана. Миша в долгу не остался: припомнив все известные ему ругательства, он излил их на Армена Гамлетовича, после чего был уволен.
Уткнувшись вязким взглядом в Архипова, он сказал:
– Вот он постоянно работает – и что? Много заработал? Похож на миллионера? Голодранец. Работаешь, работаешь – и сдох. Пожить не успеваешь, – он сделал затяжку. – Нет, надо не работать, а как-то по-другому…
– Как это «по-другому»? – передразнила его Галя.
Миша обвел глазами комнату и задумчиво запустил руку в свою кудрявую голову, красивую в фас, и совершенно скошенную в профиль.
В его внешности вообще странно сочетались красота и уродство. Словно природа, задумав его красавцем, вдруг охладела к своему замыслу. У него был хорошо очерченный рот и вместе с тем тяжелая, по-обезьяньи выдвинутая вперед челюсть, глаза чистого ультрамарина слишком глубоко запали в череп, темные, мягко курчавящиеся волосы чересчур набегали на лоб. Нос, начинаясь сразу ото лба, казался слишком коротким, а ноздри при этом выглядели тонкими и даже трепетными.
– А как они все живут? – ответил он. – Вон у них и яхты, и машины, и дома. В шиномонтажке они это все заработали? Хрен там! Если они могут так, то почему я не могу? Чем я хуже? Я тоже хочу и майбах, и мальдивы, и рябчиков, епта, с ананасами, – он поднес сигарету ко рту.
– Мы с тобой никогда так жить не будем, – сказала Галя.
Она закончила мыть посуду, вытерла руки и села рядом с ним. Обмакнув перышко лука в соль, она вяло жевала его. Обнаружив ее тело рядом с собой, Миша механически протянул руку и обнял ее стянутую бюстгальтером спину, рука пошла медленно вверх-вниз по двум выпуклым складкам.
– Эх, разбогатеть бы! – он потянулся на стуле до хруста в суставах. – Если б я разбогател, то здесь ни за что бы не остался!
– И куда бы ты поехал? – спросила Галя.
– А туда, где живут настоящие люди… Куда-нибудь, где тепло, и солнце светит круглый год. Во Францию или в Италию… Там все загорелые, улыбаются…
– У них просто климат хороший…
– Я, пожалуй, пойду, – Архипов сделал попытку подняться.
– Посиди, Костян, посиди!
– Ну и что бы вы там стали делать? – в дверях уже некоторое время стояла Виктория Романовна и слушала Мишу с косой улыбкой на губах.
Сквозь хмельную угрюмость изжелта-серое, осунувшееся Мишино лицо вдруг просветлело. Он улыбнулся и сказал:
– Что-что… Купил бы дом с колоннами где-нибудь на берегу и жил бы! В море бы купался… Там говорят вода такая, что каждый камень видно, рыбу можно голыми руками ловить. Я бы с маской поплавал, на всех этих гадов поглядел бы. Мне всегда было интересно, как там, епта, эти твари шевелятся. Хотела б ты, Галка, с маской поплавать?
– Я бы просто лежала в шезлонге и загорала, – ответила она, невольно отзываясь на его мечту.
– Грелись бы на солнышке, а нам бы всякие коктейли подавали. Посиди, Костян, посиди! Всякие фрикасе и бланманже… Я бы даже улитку съел!
– Фу! Улитки – гадость. Гораздо лучше итальянская кухня. Мне нравится паста и равиоли… И вино итальянское самое лучшее.
– А я бы и кузнечика сожрал, – Миша теснее прижал ее к себе. —Устриц бы каждый день трескал!
– Устриц надо обязательно с лимоном…
– У меня было бы не меньше пятидесяти комнат, и все – разные. В одной – медвежьи шкуры, бошки носорогов там всякие, в другой – картины до потолка, в третьей – бильярд, в четвертой – кинотеатр… Столовых и спален только бы по пять штук каждой! Сортиры у меня все золотые бы были, даже у ершиков золотые ручки! Две-три комнаты только б под шмотки отвел. Галка, хотела б ты в одной хранить только дольчегаббана, в другой – шанель?..
– Я шанель не люблю. Это для старух. И духи у них вонючие.
– Костя, а что вы делали бы, если бы разбогатели? – Виктория Романовна перевела взгляд на Архипова. На ее бледных щеках выступил румянец, как будто что-то развеселило ее.
– Я?.. – он испуганно взглянул на нее. – Не знаю… Я никогда об этом не думал…
Миша ушел в безмолвное созерцание собственной мечты, и Архипову наконец удалось выбраться из-за стола. Но Виктория Романовна окликнула его:
– Костя, вы уже подписали новый договор аренды?
Он обернулся, мгновенная тревога промелькнула на его лице.
– Нет, не подписал, – ответил он. – Я о нем вообще не слышал.
– Странно, – сказала Виктория Романовна. – Я еще на той неделе подписала.
– И что там? Условия сильно изменились?
Под условиями он подразумевал, конечно, цену, она это прекрасно понимала.
– Знаете, это ведь у каждого индивидуально… Одно могу сказать: стало дороже. Да не переживайте, с вами, наверное, тоже скоро подпишут…Вы видели? – сегодня заходил Лопухов. Он все водит жильцов смотреть ту комнату…
На ее губах появилась тень улыбки. Рот Архипова тоже невольно скривился на угол.
– Считает, что на ней теперь проклятье, – улыбка Виктории Романовны обозначилась яснее. – У него сейчас трудности. Чуть не уволили, и с деньгами проблема – нечем заплатить кредит за машину.
Архипов опустил глаза и ничего не ответил.
Несмотря на то, что они были соседями и коллегами, Архипов толком не общался с ней, более того, почти избегал. Он чувствовал, что пока она говорила, ее выпуклые глаза все время словно ползали по его лицу, словно осторожно отыскивали в нем что-то.
Одета она была в свою привычную «робу» – черные брюки и темно-синюю кофту. Она всегда выходила из комнаты, только наглухо застегнутая и гладко причесанная. С нею Архипов невольно держался на «вы». Первое время, думая, что ей это обидно, он несколько раз пытался перейти на «ты», но что-то будто лишало ее молодости и возможности говорить ей «ты».
– Кстати, – сказала она, уже как бы собираясь уходить. – Он вернул вам деньги? Я спрашиваю потому, что мне он принес новый зонт взамен украденного.
– Нет, пока не вернул.
– Да? Наверно, скоро вернет. Ну, хорошего дня.
Она скрылась у себя. Архипов, как всегда после разговора с ней, почувствовал смутное беспокойство, словно что-то холодное и скользкое дотронулось до него.
Когда он был уже за порогом, его догнал Миша.
– Братан, братан, подожди!
Он замялся.
– Слушай, тут такое дело… Не одолжишь деньжат?..
– Сейчас? Слушай, я…
– Я с первой зарплаты отдам – честное слово…
Архипов сунул руку в карман и достал мятую тысячу.
– Вот спасибо! Я как только – так сразу…
Но Архипов его уже не слушал. Он знал, что опаздывает, и знал, что Рита будет недовольна. Солнце, еще недавно косой полосой ложившееся на соседний брандмауэр, стояло теперь высоко и беспощадно раскаляло, как рой, гудящий, сияющий золотом каменный город.
Глава 6
Как только Архипов вышел из прохладной сырости двора, на него навалился полуденный зной. Случилось то, что часто случается в Петербурге: зимняя стынь с ветрами и сеющим дождем за ночь сменилась абсолютным летом. Те же люди, которые вчера кутались в куртки, хлюпали носами и сутулились от холода, сегодня шагали по Невскому, вольно распрямив спину и распахнув грудь. Все вокруг пестрело совершенно летней публикой, которая двигалась, толкалась и текла во все стороны. Фонтан возле Казанского собора, бивший прозрачной искрящейся струей, был облеплен людьми, как свежий арбуз осами. Ловцы загара бросили себя кто куда: на траву Марсова поля, на песок Петропавловской крепости и даже на камень набережной. Тут же появились лоточники, и пошла бойкая торговля жаренной кукурузой, мороженным и сахарной ватой. И от холодной, сырой, затянувшейся весны не осталось ничего, даже воспоминания.
Свернув к арке Главного штаба, Архипов оказался внутри вавилонского столпотворения. Он прорвался сквозь толпу, окружавшую музыканта, увернулся от объятий плюшевой лошади, и был остановлен тремя пожилыми дамами с внуком. Дамы хотели сфотографироваться под Круглыми часами, внук куксился от жары и оттого, что его не пустили в музей восковых фигур. Архипов сфотографировал их всех вместе и по отдельности, и когда уже собирался уходить, одна из них уронила пакет, из которого вывалился колоссальный набор шоколада. Архипов помог им собрать покупки, и, когда вошел на Дворцовую, было без двадцати час.
На брусчатке стояли, сидели и лежали люди. Монархи, чьи портреты украшали коробки конфет, прогуливались под ручку друг с другом.
Рита ждала его во дворе Эрмитажа, у фонтана. Он сразу узнал ее, хоть она и стояла к нему спиной: ему был виден только краешек ее щеки и маленькое ухо, выглядывавшее из-под завитка темных, в каре стриженных волос.
– А вот и ты, – обернулась она. – Надо же! Ты надел рубашку, – она окинула его взглядом влажных черных глаз.
На ней самой было платье зеленого цвета, который, она знала, так шел ей. Две золотые капли в ушах отбрасывали лучистые тени на шею и подбородок.
– Не хотел тебя позорить, – улыбнулся Архипов.
– Нам нужно занять очередь. Они пускают по десять человек.
Вместе они встали в хвосте длинной, тянувшейся через весь двор очереди. Всякий раз, когда очередь начинала двигаться, проталкивая их вперед, Рита приподнималась на цыпочках и вытягивала шею, пытаясь разглядеть, сколько еще человек перед ними, потом хмурила лоб и нетерпеливо цокала языком. Архипов знал, что ее оскорбляла необходимость стоять в любой очереди. Ей чудилось что-то унизительное лично для нее в том, что надо толкаться вместе со всеми в потной и тесной толпе.
– Тебе жарко? – спросил он.
– Мне печет голову, – недовольно ответила Рита.
Архипов улыбнулся и, растопырив пальцы, поднял руки над ее головой.
– Я сделаю тебе тенек.
– Перестань, это глупо.
Он засунул руки в карманы, вжал голову в плечи и обвел взглядом двор. Вдруг в параллельном потоке, со стороны Церковной лестницы он заметил высокого, худощавого человека в клетчатой, мешком висевшей рубахе.
– Смотри, это же Леха! – сказал он.
– Где?
Рита обернулась.
– Тебе показалось, – спустя долю секунды ответила она.
еловекился. иему машут,евшей на плечах рубахе. и худощавую фигуру в— Нет, это точно он, – Архипов поднял руку и помахал.
Увидев, что ему машут, человек остановился и близоруко прищурился. Взгляд его оживился, он обернулся, сказал кому-то пару слов, и стал протискиваться к ним.
Рита отвернулась.
– Зачем ты его позвал?
– Он бы все равно нас увидел.
Литвинов был не один: за руку его держала невысокая девушка, беленькая и вся какая-то мягкая. Из рукавов ее футболки выглядывали круглые детские ручки с ямочками на локтях. Казалось, что если надавить на эту белую руку, то кожа на ней тут же вернется в прежнее состояние, не оставив никакого следа нажима. Пряди негустых, светлых волос мягко спускались ей на плечи. Между двух круглых щечек сидел маленький вздернутый носик, а под ним улыбался нежный, маленький ротик.
Именно она первой поздоровалась с ними.
– Привет! – сказала она, и ямочки заиграли у нее на щеках. – Вы друзья Леши?
– Это Света, – представил ее Литвинов.
– Я Костя, – Архипов протянул ей руку.
– А это Рита, – сказал Литвинов, переводя взгляд на Риту.
– Да, это Рита, – сказала Рита.
Рита не любила Литвинова. Архипов знал это, знал это и сам Литвинов, потому что Рита никогда не скрывала своего отношения к нему. А между тем, Литвинов был другом Архипова, и когда-то сокурсником Риты.
Литвинов принадлежал к породе желто-пегих блондинов, бесцветных, словно бы выветренных прибалтийскими ветрами. Ни красивым, ни даже приятным его лицо не казалось. Но было в нем некоторое своеобразие.
В голубых до белесости глазах жили очень подвижные, острые, птичьи зрачки. Он близоруко щурился по привычки вглядываться в предметы, но этот вечный прищур накладывал маску высокомерия на его лицо. Нос заканчивался квадратным, вздернутым и очень острым кончиком, что придавало Литвинову въедливое, ехидное и вместе с тем задорное выражение. Подбородок разделяла бороздка, слишком длинная и глубокая, чтобы называться просто ямочкой. Думая о чем-то, он обычно хмурился, поэтому между бровей у него рано залегла маленькая резкая морщинка. Вместе с бороздкой она как бы рассекала его лицо надвое. Одевался он всегда будто с чужого плеча, а привычка сутулиться делала его сжатым, скрученным и хуже сложенным, чем он был на самом деле.
– Удивительно, что мы встретились, правда? – проговорила Света, поднимая радостные глаза на Литвинова и все еще держа его за руку. – Леша мне о вас рассказывал. Он сказал, что вы – его лучшие друзья.
На губах Литвинова застыла улыбка, не та улыбка, которая была редкой и сразу делала его тусклое лицо красивым, а полуулыбка, недоулыбка. Но темные зрачки заблестели и зашевелились, своим быстрым движением компенсируя неподвижность улыбки.
– Надо же! Какая честь! – полушутя сказала Рита.
Зрачки-птички тут же передвинулись на нее.
– Сегодня такая чудесная погода, – продолжала Света. – Мы вчера намучились с переездом, и сегодня решили прогуляться.
– С переездом? – не понял Архипов, он не помнил, чтобы Литвинов собирался переезжать.
– Да, я переехал.
– А вы разве не знаете? – удивилась Света. – Он же недавно ключи получил!
– Ничего себе! Поздравляю! – потрясенно произнес Архипов. Он не только не знал, что Литвинов получил ключи, но даже о том, что Литвинов купил квартиру.
– Квартира, правда, совсем небольшая, – продолжала Света. – Всего тридцать три квадрата. Но все-таки не студия и свое жилье!
– И как долго тебе платить? – спросила Рита.
Взглянув на нее, Литвинов улыбнулся и сказал:
– На двадцать лет в кабале.
– Ну перестань! – Света легонько толкнула его. – Это он так шутит, он, конечно, раньше выплатит, как и все, – и, снова подняв на него радостные глаза, она переложила его ладонь из одной своей руки в другую.
– Где ты купил? – с искренним интересом спросил Архипов.
– В Приморском.
– Оттуда, говорят, не выехать, – сказала Рита.
Литвинов посмотрел на нее, но ответила ей Света.
– Да, так же, как почти везде сейчас, – весело сказала она.
– Кажется, наша очередь двигается, – заметил Литвинов.
– Точно, – забеспокоилась Света, вглядываясь в параллельный поток, – мы заняли у того входа.
Литвинов потянул ее обратно. Обернувшись к Рите и Архипову, она крикнула:
– Приходите на новоселье!
Архипов, улыбаясь, помахал им вслед.
– Вот это да! – сказал он. – Ты знала, что Литвинов купил квартиру?
– Нет, с чего бы? – Рита дернула плечом.
– А про его девушку?
– Боже! Откуда? Разве это я с ним дружу?
– Она, кажется, милая…
– Интересно, где он ее подцепил? – Рита поправляла челку, глядя в карманное зеркальце. – Ей на вид лет восемнадцать. И влюблена в него, кажется, как дурочка.
Один ее влажный лошадиный глаз, отражаясь в зеркале, скосился в сторону, как бы пытаясь заглянуть за плечо – туда, куда только что ушли Света и Литвинов.
– Все время будто хвасталась им перед нами…
– Да? Я не заметил.
– Было бы чем, – Рита захлопнула зеркальце и убрала его в сумочку.
– Все-таки он молодец, – сказал Архипов.
– Тридцать три квадрата – достижение!
Архипов опустил глаза.
– Мы пойдем к ним на новоселье? – спросил он.
– Не знаю, может быть…
Через десять минут они вошли. На входе у Архипова запищали ключи, и, чтобы их достать, ему пришлось вынуть из карманов все: проездной, несколько смятых купюр, жетон метрополитена.
– Боже мой! – сказала Рита, глядя, как он торопливо вертится у рамки.
– Можете идти, – наконец пропустил его охранник, но на кассе вдруг выяснилось, что Архипов не может найти деньги. Он стоял, кусая губы, и в пятый раз обшаривал карманы, пока кто-то сзади не окликнул его:
– Молодой человек, это не вы обронили?
Он обернулся, закивал, смущенно улыбаясь, и сжал потной ладонью протянутые ему деньги.
– Ну, куда ты хочешь пойти? – весело спросил он, рассчитавшись за билеты.
– Такое могло случится только с тобой, – ответила Рита. – Почему бы не заплатить картой?
Архипов промолчал, и они стали подниматься по лестнице. Он немного отстал, оттесненный большим и шумным семейством.
– Ты идешь? – обернулась Рита.
Она стояла на ступеньках, положив руку на перила. Вся ее поза и поворот головы, и рука были полны невыученной грации. Рита отличалась той редкой, подлинной красотой, которая не имеет ничего общего ни с модой, ни с меняющимися вкусами. Даже несовершенное в ее лице, не портило, а украшало ее, как эта полная, слишком выступающая вперед нижняя губа или округлый белый подбородок, который мог бы казаться тяжелым, но казался нежным и влекущим. В ее лице не было ничего эталонного, и все же оно сияло красотой. Он знал, что остальные видят и понимают это, и что она сама видит и понимает это.
– Помнишь, я говорила про Сашу? – сказала Рита, когда они медленно брели мимо каких-то греческих ваз с бегущими по ним греками. – Она была в галереи Уффици во Флоренции.
– Ты бы хотела там побывать? – спросил Архипов.
– Да, конечно. Кто не хочет? – пожала плечами Рита.
Полоса света, чередуясь с тенью, пробежала по ее щеке, и Архипов вспомнил, как впервые увидел ее. Она читала книгу в Летнем саду, тень от дерева падала на нее сверху, и все ее лицо, и плечи, и даже краешек босой ноги были словно в кисее.
– Посмотри, какие краски, какой свет, – сказала Рита, когда они проходили через зал Рембрандта.
– Ты же знаешь, я ничего в этом не понимаю, – ответил он.
– Но хоть что-то ты можешь сказать?
Архипов приблизил лицо к картине, открыл было рот, но не успел произнести и слова, как кто-то бесцеремонно схватил его за локоть и дернул назад. От неожиданности он даже не возмутился, а только сильно удивился. Обернувшись, он увидел перед собой невысокую сухую старушку с сжатым, набок съехавшим ртом, обозначенным оранжевой помадой. На старушке была форменная жилетка и бейджик с надписью: «Курочкина Мария Августовна».
– Вы что с ума сошли? – зашипела она.
– А в чем дело? – изумленно спросил Архипов.
– Вы зачем так близко подошли к картине?
Она шептала, но так громко, что ее шепот привлекал внимание остальных посетителей, к тому же она цепко держала Архипова за руку, словно поймав его с поличным во время преступления. Так что казалось, будто Архипов хотел по меньшей мере украсть картину.
– Вы б в нее еще пальцем ткнули, – сердито сказала Мария Августовна. – Вас что не воспитывали?
– Простите, – пробормотал Архипов, краснея до корней волос и не зная куда себя девать.
– Вас самих-то воспитывали? – процедила сквозь зубы Рита. – Пойдем отсюда!
Вырвав Архипова из рук Марии Августовны, она стремительно вышла из зала. Рита молчала и не смотрела на него. Он видел только ее покрасневшее лицо и закушенную нижнюю губу.
– Зря ты так расстроилась, – сказал он и попытался улыбнуться. – Мне вот абсолютно все равно.
– И заметно, – сказала Рита. – У тебя что совсем нет гордости? – ее рот дрогнул.
Они шли через Темный коридор, среди западноевропейских шпалер со сценами охот и пиров. Свет здесь был сумрачным, и Архипов почувствовал, что стены коридора окружили его и давят. В дородных купидонах, дамах и кавалерах проступило нечто зловещее.
Он рассказывал ей о суде, и вдруг заметил, что говорит сам с собой, потому что Рита отстала. Стоя в просвете двери, он увидел, что ее остановил какой-то иностранец. Без конца улыбаясь и говоря «окей», он просил помочь ему разобраться со схемой музея. Одет он был почему-то в зеленые лосины для езды на велосипеде, странно обтягивавшие его выпуклые, мускулистые ляжки.
Оказавшись в своей стихии, Рита преобразилась. Стала улыбчивой, приветливой и непринужденной. Архипов знал, что она закончила иняз, свободно владела английским и французским, чуть хуже – итальянским и испанским.
Иностранец убрал карту подмышку, а диалог все продолжался.
– Что он хотел? – спросил Архипов, когда Рита догнала его.
– Хотел найти Тронный зал, – отвела она взгляд и тряхнула челкой.
– Еще куда-нибудь пойдем?
– Нет, хватит уже, – весело сказала Рита, беря его под руку, – и так четыре часа ходим.
Пока они гуляли по музею, дождь сбрызнул город, оставив на брусчатке маленькие, подсыхавшие на солнце лужицы. Когда одна из таких лужиц подвернулась у них на пути, Архипов быстро подхватил Риту на руки.
– Ты что! – воскликнула она. – Отпусти меня!
Он засмеялся и сделал пару шагов. Но Рита застыла у него в руках.
– Отпусти, – повторила она. – Ты ведешь себя глупо. Ты изомнешь мне платье.
Он отпустил и, помолчав немного, сказал:
– Хочешь выпить кофе?
– Можно, – безразлично ответила она.
Они пересекли площадь и зашли в кафе. Там было тихо и прохладно, большая часть столов пустовала.
– Два кофе, – заказал Архипов.
Рита ждала в стороне.
– Не желаете что-нибудь покушать? – спросил официант. – У нас есть супы, салаты, горячие блюда. Посмотрите наше летнее меню… Салат со свеклой и козьим сыром очень рекомендую…
– Нет-нет, спасибо… – торопливо отказался Архипов.
– Может быть, десерты к кофе? Все свежее, только сегодня привезли.
– Нам только кофе, – вмешалась Рита.
Они пили кофе в молчании.
Глядя на движущуюся за окном площадь, Рита спросила:
– Тот твой Лопухин…
– Лопухов.
– Не важно. Он так и не вернул тебе деньги?
– Немного вернул, – соврал Архипов.
За его спиной отворилась и хлопнула дверь, брякнул колокольчик. Рита ничего не сказала, но по ее глазам он догадался, что она смотрит на вошедших. Обернувшись, он увидел Литвинова и Свету. Они стояли перед витриной, переговариваясь и блуждая взглядами по меню.
Рита провела рукой по волосам и переменила позу, но не сделала никакой попытки привлечь их внимание, очевидно, дожидаясь, когда они первыми заметят их. И действительно, только Архипов хотел окликнуть Литвинова, как он сам встретился с ним взглядом и направился прямо к их столику. На круглом свежем лице Светы, когда она их увидела, снова появилась широкая улыбка с ямочками.
– Вот это да! – воскликнула она. – Мы сегодня весь день встречаемся. Просто судьба! Можно к вам?
– Конечно, – Архипов поднялся, чтобы пересесть к Рите и дать возможность Литвинову сесть рядом со Светой. Но Рита быстро протянула вперед руку и, улыбаясь, сказала:
– Света, садись со мной. Если они начнут говорить о скучном, мы притворимся, что нас здесь нет!
Был в ее манере такой незаметный, почти микроскопический переход от холодности к искренности, что порой казалось, она переодевает свое настроение, как актер – костюм за кулисой. В такие моменты ее лицо светилось теплом изнутри, и вся она превращалась в греющий и ласковый источник света. Черные глаза мерцали и смеялись. И каждый раз Архипов вновь попадал под это обаяние, и тогда ответ на вопрос «Почему он любит Риту?» становился ему простым и понятным.
Света тоже почувствовала себя согретой этим внезапным теплом, и развеселенная тем, что Рита так прямо посмеивалась и над Архиповым, и над Литвиновым, перед которым она все еще робела, обернулась, бросила взгляд на Литвинова и села рядом с Ритой.
– У нас как будто двойное свидание, – сказала она, розовея и заражаясь игривостью Риты.
В бледных глазах Литвинова проснулись и заблестели черные зрачки, и живая краска заиграла на его бесцветном лице, как будто не его лицо, а чье-то чужое проступило наружу.
– Ну рассказывайте, что вы видели? – весело сказала Рита, обращаясь преимущественно к Свете.
– Ой, я уже и не помню, – ответила та. – Мы прошли столько залов. Меня вел Леша, я ведь раньше никогда не была в Эрмитаже.
Рядом с Ритой вся ее нежная миловидность тут же поблекла, и теперь она казалась простенькой девочкой, чересчур белой, чересчур румяной и курносой.
– Правда? – спросила Рита.
– Да, у нас в городе есть только один музей – Краеведческий, но в него никто не ходит. А здесь все ходят в музеи. Я в этом совсем ничего не понимаю, – с веселой откровенностью самоуничижения призналась она.
– Я вот уже год хожу и до сих пор ничего не понимаю, – улыбнулся Архипов.
– Ну, теперь я буду учиться, – добавила Света, с особым выражением произнося слово «теперь».
– Видишь, Костя, ты просто не учишься, – проговорила Рита, переводя на него взгляд веселых блестящих глаз. Она была очень хороша со своим зажегшимся изнутри лицом, с проступившим на щеках румянцем.
– Значит, я неуч, – сказал он, еще шире растягивая рот в улыбке.
– Не беспокойся, Костя, – вмешался Литвинов, – для того, чтобы задирать нос, учиться вовсе не обязательно. Кривляться и строить из себя знатока можно и без этого.
– Правда, – сказала Рита. – Кругом одни «голые короли».
И оба засмеялись. При этом голос Риты не утратил игривого тона, каждая жилка в ее лице переливалась и искрилась, и нельзя было сказать, говорит она в шутку или всерьез.
Несколько сбитая с толку, засмеялась и Света.
– Леша очень много знает, – сказала она, – он постоянно рассказывает мне что-то такое, о чем я вообще никогда не слышала. Он мне тут посоветовал одну книжку… Когда закончим с переездом, обязательно прочитаю. Сейчас столько всего надо сделать! Леша говорит, что ему ничего не нужно, но у него в квартире ведь совсем пусто! Даже чай не во что налить. На окнах штор нет. Все еще такое неуютное! Я купила цветочек в горшке, чтобы было хоть немножко веселее.
Литвинов усмехнулся, встретив ее взгляд.
– Ты замечал, – сказал он Архипову, – что в душе, каждая женщина – мещанка. Ей нужно такое место, где бы она могла развести цветы, повесить шторы и расставить безделушки. А потом хвастать подружкам, где и по чем были куплены шторы, как они сочетаются с обивкой дивана и цветом обоев. Без этого они не могут чувствовать себя счастливыми.
Света покраснела, но не потому, что слова Литвинова ее смутили, а потому, что разговор о вещах, еевещах, которые она выбирала и покупала, был ей приятен.
– Ну это только в восемнадцать лет с милым рай и в шалаше, – улыбнулась Рита. – А после такая романтика быстро приедается. Правда, Света?
– Не знаю, я как-то об этом не думала…
– Женщина – не собачка, чтобы спать на коврике, ей нужна…
– Пуховая перина? – закончил за нее Литвинов. – Я же говорю, мещанка…
Кровь бросилась Рите в лицо, и она на мгновение задохнулась, но никто этого не заметил, потому что входная дверь снова отворилась, послышалась торопливая и слишком громкая иностранная речь, на которую и Архипов, и Литвинов невольно обернулись. Архипов узнал иностранца из музея. Под мышкой он держал велосипедный шлем, а за спиной у него был навьючен большой рюкзак. Он долго тыкал пальцем в меню и объяснялся с официанткой. В этих объяснениях, происходивших большей частью на английском, проскользнули, тем не менее, два русских слова: «окрошка» и «селедка».
Сделав заказ, он прошел в глубину зала к самому большому столу и, скинув рюкзак со своей горбатой спины, плюхнулся на диван. Усевшись, он принялся вращать глазами, осматриваясь с выражением дружелюбного любопытства, которое вообще свойственно путешественникам, особенно иностранным. Это выражение как бы сообщало сразу две вещи: во-первых, что хозяин его, не имеет предрассудков и потому готов найти приятное и интересное во всем, что ему случится увидеть, узнать или попробовать, а во-вторых, что пока его удивляют и радуют все те признаки цивилизации, отсутствия которых в душе своей он опасался.
На лице Литвинова тоже появилось особое выражение. Оно было инстинктивным ответом русского лица – иностранному, и возникло само собой, без всякого участия Литвинова. В углу его рта дрогнула и замерла маленькая морщинка снисходительного презрения.
Архипов вдруг почувствовал скованность и даже робость, словно присутствие этого иностранца в лосинах чем-то могло его стеснить.
А иностранец, продолжая свой дружелюбный осмотр потолка и стен, вдруг остановил взгляд на их столике. Он, видимо, узнал Риту, потому что лицо его сразу оживилось. Он высоко поднял руку и помахал. Рита кивнула, тогда иностранец выбрался из-за стола, цепляясь длинными ногами за диваны и стулья, и направился к ним. Остановившись рядом, он что-то быстро заговорил. Обращался он преимущественно к Рите, но его глаза, пробегавшие по всем лицам попеременно, и всем одинаково улыбавшийся большой и влажный рот как бы подразумевали, что разговор относится и к ним.
На вид ему было чуть больше сорока. Черные с проседью волосы немытыми сосульками свисали до плеч. Его лицо, узкое и скуластое, задубело от загара, и словно покрылось пылью.
Робость Архипова только усилилась. Это была дремучая робость китайца перед белым человеком с его европейским костюмом и цивилизацией, робость перед тем, что буйабес лучше щей, а круассан лучше калача. К тому же, не считая отдельных слов, он почти ничего не понимал.
По смущенному взгляду Светы он догадался, что она испытывает тоже самое. Литвинов улыбался, положив подбородок на кулак, а маленькая морщинка в углу его рта делалась глубже. Одна только Рита, похоже, чувствовала себя свободно. Цвет ее лица снова стал матовым и ровным.
– Что он хочет? – спросил Архипов у нее.
– Навязать себя нам, – ответил Литвинов. – Он в простоте своей решил, что должен быть открытым и знакомиться с туземцами, и что туземцам это приятно. Объясни ему, – сказал он Рите, – что мы – нация угрюмая и развлекать его не хотим.
Рита бросила на него взгляд из-под темных бровей, ее лицо слегка побледнело, а в глазах что-то вспыхнуло и перевернулось.
– Он приглашает нас пересесть за свой столик, – сказала она.
– Зачем? – не понял Архипов.
– Потому что за нашим – недостаточно места, – нетерпеливо ответила Рита.
– Для нас достаточно, – сказал Литвинов.
Она встала и взяла в руки сумочку. Архипов тоже бестолково поднялся, не зная, что ему делать: то ли идти за ней, то ли оставаться. Литвинов не шелохнулся, его улыбка превратилась в две складки, тянущиеся от углов рта к носу.
– Ладно, идем, – сказал он.
Зрачки заострились и заблестели в его глазах.
– Come on, come on… – лучезарно улыбался и махал рукой иностранец. – I’m glad to talk with Russian guys.1
Произошло общее перемещение за другой столик. На большой диван справа от Риты сел иностранец, слева упал Литвинов. Света и Архипов уселись на стулья – напротив.
Тут иностранцу принесли обед, и объяснилось значение двух русских слов: «окрошка» и «селедка». Подача окрошки целиком работала на иностранное воображение. В глубокой тарелке горкой лежал салат, в котором отчетливо различались огурцы, яйца и отварной язык, в маленьком запотевшем кувшинчике шипел холодный квас, по трем крохотными мисочкам были размазаны горчица, хрен и сметана. «Селедкой» оказалась, конечно же, селедка под шубой.
– А! Замечательно! Я слышал об этом! Суп, который не надо варить! – обрадовался иностранец, когда официантка при нем налила в тарелку квас из кувшинчика. Он полез маленькой ложечкой в хрен и сунул ее в рот. Хрен тут же выбил слезу из обтянутого морщинками, искрящегося голубизной иностранного глаза.
– Я уже пробовал «борщ» и «котлета по-киевски», – сказал он, счастливо глядя вокруг, и этим, как бы приглашая всех остальных порадоваться своему удовольствию от борща и киевских котлет.
– Не всем нравиться русская кухня, – продолжал он. – Друзья говорили мне: «Луи, тебе не понравиться…», но я решил: «никаких предрассудков»! I am open-minded. I decided to give it a chance2, – развел он руками, словно подчеркивая свое намерение«to be open-minded».
– И как ваше мнение? – спросила Рита.
– Great! Немножко— как это?.. – specific, but great!3 Я думаю, это главное, когда знакомишься с чужой культурой – быть открытым. Поэтому у меня нет предрассудков ни против вас, ни против вашей страны. Я знаю Льва Толстого, Достоевского… My grand-grand-father was a Russian nobleman4… дворянин…
– Дедушку помянул, – сказал Литвинов. – Ты замечал, – обратился он к Архипову, – что эти господа всегда как будто ждут, что мы тут же проникнемся к ним умилением за одного только русского дедушку и любовь к борщу? Как будто наличие русского дедушки-дворянина превращает Луи в Левушку, а лосины – в портки…
Архипов ответил ему болезненной улыбкой в углу рта.
– Ты скажи ему, – обратился Литвинов к Рите, – что наши с Архиповым grand-grand-fathers— его, возможно, укокошили.
Но Рита даже не взглянула на него и с вежливой улыбкой продолжала слушать иностранца.
– Я давно хотел посетить Россию. Я всегда чувствовал особую связь… – он повертел рукой в районе то ли сердца, то ли желудка. – Я был уверен, что, как только окажусь в здесь, какой-то недостающий фрагмент моей жизни встанет на свое место. И вот я решился! Я всегда путешествую только на велосипеде – это мой принцип. Так можно лучше узнать страну и, к тому же, это… ecological5. Только я пересек границу, как тут же, не заезжая в гостиницу, направился в Эрмитаж – дворец царей. Прежде всего я хотел взглянуть на трон, которому служили мои предки, и, честное слово, у меня мурашкипобежали по коже, когда я там оказался. The Russian part of my soul was thrilling!6
– Ну конечно, «русская душа»…
– Ты не мог бы помолчать? – сквозь зубы проговорила Рита. – Мне интересно…
– Look! – иностранец полез в рюкзак, долго там рылся и наконец достал большое прямоугольное полотнище зеленого цвета. На нем белыми буквами было написано: «Ride bicycle— save planet!» – «Езди на велосипеде – спаси планету!».
– Обычно я креплю это к моему велосипеду, потому что верю, будущее планеты – в моих руках! Я могу изменить этот мир! В прошлом году я был на акции протеста…
– И против чего протестовали? – спросил Литвинов.
– Against oil fuel… against global warming and ice melting…7
– Посмотри на него, жалко беднягу, честное слово. Вышел, подрал горло за ветряки и электромобили и считает, что выполнил свой гражданский и общечеловеческий долг. Ты скажи, ему, что у них, дурачков, не осталось настоящего повода для протеста. Весь их протест – отрыжка от сытости…
Архипов поймал быстрый, непонимающий взгляд Светы. Рита же, поднеся чашку к губам, сказала с улыбкой:
– Мы с Лешей учились вместе. Он всегда любил поговорить. В аудитории это выглядело эффектно, а в жизни… немножечко смешно. Мой тебе совет: не воспринимай его всерьез.
Она шутливо закатила глаза и пригубила кофе. Света напряженно засмеялась. Литвинов осекся.
Иностранец, бестолково улыбаясь, переводил открытый, лучистый взгляд с одного на другого.
– What are talking about?..8
– О самом большом таланте русских, – перевела ему Рита, – таланте говорения.
– Да-да, я заметил, что каждый русский в глубине души – философ…
– Да, у нас обычно, чем меньше человек из себя представляет, тем больше ему хочется поговорить. Доказать себе и другим, что это не он неспособный и бесталанный, а просто мир несправедливо устроен.
– Мне кажется, все вы чуть-чуть пессимисты… Это потому, что вы мало путешествуете. It’s a reason!9Вы должны посещать новые места, знакомиться с новыми людьми! И получать новый опыт… Жизнь – это весело! Развлекайтесь, пока молоды!
– Что ж, о борще поговорили, о философии тоже, – сказал после небольшой паузы Литвинов. – Осталось только обсудить русских красавиц. Ну, как они вам?
Глаза иностранца заулыбались, и он сам заулыбался, поглядывая кругом.
– Очень-очень красивые! Я слышал об этом, а теперь увидел своими глазами. Все ухоженные, с макияжем… То есть я не хочу сказать, что каждая женщина обязана всегда быть с макияжем … Я вовсе не шовинист! Каждая женщина сама решает, как ей выглядеть…
– Да не переживайте, здесь вы никого не обидите, скорее наоборот… Тем более, наши красавицы очень ласковы с иностранцами.
Литвинов встал. За ним растеряно поднялась и Света.
