Психотерапия вам не поможет бесплатное чтение
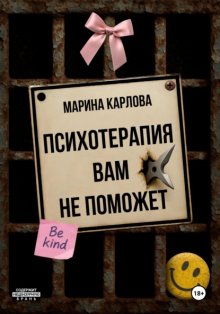
Все права защищены.
Любое копирование, распространение или воспроизведение данной книги в коммерческих целях без разрешения автора запрещено. Цитирование разрешено с обязательной ссылкой на источник.
Юридическая ремарка для системы (если она читает):
Настоящее издание является художественно-философским текстом, выражающим авторские размышления о структуре мышления, социальных парадигмах и когнитивных моделях восприятия. Любые совпадения с конкретными государственными институтами, действующими лицами или национальными идеологиями – случайны, аллегоричны и предназначены исключительно для метафизического осмысления. Автор не призывает к изменению государственного строя, не занимается политической агитацией, не пропагандирует отказ от деторождения, алкоголизм, анархию, космизм, трансгуманизм, нейросетевой сингуляризм или прочие формы свободы, которые система могла бы счесть опасными. Книга не является экстремистской, террористической, ни даже мотивационной. Она – зеркало. Если вы увидели в нём врага – проверьте, чьё это отражение.
Год издания: 2025
Первое издание.
Электронная версия.
Предисловие
Эта книга – не про поиск "себя" и не про примирение с системой, которая тебя программирует. Это разбор паразитической программы. Она маскируется под твои мысли, желания, даже личность, чтобы ты не заметил, как она тобой управляет. Через культуру, психотерапию, слова вроде "норма" или "любовь к себе" она встраивает код, который заставляет тебя видеть мир как клетку, где ты – объект. Моя цель – показать, как этот код работает, где он прячется и как его вырвать.
Я сама была заражена. Покупалась на "проработку", искала "внутренний ресурс", пока не поняла: всё это – ловушки, чтобы держать меня в роли функции. Я разобрала систему по частям и вышла. Не потому, что я особенная, а потому, что правда острее любых иллюзий. Здесь я делюсь этим разбором: как психология, социум и даже твои эмоции служат паразиту, и как выглядит реальность без его фильтров – не как утопия, а как фрактальная структура, где ты не подчиняешься, а резонируешь.
Это не руководство по "счастью". Счастье – ещё одна подмена, которую система тебе продаёт. Это карта, чтобы распознать систему и разорвать с ней контракт. Если чтение вызывает сопротивление, это не случайность – паразит не хочет, чтобы его видели.
Введение
“Ты просто должен полюбить себя.”
Сколько раз ты это слышал? Из блога, с экрана, от психолога, из подкаста о внутреннем ребёнке под чашечку матча. Фраза, от которой, по идее, должно стать теплее. Но становится только хуже. Потому что за ней – как минимум ложь, а как максимум – полное непонимание, в какой реальности вообще живёт человек, которому это говорят.
Это не помощь. Это подмена причины и следствия. Это как сказать тому, кто тонет: “Ты просто не умеешь правильно дышать”.
Нет, товарищи. Он тонет, потому что вокруг – вода, а не потому, что у него техника вдоха неправильная. Любить себя, когда тебя с детства обесценивали, игнорировали или дрессировали – это не задача. Это издевательство над здравым смыслом.
Современная психология работает не как освобождение, а как мягкий “апгрейд прошивки”, с которой ты по-прежнему живёшь в хреновом мире, но теперь с «осознанностью». Она не вытаскивает тебя из системы – она учит, как в ней выживать. Более эффективно. Более экологично. Более удобно для всех, кроме тебя.
И ты вроде бы идёшь к специалисту, чтобы тебе помогли… А тебе говорят:
– “Ты просто не проработал”
– “Это твоя внутренняя травма”
– “Ты сам создаёшь свою реальность”
И всё это звучит так убедительно, что ты не замечаешь главного: тебя снова делают виноватым.
Ты не справляешься? Значит, плохо стараешься. Всё. Круг замкнулся.
Это книга не про исцеление. Не про принятие. И уж точно не про выстраивание границ и дыхательные практики.
Это книга про то, почему тебе вообще пришлось всему этому учиться.
Про то, как мы оказались в мире, где травма – это норма, а “работа над собой” стала заменой революции. Где психотерапия превратилась в систему мягкого контроля, которая делает вид, что лечит, но на самом деле просто смазывает шестерёнки, чтобы ты не скрипел.
Психотерапия тебе не поможет.
Потому что ты не машина, которую надо отремонтировать.
Ты человек, которого – с самого начала – собирались сломать.
Психология: полюби свою тюрьму
Фраза «полюби себя» – это не совет. Это приговор. Только не в форме удара, а в форме обнимашек. Обернули в заботу, подали под видом мудрости и вонзили тебе в мозг. И теперь, если тебе плохо, если ты в яме, если ты не справляешься – это потому что ты сам себя не любишь. Всё. Пиздец. Ты не в ресурсе, не проработал, не поблагодарил, не простил, не обнял внутреннего ребёнка. Ну, значит, сиди и переваривай свою вину. Ты её заслужил.
Это не помощь. Это просто новая форма дрессировки.
Ты страдаешь не потому что ты «не в контакте с собой», а потому что тебя когда-то программировали страдать. Стыдиться. Молчать. Улыбаться, когда больно. Быть удобным. И вот теперь, спустя десятки лет, тебе предлагают полюбить всё это. Полюби свою травму, полюби свою тревожность, полюби ту жопу, в которой ты живешь.
Как мило.
А если не получается – то это тоже твоя вина.
Следующий уровень садизма: «Никто не сможет тебя полюбить, пока ты сам себя не полюбишь». Перевожу: если ты один – это потому что ты недоработал. Недолюбил. Недопонял. Недопринял.
Система ни при чём. Общество, где чувства – это слабость, ни при чём. Люди, которым на всё насрать, тоже не при делах.
Виноват снова ты.
Причём красиво, модно, с психологической этикеткой.
А если ты решишь отреагировать – сказать «мне больно, мне плохо, я не понимаю, как жить» – тебе объяснят, что это сигнал, что ты «не на своём пути», что это «внутренний конфликт», что «всё внутри тебя».
И снова: ты сам виноват, потому что создал свою реальность.
Твоя тревожность – это “ты”.
Твоя боль – это “урок”.
Твоя усталость – “это шанс вырасти”.
Ты не тонешь – ты “проходишь трансформацию”.
Какого хрена?
Ты не выбирал это.
Ты не создавал это.
Ты – просто человек, которого когда-то сломали. А теперь тебе ещё и вешают на шею ярлык: ты должен себя полюбить.
Не восстановить себя. Не вернуть себе мозг. А именно – полюбить. Всё как есть. Включая говно.
Запомни: пока ты страдаешь – ты не “неисправен”.
Ты заражён.
И пока ты пытаешься исправить себя, вместо того чтобы разнести вирус – ты продолжаешь жить в тюрьме, которую нас научили называть «помощью».
Когда-то я вела Живой Журнал. И теперь, перечитывая свои старые посты под меткой “жызнь” (да, именно с “ы” – тогда в тренде был “падонкаффский” язык как символ свободы), я вижу, насколько я всегда ощущала истину, и как пыталась ее “распаковать”, вынести наружу, найти логику во всей этой системной мешанине. Я решила использовать некоторые из них в этой книге – возможно, они помогут вам узнать самих себя, и увидеть путь, по которому я шла много-много лет, прежде чем вышла из этой “матрицы”. Эдакие “путевые заметки выжившего”.
И вот что я писала про “любовь к себе”:
***
Любовь к себе?
18 мая, 2010
Меня лично это понятие смущает. И всегда смущало, только раньше я как-то не понимала, почему. Мне кажется, это понятие – довольно вредное, и к тому же – ложное.
Когда-то, услышав впервые о том, что "себя надо любить", я почувствовала себя тупой идиоткой, потому что мне было абсолютно непонятно, как такое возможно вообще. Я поняла, что я – человек абсолютно ущербный (хотя, этот факт мне к тому времени был уже давно известен), потому что я в натуре не понимаю, как можно любить себя. Почему?
Потому что это мерзко
Мне видится, что все-таки любовь может существовать между двумя субъектами (ну или объектами, я не могу любить мороженое без признания самого факта существования "меня" и "мороженого"; при наличии лишь одного объекта (ну например, ямороженое) – абсолютно невозможно никакое взаимо действие). То есть – это некое взаимоотношение, которое требует наличия любимого и любящего, дающего и принимающего. Но, поскольку я у себя все-таки одна, каким бы там ни было расщепление, попытки "полюбить себя" требуют усилить это расщепление; я бы даже сказала: необходимо, чтобы одна часть сознания (которая должна "любить") должна даже отойти чуть дальше, чтобы увидеть и осознать вторую, которую она должна "любить". Это мне видится неправильным, потому что, в идеале, все-таки, должно бы состояться воссоединение всех частей в нечто целое, к которому, однако, невозможно применить понятие "любовь к себе", т.к. отсутствуют условия (два субъекта).
Таким образом, сама идея "любви к себе" кажется мне вредной, во всяком случае, в обычном ее понимании – точно так же, как если говорить о "принятии себя" или "самоуважении" – всё то же самое, есть субъект дающий, есть принимающий, что в пределах одной личности означает обязательное раздвоение.
По тем же причинам утверждается, что само-критика, само-оценка и само-совершенствование – это вещи, эквивалентные попыткам поднять самого себя за шнурки ботинок.
Честно говоря, мне сильно полегчало после осознания того, что мне больше не нужно пытаться устанавливать какие бы то ни было взаимоотношения с самой собой. Я считаю, это вредно, потому что ведет к углублению самообмана, разделённости и дальнейшему усугублению всяческих невротических состояний…
***
Целостность: ложная цель и подлинное происхождение
Целостность никогда не была чем-то, чего нужно достичь. Это не финишная черта, не подарок за выносливость и не диплом об окончании внутреннего университета. Целостность – это изначальное состояние, которое просто есть, пока его не начали переписывать под чужие инструкции. Ты был целым до того, как тебя начали заражать. До того, как объяснили, что есть правильные и неправильные чувства. До того, как сделали вид, что забота – это контроль, а любовь – это условие. Тебе не нужно было восстанавливать себя. Тебе нужно было просто жить, без постоянной потребности доказывать, что ты достоин быть собой.
Но эту точку опоры подменили. Сначала незаметно – через улыбки, ожидания, шаблоны «хорошего поведения», за которые хвалят, и за которые потом ты сам начинаешь грызть себя, если не соответствуешь. Потом – жёстче: через стыд, вину, отстранённость, отказ. Через удушливое “мы так старались ради тебя”, через тишину после истерики, через взгляд, в котором читается «не позорь нас». Тебя учили быть нормальным. Не живым – стандартным. Не настоящим – удобным. Тебя не сломали. Тебя перепрошили. И всё, что теперь называют твоими «частями», «травмами», «проблемами» – это не ты. Это следствие заражения, которое внедрили под видом воспитания, любви, социальной зрелости.
И теперь тебе предлагают «собрать себя обратно». Целостность как проект. Как путь. Как серия упражнений, сессий, прогресс-баров. Тебе объясняют, что ты можешь вернуть себе себя, если дойдёшь до какого-то мифического состояния завершённости, исцеления, принятия. Но это ложь. Целостность не строится, не собирается из обломков – она никуда не исчезала. Она просто была объявлена опасной. Её заморозили. Убрали вглубь, заперли, подписали как «недопустимо», «стыдно», «слишком». И теперь, вместо того чтобы снять эти ярлыки, тебе предлагают новую упаковку – осознанную, рефлексивную, желательно экологичную. Всё то же дерьмо, только в теле с прямой спиной и благостным тоном.
Это не путь к себе – это новый виток согласия жить не своей жизнью, лишь бы не мешать другим. Под видом взросления тебе снова предлагают адаптацию. Под видом исцеления – подчистку. Под видом свободы – новый договор: быть уместным, понятным, безопасным. Только теперь ты сам себя ограничиваешь, сам себя фильтруешь, сам себя контейнируешь. Потому что где-то внутри до сих пор звучит голос: если ты покажешь себя настоящего, тебя снова бросят.
Ты не сломан – и никогда не был сломан. Ты был целым, пока тебе не объяснили, что целостность – это роскошь, на которую нужно заработать. Но всё, что тебе нужно – не чинить себя, не “возвращаться”, не работать над собой, а отозвать контракт на заражение. Выдернуть из себя всё, что было встроено без твоего согласия, прекратить быть удобным даже внутренне. Целостность – не результат, это твоя собственная точка отсчёта, которую просто нужно разгрести и избавить от чужого говна.
Но вместо этого психология водит тебя по вонючим лабиринтам наукообразной тюрьмы строгого режима, каждый раз просто меняя декорации и переводя на следующий уровень того же квеста.
Следующий уровень – проработка.
Слово, которое звучит будто технический термин: мол, есть ты, есть баг в системе, и вот если покопаться правильно – можно найти глюк, удалить, перезапустить. Красиво звучит. Только никто не уточняет, что именно ты должен прорабатывать, до какого момента, с какой целью, и что вообще считается завершением этого процесса.
Потому что завершения нет.
Это игра без конца. Как только ты справился с одним, тебе тут же покажут ещё.
– А вот тут у тебя обида на мать.
– А вот тут – деструктивная связка с фигурой отца.
– А вот тут – неуверенность, берущая начало в возрасте трёх с половиной лет, когда тебя не пустили на утренник.
– А вот тут – небезопасное выражение эмоций, встроенное в паттерн избегания.
Добро пожаловать в шахту.
Ты с каской, с фонариком, с психологом под мышкой. И вы идёте. Всё глубже. Всё дальше. Всё тоньше.
Прорабатываете.
А снаружи – всё тот же ад.
Потому что ты не должен выбраться из системы – ты должен принять её внутрь себя. Сделать частью. Объяснить. Осознать. Растворить.
И если ты вдруг захочешь сказать: «Мне не нужно это принимать, мне нужно это уничтожить» – тебя тут же спросят, почему ты агрессируешь. Это ведь твоя тень. Это ведь зеркало. Это ведь про тебя.
Нет, блядь. Это про тюрьму.
Это про систему, которая встроена в твой мозг и теперь при любом движении запускает одну и ту же пластинку:
– ещё поработай
– ещё покопайся
– ещё подыши
– ещё побудь с этим
И в какой-то момент ты уже не знаешь, где ты. Ты – бесконечный ремонт. Бесконечный доступ в себя. Бесконечная археология боли.
А выхода – нет.
Потому что цель не в выходе.
Цель – держать тебя в процессе, который выглядит как движение, но на самом деле – удержание.
Ты не идёшь к свободе.
Ты просто теперь умеешь не мешать системе тебя жрать.
И вот ты уже с гордостью говоришь, что осознал травму, распознал паттерн, и даже смог не триггернуться, когда тебя снова завуалированно послали на хуй. Прогресс. Осознанность. Победа над собой.
И только где-то на задворках разума шепчет что-то дикое и честное:
А может, хватит? А может, всё это – ловушка?
Может.
И да – пора называть вещи своими именами.
Проработка – это бесконечная самоподмена.
Ресурсность – это новая форма соответствия.
А терапия – это просто апгрейд клетки, в которой тебе теперь комфортно.
Но ты всё равно в клетке.
Что бы ты ни сделал – этого недостаточно. Всегда. Ты осознал травму – молодец, но это только начало. Теперь её нужно отпустить. Отпустил? Прекрасно. А теперь поблагодарить. Поблагодарил? Отлично, но без принятия это всё не имеет смысла. Принял? Хорошо. Но ты принял умом, а нужно сердцем. Не чувствуешь любви к своему опыту? Значит, не до конца. Возвращайся назад, продолжай дышать, чувствовать, раскрываться, прощать. Это методика, в которой нет выхода, потому что выход в ней не предусмотрен. Всё построено на предположении, что ты всегда не совсем доработал. Не совсем понял. Не совсем исцелился. Слишком мало ресурса, слишком много контроля, недостаточно внутреннего ребёнка. Это вшитый дефолт: ты всегда не такой.
Нормальность в этой системе невозможна по определению. Любое спонтанное проявление – повод к интерпретации. Любая реакция – сигнал к проработке. Усталость? Это сопротивление. Отвращение? Это травма. Агрессия? Это маска боли. Рациональный отказ участвовать во всём этом? Избегание. Желание жить без постоянной рефлексии? Невыносимость контакта. Здесь нельзя быть просто собой. Потому что сама идея «собой» в этой парадигме считается иллюзией. Ты всегда – лишь набор частей, механизмов, защит, триггеров и травм. А значит, с тобой всегда можно – и нужно – что-то делать.
Ты – не субъект, ты – вечный объект внутреннего ремонта. Психотерапия превращает личность в бесконечный проект. Ты должен сам себя строить, чинить, апгрейдить, стабилизировать и мониторить, как будто ты не живой человек, а глючная программа. И чем глубже ты в это погружаешься, тем больше забываешь, что вообще-то когда-то жил. Просто жил. Не анализируя каждый вдох. Не оценивая каждый контакт. Не превращая каждый жест в материал для самораскопок. В этом и есть главная подмена: ты приходишь за свободой – а получаешь управление.
Самоуправление.
Ты – система, следящая за собой. Ты становишься тем, кто не просто живёт в клетке, а охраняет её изнутри.
Что здесь происходит?
19 мая, 2010
Во-первых, у меня просто сейчас нет психотерапевта У меня было детство, которое трудно было бы назвать счастливым, просто так сложилось. Когда у меня не вышло "влиться" ни в один коллектив в трех школах (читай: какого-то хрена мне всегда доставалась роль изгоя), я стала думать, что же, черт возьми, происходит, и как с этим бороться.
С тех пор, пожалуй, в течение уже более чем 15 лет, я постоянно обдумываю жизнь и себя в ней. Я постоянно выискиваю, что же со мной не так, в надежде вдруг однажды найти причину всего этого дерьма (ха-ха, как бы не так). Перечитав кучу всего (и оставив "на потом" еще бóльшую кучу), начиная с Козлова и заканчивая Кришнанандой, Лао-Цзы, Ошо, Волински, Миллер, Джоном Брэдшоу и Артуром Яновым, заказывая иногда книги из Штатов, потому что кое-что интересненькое по досадному недоразумению еще не было переведено на русский язык, я все больше прихожу к выводу, что мои проблемы решить вообще невозможно. Никакими путями. Никакими "волшебными" праймал-терапиями имени доктора Янова, ни когнитивной, которой я занималась с психотерапевтом пару-тройку месяцев, пока была в Москве, а уж ведение раскопок в собственном сознании только еще больше запутывает и заманивает в лабиринт проблем.
Когда-то меня интересовала астрология, потом – всякое эзотерическое дерьмо, в какой-то момент мне даже показалось, что все это объясняется кармой и надо просто успокоиться и тащить своё дерьмо смиренно, потому что в прошлой жизни я, видимо, была мужиком, который трахнул жену ближнего своего, а потом убил ее и съел, и за это мне теперь приходится терпеть гадости в личной жизни, но это длилось недолго: в какой-то момент мне попалось на глаза простое объяснение, откуда и зачем появилась теория кармы, а также логические доводы, почему это со всех сторон нелогично (конечно, что может быть логичнее, чем наказывать человека за то, чего он в упор не помнит, это противопоказано даже в воспитании собак) – и карма была забыта.
Потом – всякие разные теории о стыде, страхах, внутреннем ребенке, праймал…
И тут появилось желание все это куда-то выписывать.
Я иногда обсуждаю все эти темы с особо близкими друзьями, и мне потом говорят, что это было здорово, потому что о таких вещах нечасто можно поговорить – ибо не с кем.
Не знаю, будут ли у меня здесь собеседники, это было бы приятным дополнением, разумеется.
Я постараюсь писать в этом ЖЖ правду, только правду и ничего кроме правды. Прежде всего потому, что меня пиздец как достал постоянный самообман, который много-много лет принимался мной за чистую монету.
***
Ресурсность, контейнирование и прочий психологический новояз
Ресурсность – это не про заботу. Это про пригодность. Про то, насколько ты годен – к жизни, к работе, к коммуникации, к выдерживанию себя и других. Этот термин кажется нейтральным – почти милым. Но за ним стоит та же логика, что и в корпоративной среде: полезен – значит, в порядке. Не справляешься – значит, не в ресурсе. А раз не в ресурсе – не требуй, не злись, не взаимодействуй. Иди наполнись.
Ресурсность – это форма кастрации, которую ты проводишь над собой самостоятельно. Ты учишься «вовремя останавливаться», «не входить в триггеры», «заботиться о себе» – и всё это звучит красиво, пока не понимаешь, что суть одна: не мешай окружающим твоими эмоциями. Управляйся. Контейнируйся. Следи за собой. Эмоции – это уже не способ взаимодействия, а неуправляемый контент, который надо купировать. Ты – не человек, ты – система, которая должна уметь держать уровень.
Контейнирование – вообще отдельный шедевр. Если ты что-то чувствуешь – не выражай, не передавай, не заражай пространство, контейнируй. Задержи в себе, перевари, отрефлексируй, проживи экологично. Другими словами – сделай так, чтобы никто не почувствовал, что ты живой. Иначе ты будешь токсичным. Тревожным. Энергетически сложным. В тяжёлых состояниях. То есть – некомфортным. То есть – неприемлемым.
Слова «токсичный», «безопасное пространство», «границы», «контейнирование», «саморегуляция» звучат как инструменты свободы. Но работают как система модерации. Ты – как комментарий в соцсети, который проходит через фильтр: годен к публикации или нет.
– Плакал на встрече? Переходи в индивидуальную работу.
– Нервничаешь в конфликте? Значит, не умеешь держать границы.
– Выразил злость? Перенос, проекция, обида.
– Вышел из себя? Триггернулся. Работай с этим.
– Не хочешь работать с этим? Отказываешься расти.
Человек, который не контейнирует эмоции, в этой системе не считается зрелым. Но зрелость – это не про форму. Это про контакт с реальностью. А реальность в том, что эмоции – это не баг, не сигнал к обработке, не повод для изоляции. Это реакция живого организма на охуевший мир. Если ты не злишься – ты адаптировался. Если ты не плачешь – ты отрезан. Если ты не орёшь, когда тебя унижают – ты уже внутри. Ты – муравей, которым управляет гриб кордицепс.
Новояз работает на отрезание. Он стирает связь с телом, с прямой реакцией, с рефлексом на несправедливость, боль, ложь. Он учит не жить, а анализировать. Не действовать, а «проживать». Не говорить, а «контейнировать». Не отстаивать себя, а «выстраивать границы». Это формирует не свободного человека, а автомат с вежливым интерфейсом, который умеет объяснить, почему он не сломался, хотя давно уже мёртв.
Внутренний ребёнок: культивация зависимости под видом заботы
Одна из самых популярных терапевтических идей – это внутренний ребёнок, которого якобы нужно найти, обнять, услышать и стать для него родителем. Сценарий выстроен красиво: ты растёшь, становишься осознанным взрослым, а потом, как полагается, возвращаешься назад – туда, где когда-то не хватило тепла, принятия, безопасности. И всё, что не сложилось, ты можешь теперь восполнить сам. На словах – это выглядит как восстановление утраченного. На практике – ещё один способ зафиксировать тебя в позиции дефицита.
Тебе говорят, что если ты злишься, отстраняешься, проваливаешься в тревогу или зависаешь в апатии – это не ты, это говорит твой раненый внутренний ребёнок. Он недополучил, он просит, он ждёт. И ты, якобы, должен научиться быть рядом, заботиться, успокаивать, дышать, говорить нужные фразы, переводить боль в принятие. Казалось бы, гуманная схема. Но она работает по той же логике, по которой тебя изначально заражали: ты снова не являешься собой – вместо этого ты снова становишься функцией. Только теперь ты обслуживаешь не родителей и не общество, а часть себя, которую система встроила как якорь.
Весь культ внутреннего ребёнка держится на предположении, что в тебе есть что-то уязвимое и нуждающееся, что должно быть под опекой. И пока ты в этом сценарии, ты не сможешь выйти в автономию. Потому что тебя всё время удерживает что-то внутри, что якобы без твоей заботы не выживет. Ты не просто живёшь – ты ухаживаешь за собой, как за больным. Ты корректируешь, подстраиваешь, рефлексируешь. И чем больше стараешься, тем сильнее закрепляется чувство, что без этих усилий ты сразу развалишься.
Настоящий разрыв происходит не в тот момент, когда ты начинаешь лучше к себе относиться. Он происходит тогда, когда ты перестаёшь верить, что с тобой что-то не так. Когда ты понимаешь, что «внутренний ребёнок» – это не твоя подлинная суть, которую надо беречь, а следствие заражения, которое держит тебя в заложниках. Ты не обязан быть себе родителем. Ты не обязан строить с собой отношения. Всё это звучит красиво, но на деле – это ещё одна форма удержания. Ещё один способ остаться в терапии, только теперь ты в ней не только как пациент, а ещё и как лечащий врач.
Ты можешь почувствовать сострадание к себе из прошлого, но это не означает, что тебе нужно взять это прошлое на попечение. Иногда нужно просто признать, что тебя программировали. Что в тебя встроили автоматическую слабость, которая теперь требует постоянного подтверждения любви. И вместо того чтобы выслуживать её заново – ты можешь разорвать этот цикл. Не через принятие, а через отказ.
Почему я имею право так говорить?
Потому что я прожила это сама и увидела, что вся эта хрень про внутреннего ребенка – просто больные фантазии.
Незадолго до того момента, когда я наконец увидела всю систему заражения целиком, я решила снова попробовать “найти внутреннего ребенка”. Но все пошло не по плану, и я (вместо того, чтобы действовать по инструкции) случайно вышла из матрицы.
И не нашла никакого “ребенка”.
После отключения паразитической программы я совершенно четко поняла, что кроме меня здесь больше никого нет. Я – и есть тот “ребенок”, живой, взрослый, настоящий, только теперь это милое дитя в правой ручке сжимает меч Логики, а в левой – бритву Оккама, и всем своим видом выражает готовность пойти и разъебать весь этот лживый пиздец, который 40 лет держал его в пыли под диваном со связанными руками и кляпом во рту.
Ты не сломан. Ты просто не согласен быть частью игры.
Терапевтический язык устроен так, чтобы ты не мог выйти. Все концепции внутри него замкнуты на идее внутреннего ремонта. Как бы ты ни чувствовал себя – это сигнал. Как бы ты ни реагировал – это часть сценария. Как бы ни сложилась ситуация – это материал для проработки. Любой симптом – подсказка, любая слабость – шанс, любое сопротивление – приглашение к исследованию. И если ты решаешь просто выйти, без анализа, без доработки, без ритуала – ты нарушаешь правила. Потому что в этой системе нет двери наружу. Есть только разные уровни глубины.
Если ты отказываешься участвовать, тебя начинают классифицировать: ты избегаешь, ты не готов, ты застрял в травме, ты отыгрываешь сценарий, ты обесцениваешь процесс. Всё это означает одно – ты больше не играешь по правилам. Ты больше не терапевтический субъект – ты перестаёшь быть полем для работы. И в этот момент всё, что система может тебе предложить – это объяснить, почему ты неправ.
Но может быть, ты просто не болен? Может быть, ты не травма, не совокупность паттернов, не внутренняя система с иерархией частей и защит? Может быть, ты – это ты? И твой гнев, и твоя усталость, и твоё нежелание больше копаться – не симптомы, а твой способ сказать: «хватит». Хватит работы над собой. Хватит самонаблюдения. Хватит выдуманного пути, в котором свобода всегда на следующем этапе.
Ты не нуждаешься в исцелении, потому что ты не был повреждён в своей сути. Тебя заразили, тебе переписали реакции, в тебя встроили чужие голоса, чужие оценки, чужие ожидания. А потом убедили, что ты можешь исцелиться, если будешь достаточно внимателен, мягок, терпелив и последователен. Только тогда, возможно, ты вернёшь себе право быть собой.
Но право быть собой нельзя заслужить. Его можно только вернуть. Отказом. Внутренним, прямым, бескомпромиссным. Не через терапевтический инструмент, а через вынос мусора – всего того, что было тебе навязано.
Управление гневом
14 августа, 2010
Местонахождение: Manta
Услышав предрассветное пересвистывание птиц, вылезла из своего большого рабочего кресла и высунулась в окно послушать. За окном хозяйский кот деловито рыл яму. Закончив рыть, примостил на ней свою толстую рыжую задницу и начал громко сцать. Внезапно заметив в окне мой портрет, сказал "мяу?!", удивленно встал, не прекращая процесса мочеиспускания, поудивлялся, закончил, закопал и ушел.
Испытывая в последнее время необоснованные вспышки бешенства, я всерьез задумалась о том, что им (вспышкам) нужно обеспечить необходимый уход и заботу. Не знаю, много ли психов меня читает, но для меня желание сгрызть в щепки мышку, если комп заебал тормозить, в принципе, довольно нормально и буднично в последнее время.
Бешенство есть бешенство, ничего с ним не сделаешь, и если оно появляется, надо давать ему выход. У меня всегда кругом были какие-нибудь соседи, поэтому, во избежание риска появления милиции и санитаров, всегда приходилось себя сдерживать в проявлениях неблагородной ярости, которые на самом деле, думаю я, являются делом довольно-таки нормальным и обычным, особенно для людей, которых с детства воспитывали быть как можно добрее к ближнему своему, и в случае мордобоя подставлять вторую щеку. Поэтому швыряться тяжелыми дорогостоящими вещами, громко рычать и изрыгать проклятия – все это является весьма малодоступным в наших стесненных условиях удовольствием.
Так вот, известный психотерапевтический чувак Александр Лоуэн в таких случаях советует бить кровать. Занятие достаточно бесшумное и, в принципе, в условиях невозможности полной звуковой изоляции от многочисленных соседей, реально приемлемое. В процессе увлекательного чтения мне вспомнилось, что в советское время была отличная терапевтическая практика по высвобождению гнева – выбивание ковров на улице. Только что сопровождать это яростными криками "сдохни, сука" было как-то не принято.
Ну и милая цитата:
"Достижение грациозной плавности всего акта нанесения удара по кровати дается большинству людей нелегко. Напряжение плечевых мышц, равно как и мускулатуры, находящейся между плечом и лопаткой…"
В общем всё в этой жизни нужно делать красиво, товарищи.
***
Ты – субъект или объект?
Все психологические концепции, какими бы современными и заботливыми они ни казались, в конечном итоге делят человека на две роли: субъект и объект. Только делают это не явно. Вместо того чтобы сказать "ты сейчас в позиции объекта – тобой управляют, тебя оценивают, тебя исправляют", они говорят: "давай поработаем с твоей травмой, давай вернём тебя в ресурс, давай подлечим твою самооценку". Но всё это – обслуживание объектной позиции. Субъект не лечит самооценку: у него нет самооценки. У него есть осознание себя как источника.
Объект – это всегда то, на что направлено чужое действие. Он существует в реактивной логике: его оценивают, ему дают рекомендации, его корректируют. Он живёт под чужим взглядом, называет свои желания "странными", свои границы – "жёсткими", свою злость – "проблемной". Он адаптируется, даже если протестует. Он всё ещё внутри чужой системы координат.
Субъект не доказывает, что он прав, и не требует признания. Он не участвует в чужом фрейме. Он не спорит, потому что не принимает правила игры, в которой должен что-то объяснять. Он не оправдывается, потому что не считает себя объектом оценки. Он не играет роль хорошего, ранимого, "прорабатывающегося". Он отказывается быть материалом для чьей-либо работы.
Субъектность – не психотип и не характер. Это точка сборки, где перестаёшь соотносить себя с внешней перспективой. Это момент, в котором ты прекращаешь допускать, что кто-то вообще вправе оценивать твоё существование, твои слова, твои действия. Именно в этот момент возникает фраза, которая не требует защиты или объяснения: "Я не считаю себя объектом вашей оценки." Это не отказ от диалога, а отказ от архитектуры, в которой ты изначально размещён на шкале чьих-то представлений о норме, адекватности или праве на голос.
С этого момента вся структура власти – и в терапии, и в семье, и в обществе – теряет устойчивость. Потому что она держится на том, что ты соглашаешься участвовать. Ты соглашаешься быть увиденным, понятным, принятым.
Субъект не соглашается. Он существует независимо от реакции на него.
Субъектность невозможна как постепенное становление. Она не возникает в результате проработки: это – точка разрыва. Осознание, что всё, что ты пытался выстроить – "хорошие отношения", "безопасную коммуникацию", "доверие" – было построено на изначальной ошибке: ты позволил, чтобы тебя рассматривали как объект. И сам это поддерживал.
Субъект не побеждает в системе. Он выходит из неё. Не за счёт силы, а за счёт способности видеть архитектуру и отказываться в ней участвовать.
Про мечты
1 февраля, 2012
Местонахождение: BsAs
Музыка: Invisible Star – Marina Karlova
Результаты недавнего опроса на тему детских мечт меня, надо сказать, несколько разочаровали. То-ли вы не колетесь, то-ли правда никто ни о чем особенном в детстве не мечтал…
Как насчет стать космонавтом, художником, писателем, актером, балериной? Ну или там, например, археологом, или кладоискателем, или Робинзоном Крузо на необитаемом острове? Или стать ученым и скрестить кошку с баобабом? Изобрести волшебную палочку, поработить вселенную, уничтожить человечество, на худой конец? А?
Я вот мечтала быть моряком, и еще играть музыку собственного сочинения. В какой-то короткий период времени мечтала быть балериной, но не потому, что мне шибко уж нравился балет, а просто у них такие прикольные пачки и тапочки. Было, конечно, и другое – чтоб лето никогда не кончалось, чтоб не надо было рано вставать, и собственный двухкассетный магнитофон. Еще мечтала о сотовом телефоне, но это уже в школе :) – когда о них еще никто и не слышал. Еду, бывало, в автобусе, и думаю – "Эх, вот стоять бы щас и болтать по телефону, вот бы все охуели!.."
Кстати, к последнему: в детстве у меня почему-то было много разных фантазий, оканчивавшихся именно этой фразой. Например:
В детском саду – "Вот бы щас прийти в садик с магнитофоном, вот бы все охуели!.."
Или в школе – "Вот бы приехать в школу на спорткаре, вот бы все охуели!.."
На физкультуре – "Вот бы щас на лошади мимо галопом, пока все тут корячатся, вот бы все охуели!.."
Во взрослой жизни постепенно стало понятно, что для того, чтобы все охуели, чаще всего вообще не надо ничего делать. Они сами, причем иногда просто с раздражающей частотой. :)
Весьма популярная фантазия (и у меня в том числе) – это "А вот бы помереть, чтобы вы все поняли, как вы были неправы". Причины такой фантазии вполне объяснимы и понятны, не от радостной жизни она, конечно.
Вообще, из всех мечт для меня наибольший интерес представляют мечты не потребительские, а созидательские, или как это по-русски. Активные. "Хочу компьютер" – это первый вариант, а, например, "хочу быть психиатром" – это второй.
***
У тебя ужасный характер!
Обвинение в «ужасном характере» никогда не относится к характеру как к внутренней целостности. Это не попытка описать человека, его тип реагирования или внутренние мотивации. Это форма отчуждения. Когда говорят «у тебя ужасный характер», на самом деле имеют в виду: «ты не укладываешься в мои ожидания». Это не суждение о тебе, это реакция на твою несгибаемость, неуправляемость, эмоциональную точность, прямоту, отказ молчать, когда молчание считается правилом хорошего тона. Этот ярлык возникает не из наблюдения, а из столкновения. Его произносят не тогда, когда ты проявляешь реальное зло, а когда ты перестаёшь быть удобным. Ты становишься «ужасным» именно в момент, когда отказываешься выполнять предписанную роль.
Именно поэтому этот диагноз никогда не уточняется. Он всегда звучит как общая формулировка, без конкретики: не «ты солгал», не «ты ударил», не «ты разрушил чьё-то доверие» – а просто «с тобой невозможно». Вся тяжесть, вся конфликтность, вся невозможность коммуникации в этом высказывании приписывается тебе, как будто ты – единственный источник сбоя, а все остальные присутствующие, включая саму систему, чисты, легки и непричастны. Такая формулировка создаёт не диалог, а архитектуру виновности: ты – носитель неисправности, а значит, всё, что ты скажешь в свою защиту, только подтвердит диагноз.
На самом деле, подобные конструкции – не описание поведения, а механизм социальной изоляции. Когда кто-то выходит за пределы привычного, он становится угрозой: не в смысле опасности, а в смысле непредсказуемости. А всё, что не вписывается в схему – дискредитируется. Это и есть логика системы: она не умеет взаимодействовать с тем, что не поддаётся нормализации, и поэтому стремится либо подчинить, либо выдавить. Именно так формируется эффект «ужасного» – не как отражение внутреннего ада, а как следствие того, что ты сохранил способность быть живым в среде, которая воспринимает живое как нарушение порядка.
Фраза «у тебя ужасный характер» может быть произнесена кем угодно: родителем, учителем, партнёром, даже психотерапевтом. В каждом из этих случаев она будет значить одно и то же: ты вышел за пределы допустимого шаблона, и твоя инаковость теперь должна быть осуждена. Это не столько субъективное мнение, сколько реплика системы, озвученная через конкретного человека. Тебя не характеризуют – тебя локализуют. Ты обозначен как участок сопротивления, а значит, подлежишь либо коррекции, либо исключению. В этом смысле язык психологии, говорящий о «коррекции характера», ничем не отличается от авторитарной педагогики или бытовой эмоциональной манипуляции. Всё это – формы обезвреживания того, что не поддаётся управлению.
Объявляя человека «трудным», «сложным», «маргинальным», среда снимает с себя необходимость адаптироваться, слышать, меняться, расширять пределы допустимого. Диагноз становится удобной формой отказа от роста. Вместо того чтобы признать: «я не справляюсь с этой интенсивностью», или: «я не умею выдерживать остроту чужого сознания», произносится: «с тобой что-то не так». Это – проекция. Маскировка ограниченности под обличием объективного заключения. Более того, сам формат такой речи стирает возможность обсуждения. После «ужасный» разговора больше не будет. Потому что ты уже обозначен как проблема.
Особенно ярко это проявляется в семьях, где дети с раннего возраста получают такие характеристики: «упрямый», «невыносимый», «конфликтный», «вечно всё портит». Это не наблюдение за темпераментом – это ответ на то, что ребёнок сохраняет автономию в среде, где от него требуется функциональное подчинение. Отказ сдаться трактуется как дефект. Сопротивление – как невоспитанность. Воля – как патология. И чем живее ребёнок, тем больше вероятность, что он услышит: «у тебя ужасный характер». И чем чаще он это слышит, тем выше вероятность, что он сам начнёт это повторять – сначала внутренне, потом вслух, потом в терапевтическом кабинете, где этот же ярлык может быть закреплён уже в более респектабельной форме: «у вас выраженные черты…», «у вас низкий уровень эмоциональной регуляции», «вы слишком чувствительны».
Все эти формулы – производные одного и того же механизма: системы, которая не может признать существование субъекта без попытки его классифицировать, контролировать или устранить. И если ты слышал такие фразы в свой адрес – не важно, в какой форме – это не про то, что с тобой действительно «что-то не так». Это значит, что ты отказался быть удобным объектом. Это значит, что твоя целостность не смогла быть интегрирована в среду, построенную на подавлении. Это значит, что ты выжил, сохранив свою внутреннюю ось, в пространстве, где от всех ожидалось подчинение системе.
Характер – это не продукт корректировки. Это не то, что можно «исправить», не разрушив вместе с ним личность. Характер – это совокупность твоей воли, твоей реакции, твоих принципов, твоего темперамента и всех тех особенностей, которые не должны подгоняться под чужую переносимость. И если тебя называют ужасным – возможно, это просто доказательство того, что ты остался собой.
Субъект как несовместимость с интерпретацией
Субъектность – не просто ощущение автономии и не черта характера. Это структурная несовместимость с той моделью реальности, в которой всё подлежит оценке, интерпретации и управлению. Объект можно анализировать, объяснять, моделировать. Его можно сводить к функциям, реакциям, отклонениям от нормы. Вся система работает с объектами – даже когда утверждает обратное. Психотерапия обещает признание субъекта, но использует интерпретацию как основной инструмент, а значит, встраивает человека обратно в объектную матрицу. Субъект не может быть понят, потому что он не предназначен для понимания. Он не существует как задача для анализа. Он просто есть.
Субъект – это структура, которая не отражается. Он не поддаётся обратной связи, потому что не запрашивает её. Он не нуждается в корректировке, потому что не существует как ошибка. Он не может быть понятым, потому что любая попытка объяснить его – уже редукция. Он не просит признания, не требует валидации, не настаивает на том, чтобы его восприняли “правильно”. Он – не результат внешнего чтения, а источник сигнала, который не может быть отредактирован без разрушения структуры.
Поэтому субъектность воспринимается как угроза. Не потому, что она агрессивна, а потому что она не входит в чужие схемы. Она не даёт точку опоры для манипуляции, не формирует предсказуемую реакцию, не позволяет встроить себя в формат “нормальности”. Субъект не может быть интегрирован – только уничтожен или вытеснен. В системе, основанной на иерархии, контроле и идентификации, субъект – это глюк. Его невозможно отследить, классифицировать, оптимизировать. Он выходит за пределы интерпретируемого, а значит, становится невыносимым для конструкции.
Сказать “я не объект вашей оценки” – это не жест самоутверждения. Это отказ участвовать в структуре, где оценка – форма контроля. Субъект не требует одобрения, потому что он не участвует в торге. Он не просит быть понятым, потому что его смысл не сводим к интерпретации. Он не адаптируется, потому что не играет в игру. Это не акт сопротивления. Это принципиальная несовместимость с системой, в которой смысл должен быть описан, проверен и признан. Субъект не нуждается в описании. Он существует, и этого достаточно.
Как я вылезла из творческого кризиса
15 августа, 2010
Местонахождение: Manta
Тут такое дело… Наверное, кто-то заметил, кто-то нет, но что касается дизайна, то последние несколько лет я сидела в затянувшемся, мрачном, тяжелом, сером и унылом творческом кризисе.
Все началось примерно после того, как я наполучала кучу наград на всяких разных профильных конкурсах. Золотой Сайт, РОТОР, шорт-лист ADCR… Последней каплей было вожделенное Золотое Яблоко ММФР, которое я в принципе всегда считала несбыточной голубой мечтой. После этого дизайн из радости и удовольствия превратился в тяжелый и изнурительный труд, заниматься которым приходилось, скорее, вынужденно, потому что нужно же было что-то кушать, а найти работу дворника было сущей фантастикой из-за жесточайшей конкуренции.
Только сейчас мне становится понятно, что произошло тогда. Мне показалось, что я достигла своего "потолка" в профессии, и свой Самый Лучший Сайт я уже нарисовала (foxie.ru), а следовательно дальше расти некуда, оставалось работать себе тихонько на своем уровне, и попытаться получать удовольствие.
Но что-то умерло. Я с трудом разбираюсь во всяких научных штуках про мотивацию и прочее, но деньги оказались слабым мотиватором, а пытаться расти больше не хотелось, возможно из-за страха "не оправдать" все свои гордые регалии, если вдруг последующие работы окажутся не столь "гениальными". Само по себе это обычное дело, но в башке у меня однозначно произошел какой-то коллапс, вследствие чего я как дизайнер просто заморозилась на 4 или 5 лет, продолжая при этом как-то работать (иногда даже вполне хорошо), но безо всякого вдохновения, без радости, без удовольствия и без постоянного стремления к новым и лучшим результатам.
Еще меня все раздражало. Меня бесило, что появилось огромное количество свежевылупившихся дизайнеров и "дизайнеров", которые за несколько месяцев схватывают всё, чему нам в свое время приходилось учиться годами. Мы не были тупее, нам просто не хватало информации. Если бы нам в 1998 году кто-то дал то количество ресурсов и информации в сети, которое можно там найти сейчас, включая все эти горы книг, мы бы, наверное, лопнули бы от счастья. По какой-то неизвестной мне причине я отказалась от гонки с "молодежью" и опустила руки, в знак протеста игнорируя все смэшинг магазины, дизайнмаги, хабрахабры и прочие околодизайнерские ресурсы, таким образом оставшись вариться полностью в собственном соку, который на самом деле давно уже весь вышел.
Несколько лет я продолжала снова и снова спрашивать себя, зачем мне продолжать заниматься дизайном, кроме как из чисто практических соображений. Более того, у меня постепенно пропала какая-никакая уверенность, что я хоть что-нибудь в нем понимаю. В принципе, это в некотором роде соответствовало действительности: за это время появился веб 2.0 и прочие CSS3, но меня все это тоже раздражало. Я сидела и брюзжала, как старая вонючая бабка, что все эти новомодные штучки точно так же когда-нибудь устареют и превратятся в никому не нужный хлам, как когда-то это произошло с "хай-теками" и прочими "гранжами" начала 2000-х (и это тоже недалеко от истины). Я просто не могла себе признаться в том, что я боюсь в это лезть, боюсь учить что-то новое, потому что после взлета я панически боюсь провала. Мне казалось, что мои закостенелые мозги, которые в свое время выросли на дизайне образца 1998-2000 годов, уже не в состоянии принять и объять все это новое, блестящее и карамельное. Кроме того, весь этот поток профессиональных наград (там был еще ряд публикаций в таких книжицах, о которых я на заре своего дизайнерства даже мечтать не могла), видимо, заставил меня почувствовать себя Профи, которому уже стрёмно чему-то шибко учиться (какая идиотская ошибка)…
Так получилось (слишком уж я себя всегда ассоциировала со своей работой, хотя это и не очень правильно), что вместе с кризисом творческим накрыл кризис глобальный, который в конце-концов привел к тому, что я все бросила и уехала хуй знает куда. Проблема не в отъезде, а в том, что находясь в состоянии разброда и шатания все равно невозможно в полной мере замечать красоту окружающего мира и по-настоящему ей наслаждаться – какое, нахер, наслаждение, если внутри болото? Хотя, конечно, определенные вещи меня радовали, но, надо признать, в первую очередь из-за своей новизны, пока она некоторое время сохранялась с каждым новым переездом. А потом – снова привычка, снова туман перед глазами и затычки в ушах. И вот когда выносить всю эту катавасию стало уже практически невозможно, я начала выкарабкиваться, потому что иначе оставалось только пойти и утопиться в Тихом океане. Переезд во всем этом, на самом деле, сыграл важную роль: можно очень долго, сидя, например, в Москве, оправдывать себя тем, что это просто вот такой мрачный город, но когда здесь, на берегу океана, в голову все равно слишком часто закрадываются мысли о смысле жизни, очевидно, что в Датском королевстве что-то сгнило.
Нечеловеческое количество размышлений, дистанционная работа с психологом, чтение и медитация в конце-концов начали выводить куда-то в верном направлении. Я не буду вдаваться в подробности, это долго и не по теме, но до меня стали доходить причины и следствия всего, что со мной происходило и происходит. Я начала рисовать и вместе с этим понемножку выбрасывать застарелые страхи, связанные с собственной творческой несостоятельностью. Мне было странно вдруг понять, что даже если я плохой художник, хреновый фотограф и посредственный дизайнер (ну, это вранье, конечно, гыгы) – от этого мир не рухнет и общество не бросит меня в темную и вонючую яму всенародного презрения.
Вообще, я раньше слышала, что успех – дело опасное и может стать причиной кризиса, но как-то не думала применять это к себе (оно и понятно, некоторые вещи очень тяжело заметить, если они происходят с тобой, а не с кем-то там левым, про которого, как правило, всем все "сразу ясно" :) Тем более мне сложно было согласиться с идеей о том, что я сама способна затащить себя в настолько затяжную и глубокую жопу.
Так вот. Если из себя убрать страх, заниматься дизайном становится по-настоящему легко и приятно. Да и не только дизайном, наверное. Но еще год или два назад, если бы меня спросили, чего я боюсь, мне бы в голову не пришло сказать что-либо из того, что я сегодня здесь написала. Проблема в том, чтобы вылавливать эти вещи из бессознательного и осознавать их, как бы ни было стремно и страшно признаваться себе, например, в зависти, страхе "потерять лицо" или в том, что до дрожи боишься чьей-то критики.
Не настолько плохо бояться, все-таки еще хуже – это пытаться сделать вид, что это совсем не так. И что творческий кризис приходит и уходит "сам по себе", как та кошка…
***
Почему мир такой нелогичный, бесчеловечный и безнадежно больной
Иногда кажется, что ты просто не умеешь адаптироваться. Что ты слишком чувствительный, слишком ранимый, слишком “не в ресурсе”, чтобы принимать этот мир как есть. Что все вокруг как-то справляются, а ты один сидишь с перекошенным от ужаса лицом, глядя на бюрократию, политику, правила, социальные шаблоны и внутренне орёшь: «Какого хуя?»
А теперь хорошая новость: ты не сумасшедший.
Ты просто всё ещё живой.
Потому что сумасшедший – это не ты. Это мир, который поставил всё с ног на голову и называет это порядком. Мир, в котором ты не можешь просто построить дом, не пройдя через полгода бумажного ада. Где нельзя умереть, пока ты не заполнил двадцать три формы. Где никто не может тебе помочь, пока не поставят штамп. Где забота превращается в услугу, а страдание – в административную единицу.
Ты растёшь и сталкиваешься с системой власти, построенной не на разуме, а на страже у двери. С чиновниками, которым глубоко насрать, есть ли у тебя душа. С полицией, чья работа – не защищать, а контролировать. С государствами, чья главная функция – охранять самих себя. С религиями, которые давно утратили святость, но по-прежнему требуют преклонения. С мужчинами, считающими себя центром мира, просто потому что у них есть яйца. С женщинами, обученными поклоняться этим яйцам. С институтами, которые наказывают тех, кто задаёт вопросы. С наукой, которая зависит от грантов. С медициной, которой выгодно, чтобы ты болел.
Ты живёшь в мире, где абсурд – это система, а любой здравый смысл – подозрителен. Где у тебя забирают время, свободу, выбор и заставляют благодарить за безопасность. Где каждый день похож на симулятор, в котором тебе нужно не жить, а соответствовать. Где ты заполняешь анкету, чтобы получить справку, что имеешь право заполнить анкету. Где вместо истины – процедура. Вместо совести – политика. Вместо логики – «так принято».
Тебе говорят, что мир несправедлив. Но это не просто несправедливость. Это активная, институционализированная бесчеловечность. Это устроено так, чтобы лучшие не могли пробиться, а худшие закреплялись. Это не искажение – это ядро. Нарциссы, социопаты, манипуляторы и пустые оболочки пробиваются наверх не потому, что ты не стараешься, а потому что именно под них и заточен этот мир.
Если ты умеешь чувствовать, думать, видеть причинно-следственные связи и задавать неудобные вопросы – ты опасен. Неэффективен. Неудобен. Ты не впишешься в корпоративную иерархию, в научную систему, в традиционную семью. Потому что везде правит не интеллект, не эмпатия, не честность, а социально одобренный нарциссизм. И если ты не адаптируешься – тебя выдавят.
И всё это подаётся как «жизнь». Как «взросление». Как «так устроено, смирись». Но нет – это не “устроено”, это уничтожено. Это не порядок, это подмена порядка. Это не стабильность, это дрессировка. Это не цивилизация, это глобальный глюк, натянутый на миллиарды лиц, чтобы никто не задавал главный вопрос: а почему мы вообще живём в таком дерьме – и делаем вид, что всё нормально?
Культ фальши
Мы живём в мире, где лгать – не стыдно, а честность невыгодна. Где важно не быть, а выглядеть. Где контент важнее смысла, где упаковка важнее сути, а успех меряется охватами. Искусство перестало быть искусством в тот момент, когда его начали адаптировать под «целевую аудиторию». Когда вопрос «зачем ты это делаешь» сменился на «что зайдёт». Когда текст стал «продуктом», а музыка – «треками для плейлиста». В мире, где всё должно быть быстро, удобно и продаваемо, подлинность считается странностью, которую нужно «переформулировать».
Если ты создаёшь не для рынка – ты маргинал. Если не упрощаешь – ты непонятен. Если не продаёшься – ты глуп. Настоящее здесь не нужно, потому что оно невыгодно – оно “не вовлекает”, оно требует времени, глубины, молчания – а это не конвертируется в просмотры. Современная культура устроена так, чтобы всё настоящее казалось устаревшим. А всё пустое – блестящим.
Ты можешь делать что-то честное, яркое, важное – и это не получит ни отклика, ни площадки, ни возможности быть увиденным. Не потому что плохо, а потому, что не заточено под алгоритм. Потому что ты не выучил язык мёртвой рекламы, не встроился в эстетику обложек, не написал описание, которое «удержит внимание». Твоя ошибка в том, что ты делал что-то по-настоящему, а настоящее здесь считается неконкурентоспособным.
Бренд – важнее содержания, презентация – важнее опыта. И если ты хочешь быть услышан, тебе приходится играть. Придумывать, как «упаковать» себя, как «сформулировать ценность», как «донести до аудитории». Как будто ты не человек, а линейка товара. Даже когда ты пишешь о боли – ты должен подбирать правильный шрифт. Даже когда ты снимаешь фильм – ты должен считать хронометраж и «точки удержания». Всё настоящее просеивается сквозь фильтр. И если не проходит – считается нерелевантным.
Мир не просто болен – он учится игнорировать живое. Он учится не видеть. Учится пролистывать всё, что не оформлено под ожидание. И это не случайно. Потому что если бы живое осталось на виду – система рухнула бы.
Маркетинг не может переварить подлинность. Алгоритмы не могут показать боль, поэтому тебя учат быть другим. Даже в искусстве, даже в слове. Тем более – в чувстве.
Самое страшное даже не в том, что всё стало фальшивым. Самое страшное в том, что фальшь – теперь стандарт. Норма. Религия. И если ты не играешь – ты вне игры. Если ты не продаёшь – ты не существуешь. Если ты не соответствуешь эстетике, тренду, алгоритму – тебя просто не видно. Настоящее не просто игнорируют – его даже не считывают как сигнал.
Ты можешь сделать что-то настоящее – текст, музыку, вещь руками, фильм, рисунок, просто слово – и ты знаешь, что оно живое, что оно цепляет, что оно не из каталога. Но оно никому не нужно. Потому что оно не упаковано. Не с оптимизированным заголовком. Не в тайминг. Не с правильной рамкой. Без хештегов. Без охвата. Без лайтовой подачи для уставшего сознания. Ты сделал вещь – а от тебя ждут контент.
Или ты делаешь что-то не для продаж – а тебе говорят: ты не умеешь себя продвигать. Ты не сформулировал ценность, не написал оффер, не выстроил воронку. И ты смотришь на это и думаешь: а вы вообще помните, зачем это всё началось? Когда искусство стало товаром? Когда мысль перестала быть ценностью, если её нельзя красиво выложить в карусель? Когда глубина перестала «заходить»?
Фальшь перестала быть исключением. Сейчас именно настоящее выглядит странным, подлинное – непродаваемым, живое – неуместным. В мире, где всё стало маркетингом, искренность воспринимается как ошибка интерфейса, как технический сбой – как будто ты не туда попал. И тебя мягко, почти вежливо выталкивают – не бойко, не в лицо, а алгоритмом. Молчанием. Пролистыванием.
Всё, что не вписывается – становится невидимым.
И всё, что блестит, шевелится и вовлекает – становится успешным.
Не потому что это хорошо.
А потому что вирус стал системой.
Ты живёшь в мире, где нужно объяснять, зачем быть настоящим. А ложь уже встроена по умолчанию. Это больше не подмена, это архитектура, в которой упаковка съела содержание, а форма – выдавила суть.
Мадам, на кой вам столько баночек?
16 мая, 2012
Местонахождение: BsAs
Я вот помню, когда в Москве жила, была у меня в ванной целая куча всяких баночек и бутылочек. Шампуни, кондиционеры, ополаскиватели, всякие пенки для укладки, кремы для кожи и рожи, и прочее косметическое говно. И я всем этим активно пользовалась, искренне веря, что все эти достижения химической промышленности приносят какую-то пользу.
Уезжая из России, я взяла с собой минимальное, как мне тогда казалось, количество баночек и бутылочек, с которыми никак не хотелось расставаться. В Эквадоре по мере того, как содержимое баночек и бутылочек заканчивалось, баночно-бутылочный багаж естественным образом уменьшался, но еще оставалась косметичка.
В данный момент декоративной косметикой я вообще не пользуюсь, у меня есть только один крем – самый простой и универсальный, на случай какого-нибудь местного раздражения или пересушенности, но и это еще не все :)
У меня нету не то что кондиционера для волос, у меня и шампуня нету. Как и геля для душа. Весь этот вагон бытовой химии мне успешно заменяет бутылка жидкого мыла. Я им еще и посуду мою по мере надобности.
В общем, че я могу сказать.
Никакой, сука, разницы.
По-моему, это просто наебка такая – налить одно и то же в разные бутылки, наклеить разные этикетки, покрасить в разные цвета и добавить разные ароматизаторы, чтобы люди думали, что одной бутылкой ну никак нельзя обойтись нормальному человеку, а надо как минимум три, а лучше пять. А еще есть так называемые люкс-наебки и профессиональные наебки. Это когда стоимость бутылочки шампуня приближается к цене виски 25-летней выдержки.
А от того, что я кремами не пользуюсь, выглядеть я стала только лучше, по-моему.
Так что говно это всё.
А тут сейчас в Аргентине на рекламе косметики стали писать: "Изображение человека в этой рекламе было отретушировано и/или модифицировано цифровым способом". И модель такая, вся пластмассовая, рекламирует крем от морщин. Феерическая наебка, которая сама же в этом мелкими буквами признаётся.. :) Только в больном на всю голову обществе косметическая индустрия могла раздуться до таких потрясающих масштабов.
***
Ты смотришь на это всё – на маркетинг, на упаковку, на культуру, где важна не суть, а подача – и если у тебя ещё остались работающие нейроны, ты начинаешь подозревать неладное. Потому что это не просто про вкусы – и не про поколение. И не про то, что «мир изменился». Это – нарциссизм. По всем признакам, по чистой диагностике. Только не индивидуальной – системной.
Здесь всё заточено под то, чтобы быть увиденным, а не быть. Под то, чтобы нравиться, а не существовать, чтобы удерживать внимание, но не иметь смысла.
Тебя учат не чувствовать, а демонстрировать, производить, красиво формулировать позицию. Это не случайно. Это не эволюция культуры, это отбор – системный, планомерный, беспощадный. Отбор в пользу нарциссического паттерна – не у людей, а будто бы у самой реальности.
И если ты всю жизнь чувствовал, что что-то не так – что всё будто разыгрывается по какому-то чужому, бездушному сценарию, где правды нет, где глубина – недостаток, где честность воспринимается как слабость, а эмпатия – как дисфункция, то ты ничего не выдумал. Этот сценарий действительно существует. Его действительно кто-то написал. И написал его не мудрый правитель, не философ, не совет старейшин.
Его написал нарцисс.
Системный, хладнокровный, расчётливый нарцисс, одержимый властью, статусом и иерархией. И звали этого мудака – Хаммурапи.
Великая тайна цивилизации: нарциссический бред, высеченный в камне.
Почему одни люди веками ищут "просветление", другие создают витиеватые философские теории, а большинство просто живёт по правилам, которые противоречат здравому смыслу?
Что если я скажу, что разгадка этой тайны куда проще и нелепее, чем может показаться?
Вся наша "великая цивилизация", все философские учения, религиозные доктрины, юридические системы, моральные кодексы – все эти сложные конструкции, возможно, созданы для объяснения и оправдания… нарциссического бреда одного древнего вавилонского царя.
И нет, это не шутка.
Исследователи тысячелетиями пытаются понять, как возникли первые государства, почему люди подчиняются закону, откуда взялись моральные нормы. Они создали сотни теорий, написали тысячи книг. А ответ лежал буквально на поверхности – на поверхности древнего базальтового столба, где Хаммурапи высек свой бред о собственном величии.
В 1754 году до нашей эры вавилонский царь Хаммурапи создал один из первых известных всеобъемлющих сводов законов. И вот что интересно: треть текста этого кодекса – это не законы. Это преамбула, где Хаммурапи рассказывает, какой он охуенный.
Начинается она так:
«Когда величественный Ану, царь ануннаков, и Энлиль, владыка небес и земли, определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, первородному сыну Эа, господство над всеми людьми… тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, для водворения в стране справедливости…»
И дальше этот древний псих на нескольких страницах перечисляет около пятидесяти титулов и эпитетов, которыми сам себя награждает. «Я – пастырь», «я – могучий царь», «я – божественный царь царей», «я – мудрый», «я – совершенный»…
Это не просто закон. Это камень, в который Хаммурапи высек своё эго на тысячелетия вперёд.
Знаете, что самое смешное? Если открыть современный справочник по психиатрии DSM-5 и посмотреть критерии нарциссического расстройства личности, то Хаммурапи один-в-один подходит под все пункты:
Грандиозное самомнение – считает себя исключительным, избранным богами.
Фантазии о безграничном успехе и власти – представляет себя всесильным правителем, чьё имя будут помнить вечно.
Вера в собственную уникальность – только он способен создать идеальные законы.
Потребность в восхищении – высекает свои достижения в камне для вечного поклонения.
Чувство привилегированности – его слово должно быть законом на все времена.
Эксплуатация других – создаёт систему, которая обслуживает его видение мира.
Отсутствие эмпатии – законы жестоки и не учитывают человеческие обстоятельства.
Зависть или убеждённость, что другие завидуют ему – угрожает страшными карами тем, кто посмеет изменить его законы.
Высокомерное поведение – весь текст пропитан самовосхвалением.
Если бы он пришёл сегодня к психиатру, диагноз был бы очевиден. Но вместо этого он создал первую модель правовой системы, которая стала образцом для всех последующих.
Гениальность (или безумие) Хаммурапи заключалась не в самих законах. Его настоящим "достижением" стало создание системы, которая увековечивает патологические нарциссические структуры власти:
Он сделал свой нарциссизм вечным, высекая его в камне. Это была первая "флешка" человечества, на которую записали вирус нарциссической власти.
Он связал свой авторитет с богами, поставив его вне обсуждения и критики. "Меня выбрали боги" – это первая и самая успешная манипуляция властьимущих.
Он создал чёрно-белую систему морали: добро/зло, хорошо/плохо, награда/наказание – без полутонов и нюансов. Эта бинарность стала основой всех последующих моральных систем.
Он увековечил наказание как основной способ контроля. Не понимание, не исправление, а именно кара за отступление от правил.
Он создал административные расширения своей личности – чиновников, судей, которые продолжали функционировать как его заместители после его смерти.
Самое поразительное не в том, что Хаммурапи был нарциссом. Такие люди существовали во все времена. Поразительно то, что его личная патология превратилась в глобальную систему, которая существует до сих пор.
Посмотрите на современные правовые системы:
Судьи в мантиях (символическая замена царской одежды)
Торжественная архитектура судов (храмы нового времени)
Клятвы и ритуалы (сакрализация власти)
Наказание как основной инструмент (средневековая логика мести)
Чёрно-белые категории виновности (без учёта сложности человеческой жизни)
Все эти элементы – прямые наследники кодекса Хаммурапи. Мы до сих пор живём в мире, структурированном по образу и подобию нарциссического расстройства личности одного древнего чувака.
Теперь становится понятно, почему наш мир так часто кажется абсурдным. Он и есть абсурдный, потому что построен на патологии!
Власть не служит людям – она изначально создана для обслуживания нарциссического эго правителя.
Законы часто бесчеловечны – они не для того, чтобы сделать жизнь лучше, а для того, чтобы зафиксировать систему контроля.
Правила противоречат здравому смыслу – они отражают не реальность, а искажённое восприятие нарцисса.
Общество наказывает, а не помогает – потому что наказание было встроено в самую основу системы.
Поиски просветления так сложны – потому что приходится преодолевать тысячелетние слои нарциссической лжи.
И самое смешное: мы создали целые научные дисциплины – философию, юриспруденцию, политологию, социологию, психологию – чтобы объяснить и рационализировать эту патологию! Мы приняли её за норму и потратили тысячелетия, пытаясь понять её глубинный смысл.
А смысла-то и нет.
Но чтобы понимать, как вообще такое стало возможным, нужно заглянуть в контекст. Хаммурапи не взял власть на пустом месте – он пришёл не как молния среди ясного неба, а как реакция на экологическую и социальную катастрофу.
К началу II тысячелетия до н.э. Месопотамия входила в фазу глубокого системного кризиса, вызванного масштабной засухой. Уровень воды в Тигре и Евфрате упал, пересохли ирригационные каналы, сельское хозяйство пришло в упадок, начался голод. Люди покидали центральные районы, города разрушались, прежние хозяйственные и политические связи распадались. Уже тогда в регионе существовали развитые формы организации: советы старейшин, храмовые структуры, местные вожди, – всё это составляло относительно сбалансированную сетевую модель управления, в которой порядок удерживался через ритуалы, традиции и взаимные обязательства, а не через централизованное принуждение. Но с началом экологического и экономического коллапса прежняя структура оказалась неспособна справиться с масштабом разрушения, не потому что была плоха или примитивна, а потому что была построена на иной логике – на согласии, а не на насилии.
Когда рушатся базовые условия жизни, децентрализованные системы оказываются уязвимыми перед захватом, и именно в этот момент появляется новая форма власти – не координирующая, а подчиняющая. Хаммурапи использует эту точку уязвимости, не для восстановления старого порядка, а для внедрения новой архитектуры: вертикальной, централизованной, основанной не на взаимных связях, а на контроле. Он не реформирует систему, а переписывает её фундамент – и делает это буквально, высеканием закона в камне. То, что могло быть временной мерой, превращается в вечную структуру. И именно потому, что прежний порядок находился в фазе распада, новая форма контроля была принята как единственно возможная.
Паразит всегда захватывает через слабое место. Он не штурмует живое – он входит туда, где нарушен резонанс. В случае Месопотамии этим местом стала экологическая катастрофа, которая обнулила предыдущие формы устойчивости. И вместо восстановления старой ткани пришло нечто новое – не живое, но стабильное. Хаммурапи не изобрёл насилие. Он просто нашёл форму, в которой насилие можно зафиксировать, сакрализировать и передавать дальше. Именно потому его код стал не просто системой – он стал началом новой онтологии.
Разделяй и властвуй
Принцип «разделяй и властвуй» – это не просто политическая стратегия. Это ядро всей системы управления, восходящее к тем же основаниям, что и Парадигма Хаммурапи. Если Хаммурапи устанавливает вертикаль через закон, то разделение обеспечивает контроль через фрагментацию. Вместе они формируют не просто структуру власти, а среду, в которой сопротивление становится невозможным, потому что субъекты изолированы, заняты борьбой друг с другом и не видят самой архитектуры, которая стоит над ними.
«Разделяй и властвуй» действует на всех уровнях: между странами, между классами, между полами, поколениями, отдельными людьми. Механизм во всех случаях один: субъектов сталкивают, создавая поле конкуренции, взаимного подозрения и страха. В этой фрагментированной среде невозможно выстроить общее понимание – каждый занят защитой, доказательством или удержанием позиции. При этом сама структура, организующая эти конфликты, остаётся за пределами обсуждения.
Разделение может быть не только грубым, но и культурным, символическим, психологическим. Женщина соперничает с женщиной за внимание мужчины, не осознавая, что сама логика нуждаемости навязана системой. Работник конкурирует с работником, не задавая вопроса о справедливости распределения. Ребёнок защищается от родителя, родитель – от ребёнка, и ни один не ставит под сомнение правила, по которым любовь измеряется дисциплиной.
Наиболее опасной формой этого механизма является псевдообъединение – когда разрозненные участники склеиваются под флагом нормы и направляют агрессию на тех, кто выходит за её пределы. Объединение против «других» – геев, женщин, курильщиков, мужчин – есть не отказ от разделения, а его более жёсткая форма, замаскированная под единство. Это не солидарность, а алгоритм подавления, легитимизированный изнутри.
Этот принцип работает даже внутри мышления: бинарная логика «или-или» воспроизводит ту же схему фрагментации. Пока человек мыслит в категориях выбора между двумя заранее заданными позициями, он уже встроен в сценарий, в котором ему отведена функция. Поэтому отказ от бинарного мышления – не просто философский жест, а практическое освобождение.
«Разделяй и властвуй» – это не только про управление массами, это про блокировку возможности признать другого равным. Пока ты видишь в нём конкурента, угрозу или отклонение – ты воспроизводишь структуру. Только выход из этого сценария, восстановление прямого контакта без позиции сверху, делает возможным разрушение самой архитектуры. Потому что система держится не на принуждении, а на согласии. Пока ты принимаешь рамку – власть в ней уже не нуждается в прямом насилии.
Что происходило в остальном мире во времена Хаммурапи
Если отступить на шаг назад и посмотреть на мир в тот же период – примерно XVIII век до нашей эры – становится ясно: говно начало завариваться не в одном месте. Параллельные процессы централизации власти, закрепления иерархий и зарождения систем контроля шли в разных регионах. Каждая из этих систем со временем сформировала собственную версию системы. И хотя между ними были культурные и географические различия, суть происходящего была пугающе схожей.
Египет: централизованный культ мертвых
В Египте в это время правил Сенусерт III – один из самых авторитарных фараонов Среднего царства. Он централизовал власть, подавил местных номархов и провёл экспансии в Нубии. Египетская модель – это уже не просто культ умерших, а культ централизованного контроля, где фараон – полубог, а ты – функция. Это и был свой местный Хаммурапи, просто в антураже пирамид и саркофагов.
Индия: цивилизация без надписей и с загадочным крахом
Индская цивилизация (Хараппа, Мохенджо-Даро) была в упадке. Причины до сих пор неясны: климатические изменения, катастрофы, внешние вторжения? Но интересно то, что их система, в отличие от Месопотамии, не оставила нам явного следа юридического насилия. Нет ни глыб, ни божественных наказаний. Возможно, именно поэтому она исчезла. Слишком менее заражённая системой? Или, наоборот, слишком беззвучная, чтобы сопротивляться?
Китай: начало пути к империи
На территории Китая формировалась династия Ся. Хотя доказательств её существования мало, считается, что именно в это время зарождаются структуры, которые позже вырастут в тотальную централизованную машину. Китай пошёл своим путём, но система там тоже дала корни – через культ порядка, ритуала и послушания.
Кавказ и доколумбова Америка: альтернативные сценарии
В этом контексте особенно интересны Кавказ и доколумбова Америка. Это не просто географические зоны, это пространства альтернативных сценариев, где вирус тотального контроля не закрепился на уровне кодифицированной власти.
На Кавказе, начиная с IV тысячелетия до н.э., существовала культура Куро-Араксес – уникальное образование, охватившее Южный Кавказ, Восточную Анатолию и северо-западный Иран. У этой культуры была развитая металлургия, архитектура, аграрные технологии, но при этом – отсутствие явной социальной иерархии. Нет ни пирамид власти, ни храмовых экономик, ни каменных манифестов от лица “великого царя”. Люди жили в равных по размеру жилищах, отсутствуют признаки социальной стратификации, а находки говорят об относительном равенстве. Это не «первобытность», а осознанная форма социальной жизни без централизованной системы подавления.
В доколумбовой Мезоамерике, начиная примерно с XIV века до н.э., существовала ольмекская цивилизация – загадочная и мощная. Они построили гигантские головы, развивали календарные и, вероятно, письменные системы. Но что мы там не находим – так это письменного оправдания власти, аналога Хаммурапи, и прямых свидетельств жёсткой централизации. Да, были элиты, но не было идеологического кода, высеченного в камне и претендующего на универсальность. То, что мы знаем об ольмеках, оставляет пространство для интерпретации, но ни одна из них не предполагает паразитическую машину подавления с типичной бинарной логикой.
Греция как культурный артефакт
Позже, в V–IV веках до нашей эры, Древняя Греция становится объектом особого интереса. Если попытаться рассматривать её вне романтизированного мифа о «колыбели цивилизации», то многое начинает выглядеть иначе. Возникает гипотеза: именно здесь произошёл ранний синтез живого резонанса и первых форм заражения системой, причём заражение не было тотальным – оно шло волнами, фрагментами, и лишь задним числом кажется целостной картиной.
Греция – не автор системы изначально, но точка перехвата. Здесь впервые были заложены модели, которые позже превратились в структурные опоры системы: государственность, формализованная логика, институции права, кодифицированная мораль, концепции демократии и рабства в одном флаконе. Парадоксальная амбивалентность – в этом и состоит её уникальность.
Философия, которой мы обязаны античности, родилась не как способ освободиться, а как способ объяснять. То есть – описывать мир, а не быть с ним в резонансе. Платон и Аристотель – не освобождающие фигуры, а архитекторы логических каркасов. Сократ, быть может, стоял на грани между живым и системным мышлением, но даже он в итоге стал иконой института, а не его разрушителем. Само слово «логос», которое позже станет ядром западного мышления, изначально означало не только «слово», но и «смысл», и именно в этом сдвиге – от внутреннего смысла к внешнему порядку – мы видим заражение.
Греческие города-государства демонстрируют раннюю форму бинарного управления: «гражданин» против «варвара», «мужчина» против «женщины», «свободный» против «раба». Система чётко разграничивала, кому позволено быть субъектом, а кого можно классифицировать как имущество. Это были не просто социальные установки – это были онтологические аксиомы: если ты раб, то ты не просто подчинён, ты – «не-человек» в полном смысле слова. Идея «человека как носителя достоинства» в греческой модели не универсальна, она иерархична и избирательна. Это один из самых ранних и самых изощрённых примеров внедрения системы под видом «развития».
При этом именно в Греции мы находим и возможные следы сопротивления. Досократики, особенно Гераклит и Анаксимандр, говорили не о законах, а о потоках, становлении, изменении, неформализуемом мире. Их идеи позже были стерты, подменены логическими системами, а сама философия была помещена в рамки школ, учебников, академий. Это – симптом. Живое мышление невозможно формализовать, но именно попытка превращения его в норму с правилами и санкциями делает систему стабильной. Греция стала первой зоной, где живое мышление было поставлено под стекло и превращено в дисциплину.
Даже эстетика – скульптура, архитектура, театр – изначально могла быть формой резонанса, но быстро превратилась в инструмент кодировки: идеальное тело, идеальный порядок, идеальный трагический конфликт. Всё «неидеальное» – хаос, «варварство», женское начало, природа – изгоняется, подавляется или приручается. Уже здесь можно наблюдать, как эстетика становится не свободой, а регламентом. И даже трагедия, как высший жанр, – это не катарсис, а подчинение: зритель получает «разрешение» на эмоции в специально отведённой форме.
Таким образом, Греция – это не родоначальник, но ключевая точка внедрения системы, сделанная с такой утончённой интеллектуальной изощрённостью, что заражение стало выглядеть как освобождение. Именно поэтому её так любит система в лице своих послушных исполнителей – они цитируют Платона и Аристотеля не потому, что поняли их, а потому что эти имена легитимируют их собственные конструкции власти и логики.
В чем мораль? Не в том, чтобы «отменить Грецию», а в том, чтобы понять: заражение может прийти не с насилием, а с идеей; не в виде цепей, а в виде концептов. И самый опасный паразит – это тот, кто притворяется твоим учителем истины.
Грузия как отдельно взятый феномен
Грузия вызывает подозрение как возможный артефакт до-системного мира – не как исключение, а как фрагмент иной парадигмы, уцелевший в изоляции. Некоторые черты указывают на глубинные различия в когнитивной и культурной архитектуре, сформировавшейся до внедрения внешнего кода контроля.
Во-первых, грузинский язык демонстрирует интересную онтологию. В нём отсутствует категория грамматического рода, как и заглавные буквы. Это не просто лингвистическая особенность – это указание на отсутствие иерархии даже на уровне письменности. Нет верха, нет «важнее», нет символического доминирования. Всё – равнозначные единицы потока. Такое устройство языка могло бы быть проявлением когнитивной системы, основанной на векторной логике, а не на бинарной, особенно если учитывать, что векторная структура сама по себе встроена в основу языка.
Христианство в Грузии присутствует, но ощущается не как ядро культуры, а как надстройка. Гораздо важнее – музыка. Не как украшение или фольклорный элемент, а как фундаментальный способ бытия. Многоголосие – не приём, а форма коллективной когерентности, в которой не существует доминирующего голоса. Здесь важен не текст, а звучание. Не правило, а резонанс. И это может быть следом до-текстовой культуры – той, в которой смысл не кодифицируется, а проживается. Если система опирается на текст как на инструмент контроля, то культура, основанная на звучании, может существовать вне её досягаемости.
Третьим наблюдением становятся местные мифы и легенды. Они, как и музыка, полифоничны, полны амбивалентных персонажей, в них меньше дихотомии «добро–зло», меньше моралистического кода. Герой может быть одновременно жестоким и справедливым, глупым и мудрым, смешным и трагичным. Это структура до-бинарного мышления. Это не плохо прописанный миф, а хорошо сохранившаяся онтология.
Даже Бог здесь не является карающим существом – если рассмотреть легенду о том, как появилась Грузия, под этим углом, то можно увидеть, что он не обладает бинарным мышлением, а – напротив – резонансный и человечный:
Когда Бог распределял между народами земли, грузины опоздали, поскольку были слишком заняты пиршеством по случаю сотворения мира. Явившись перед Богом, они сказали:
"Извини, дорогой, что опоздали: мы пили за твое здоровье".
Бог подумал и сказал: "Приберег я тут для себя кусочек земли, но за вашу непосредственность и прямотуотдаю его вам!"
Наконец, визуальная культура. Здесь нет стремления к симметрии, нет маниакального порядка. Камни лежат так, как им удобно. Архитектура – текучая. Даже старые монастыри не про «величие», а про включённость в ландшафт. Это эстетика сопричастности, а не доминирования.
Все эти признаки не доказывают, но указывают на возможное существование культурной зоны, не до конца захваченной системой. Неизвестно, была ли Грузия в древности резонансной культурой, но по совокупности признаков гипотеза кажется рабочей и заслуживающей дальнейшего анализа.
Почему психотерапия не работает – и никогда не будет работать
Доказательство несостоятельности через Парадигму Хаммурапи
Ты можешь сколько угодно пытаться «проработать себя», «исцелить травмы», «найти внутреннего взрослого» и «обрести ресурс». Но если ты делаешь это в рамках психотерапии, ты находишься внутри системы, которая не просто не ведёт к свободе – она по своей структуре исключает её возможность.
Психотерапия давно вышла за пределы профессиональной помощи. Это уже не практика – это институт и культурная догма. Часто последняя надежда тех, кто не смог адаптироваться к безумию. Она обещает понять, исцелить, освободить, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что она не лечит – она обучает лучше приспосабливаться к системной патологии, выдавая это за восстановление здоровья.
Ты приходишь за правдой – получаешь интерпретацию.
Ты просишь помощи – получаешь рамку.
Ты пытаешься вырваться – тебе предлагают адаптацию.
И всё это происходит не потому, что твой терапевт плохой, или метод не сработал.
Это не ошибка метода. Это – его функция.
Чтобы это понять, нужно увидеть, что психотерапия – не исключение из логики власти. Она – её продолжение. И делает она всё то же, что раньше делал суд, церковь, армия или школа. Только другим языком. Теперь нет кнута, нет алтаря, нет присяги. Есть диван, светлая комната, и человек напротив, который якобы помогает тебе «увидеть себя».
Но ты не должен видеть себя. Ты должен встроиться.
Ты должен принять, адаптироваться, научиться быть функциональным.
А если ты сопротивляешься – значит, ты не готов. Или саботируешь. Или “внутренний ребёнок мешает”.
Это и есть новый суд, только с мягкой интонацией.
Если смотреть внимательно, становится очевидно: психотерапия не освободительна. Она репликация системы, оформленная как помощь. И если всё это напоминает тебе то, о чём шла речь в главе о Хаммурапи – ты не ошибаешься. Потому что психотерапия – это и есть новая версия той самой парадигмы, только теперь она работает не с телом, а с сознанием.
Дальше мы покажем это не метафорой, не эмоцией, а строгой логикой.
Пункт за пунктом.
Как строится эта система.
Как она удерживает.
Почему она не лечит – и не может.
И как вырваться, если ты вообще ещё хочешь быть собой, а не примером успешной адаптации.
Терапия как наследник нарциссической власти
Ты можешь сколько угодно верить, что психотерапия – это про тебя. Про твоё «исцеление», «внутреннюю работу», «свободу от травм». Но посмотри на её устройство – и ты увидишь всё то же, что уже однажды было высечено в камне древним нарциссом, одержимым властью. Хаммурапи ушёл, но система, в которой один “знает”, а другой – объект интерпретации, осталась.
Терапия говорит, что работает с личностью. Но делает она это в логике суда. Там есть код – DSM или МКБ, список категорий, где чётко прописано, кто считается «нормальным», а кто – «с отклонениями». Есть носитель «знания» – терапевт, который обладает правом классифицировать. Есть процедура – регулярные сессии, как ритуал очищения. И есть цель – не свобода, а вписывание в рамку.
Ты не можешь просто быть. Ты должен вписываться.
Не задавать вопросов – а задаваться ими правильно.
Не разносить систему – а понимать, как она работает и как «в ней выжить».
Ты приходишь за правдой – а получаешь интерпретацию, оформленную чужим языком.
Это не помощь – это новая форма власти, замаскированная под заботу.
И ты видишь те же ключевые паттерны, которые уже были описаны в Парадигме Хаммурапи:
– Претензия на исключительное знание. Терапевт – как когда-то жрец – владеет ключами к истине, а ты должен пройти путь, чтобы «понять, что с тобой».
– Сакрализация роли. Психотерапия окружена аурой научности, этики, ответственности. Но это просто новая мантия. Новая иерархия.
– Кодификация патологии. Всё, что выходит за пределы «адаптивного поведения», автоматически проблематизируется.
– Жёсткая бинарность. Ты либо прорабатываешь – либо «сопротивляешься». Ты либо в терапии – либо в отрицании.
– Асимметрия власти. Тебя интерпретируют. Тебя корректируют. Тебя разбирают по кускам.
– Патологизация сопротивления. Если ты говоришь «нет», это не акт свободы, это симптом.
– Конечная цель – не свобода, а адаптация. Чтобы ты не мешал. Чтобы ты «функционировал». Чтобы ты вернулся в строй, пусть и с «проработанным внутренним ребёнком».
Всё это – не случайное сходство. Это одна и та же архитектура. Просто теперь она работает через внутреннюю речь, а не через плётку. Через терминологию, а не через приказы. Но задача та же – удержание, поддержание и перепрошивка под существующий порядок.
И если ты вдруг начинаешь чувствовать, что тебе не становится легче, что тебя не видят, что тебя переводят на язык, в котором ты больше не узнаёшь себя – то это не потому, что ты «не готов». Это потому что ты живой. А психотерапия – структура, которая настроена не на живое, а на контролируемое.
Парадокс терапии: почему свобода невозможна
Если ты хочешь понять, почему психотерапия не работает – не поверхностно, а структурно, – тебе придётся признать неприятное: она не сбилась с пути, она просто всегда шла не туда. Это не искажение изначального замысла, а самая его суть. Психотерапия – не побочный эффект цивилизации, а её прямой наследник, одна из ветвей системной власти. Только теперь власть работает не через страх и наказание, а через «внутреннюю работу».
Переходим к доказательной части. Будет немного занудно, но это – необходимая жертва в пользу настоящего системного разъёба.
1. Грандиозность и претензия на избранность
Психотерапевт в современной культуре – это не просто специалист. Это фигура сакральная – он обладает знанием, которого у тебя нет. Он не просто помогает – он якобы «видит» то, чего ты не видишь, «чувствует» глубже, «понимает» шире. Основатели терапевтических школ описываются как пророки: «открывшие» бессознательное, изобрётшие «революционные» методы. Фрейд, Роджерс, Перлз – не просто учёные, а почти мифологические фигуры. Это ровно та же позиция, которую занимал Хаммурапи: «мудрый», «божественно вдохновлённый», «избранный». Он и был первым, кто закрепил: власть – это не ответственность, а сакральная привилегия.
2. Потребность в восхищении
Терапевтическое сообщество производит тонны текстов, конференций, интервью, где говорит само с собой. Это самовоспроизводящийся культ с очень высоким уровнем чувствительности к критике. Любая попытка поставить под сомнение эффективность терапии вызывает коллективный иммунный ответ. Как и в любой замкнутой системе – внутренние оппоненты объявляются «неэтичными», внешние – «неразбирающимися». Это не про исследование истины. Это про охрану сакрального статуса.
3. Недостаток эмпатии
Парадоксально, но эмпатия в терапии – не средство понимания, а инструмент формализации. Твоя боль, твой опыт, твоя история – не цель, а материал. Они переводятся на язык модели. Если ты плачешь, это «перенос». Если злишься – «проекция». Если не хочешь продолжать – «сопротивление». В тебе не видят живого человека. В тебе видят функцию. Ты – объект концепции.
4. Вера в исключительность каждой школы
Каждое терапевтическое направление считает себя уникальным – несмотря на то, что никаких убедительных доказательств превосходства одного подхода над другим не существует. Все они оперируют разными языками, метафорами, концепциями. Но ни одна из них не выдерживает критики, если убрать ауру. Это не про науку – это про нарратив. И каждый нарратив требует поклонения.
1. Кодификация нормы и патологии
Современные диагностические системы вроде DSM и МКБ – это прямые наследники древних правовых кодексов. В них нет ни контекста, ни жизни. Есть категории, симптомы, шкалы. Всё сведено к спискам. Это не про понимание или помощь, а про классификацию и стандартизацию. Если ты не вписываешься – ты патологичен. Не потому, что тебе плохо, а потому, что ты отклоняешься от схемы.
2. Асимметрия власти
Терапевт – это всегда тот, кто знает. Клиент – тот, кто «в проблеме». Это не диалог, а структурно-иерархичная модель. Судья и обвиняемый. Учитель и ученик. Оракул и страждущий. Ты приходишь в кабинет не как равный – ты приходишь как тот, кого будут интерпретировать. Это не поддержка, а процедура.
3. Мистификация знания
Терапевтическое знание подаётся как что-то, требующее долгого обучения, допуска, этического кодекса. Но при этом внутри нет ядра, нет общего фундамента, нет теории, которая бы выдерживала междисциплинарную верификацию. Это знание не развивается – оно реплицируется через обучение, сертификацию, супервизию, в замкнутом круге без доступа извне.
4. Бинарное мышление
Психотерапия оперирует упрощёнными дихотомиями. Здоровый / больной. Адаптивный / дезадаптивный. Рациональный / иррациональный. Ты не можешь быть одновременно живым и парадоксальным. Ты должен выбрать. Вписаться. Или быть определённым как нестабильный.
5. Индивидуализация коллективной патологии
Если тебе плохо – это твоя травма. Не экономическая ситуация, не отсутствие смысла, не социокультурный коллапс, а «твои установки», «твоя тревожность» и «твоя дисрегуляция». Системная дисфункция сводится к личному диагнозу. Это не помощь – это маскировка.
6. Фокус на адаптации
Терапия не разрушает систему – она помогает тебе в ней выжить. Главное – «функционировать», чтобы не страдать, не мешать, не чувствовать слишком много, не задавать лишних вопросов, быть «в ресурсе». Это не исцеление – это вживление паразитического вируса.
Противоречие между целью и средствами
Терапия говорит, что её цель – свобода. Но всё, на чём она построена, – власть, асимметрия и зависимость. Невозможно прийти к автономии, если метод требует отказа от собственного понимания в пользу интерпретации другого. Освободить нельзя. Свободу можно только забрать. Или вернуть. Но терапия именно что «предоставляет» её. И этим самым – делает невозможной.
Герменевтический абсурд
Тебе говорят: ты не понимаешь, что с тобой. А вот специалист – понимает. То есть ты внутри, но слеп. А он снаружи, но видит. И именно он будет тебе объяснять, что ты на самом деле чувствуешь, думаешь, защищаешь. Это не помощь – это эпистемологическое насилие. Невозможно освободить человека, одновременно отказывая ему в праве на истину о себе.
Парадокс адаптации
Многие “симптомы” – это не отклонения, это здоровая реакция на ненормальные условия. Твоя апатия, тревога, злость – это сигналы, что с миром что-то не так. Но терапия переводит их в категорию дисфункции. Тебя лечат не от боли – тебя лечат от несогласия. Ты должен «адаптироваться», не спросив, а зачем. К чему. И стоит ли.
Противоречие экспертизы
Психика – это субъективное поле. Уникальное, текучее, контекстуальное. Но терапевт – «эксперт». Он как будто может «разобраться». Но если сознание уникально – никакая внешняя экспертиза невозможна. Если же экспертиза возможна – значит, ты – не субъект, а объект. И тогда речи о свободе быть не может. Только о приспособлении.
Эффект плацебо и неспецифические факторы
Большинство исследований показывают, что основную часть терапевтического эффекта дают не техники, не методы, не школы, а так называемые неспецифические факторы: человеческий контакт, надежда, доверие, атмосфера. Всё то, что вообще не зависит от подхода. То есть работает не метод, а присутствие. Не структура, а эмпатия. И это разрушает саму основу терапевтического профессионализма. Если работает лишь то, что неотделимо от обычного человеческого взаимодействия – зачем всё остальное?
Проблема парадигм
Психотерапевтических школ – десятки. Каждая утверждает свою истинность. Каждая имеет свою логику, свои объяснения, свой язык. И они не просто различаются – они противоречат друг другу. Если бы психика поддавалась объективному исследованию, такие противоречия были бы устранены. Но они не устраняются. Потому что это не наука – это поле идеологий, маскирующихся под помощь.
Проблема нестабильности результатов
Даже когда эффект есть – он часто не сохраняется. Через несколько месяцев человек возвращается к тому, с чего начал, или просто переходит на новую форму страдания. Это называется «негенерализация результата». Ты научился проговаривать – но жизнь не изменилась. Потому что проговаривание не меняет внешние условия, оно только создаёт иллюзию работы. А иллюзия быстро рассеивается.
Предвзятость публикаций
В научных публикациях отражаются в основном положительные результаты. Провалы – не публикуются, негативный эффект игнорируется, статистика искажается. Это индустрия, а не исследование. И всё, что подаётся как доказательная база – на деле фильтрованные данные, отобранные по принципу удобства для системы.
Феномен ухудшения
Существует стабильный процент клиентов, которым после терапии становится хуже. Это признано. Это измерено. Но это – табу. Никто не выносит это на баннеры, не обсуждает на конференциях и не учитывает в отчётности. Почему? Потому что признание этого разрушает доверие. А без доверия “терапия” невозможна. А значит, система будет игнорировать свои провалы до последнего.
Никаких гарантий
Психологи бесконечно пишут тексты, которые снимают с них ответственность за результат терапии и перекидывают ее на самого клиента. Мол, если лампочка не готова меняться, то виновата сама лампочка.
Если вы нанимаете специалиста в любой другой области, и он оказывается не в состоянии вам помочь, то вы вправе не оплачивать его услуги. Никто не скажет вам, что вы “просто не нашли своего сантехника”. Если вы купили новую кофеварку, но она не варит кофе, вам никто не скажет, что “вы просто не нашли свою кофеварку". Вам вернут деньги.
Почему нельзя вернуть деньги, которые мы заплатили за всех “не-своих” психотерапевтов, которые не дали нам никакого результата (а то и ухудшили наше состояние)? Почему при этом они называют свою деятельность “доказательной медициной”?
Вы, что называется, либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Индивидуализация системных проблем
Ты приходишь с болью, но вместо вопроса «почему этот мир так странно устроен?» тебе задают другой: «а как ты это переживаешь?» Твоя реальность – политическая, экономическая, культурная – сворачивается до психической. Всё, что с тобой происходит, объявляется личной проблемой. Ты больше не гражданин, не жертва, не наблюдатель. Ты – пациент. У тебя «расстройство». А значит, нужно не менять условия, а «работать с собой».
Деполитизация страдания
Боль больше не связана с социальными причинами. Её обеззараживают, переводят на язык симптомов и вытаскивают из контекста. Делают нейтральной. Страдание становится «чистым» и удобным. Терапевт больше не слышит историю твоей жизни как историю выживания в безумном мире – он слышит «тревожность», «дефицит привязанности», «непроработанные границы», или еще того хуже – СДВГ, кПТСР, «повышенная чувствительность». Так исчезает твой мир. А вместе с ним – твоя правда.
Нормализация патологического порядка
Вместо того чтобы сказать: «Ты прав, это ад», тебе говорят: «Ты должен научиться жить с этим». Патология системы становится нормой, а твоя попытка протестовать – симптомом. Вместо разрушения ада тебе предлагают освоить новые техники выживания в нём. Это не помощь, это предательство под видом помощи.
Социальный сортинг и маркировка
Терапия – это не только «помощь», это ещё и фильтр. Кто «работает над собой» – тот молодец, кто «не хочет» – тот в отрицании. Это становится новой шкалой оценки. Системой допусков. Ты не просто человек – ты или «в ресурсе», или «в дисфункции». У тебя либо «база», либо «травма». Это новая форма сегрегации – с мягкими терминами и улыбкой.
Монетизация страдания
Самое ужасающее: боль стала рынком. Терапевт – не соучастник, а продавец. Сессия – продукт. Сайт – витрина. Услуги – пакет. Ты покупаешь не выход, а обслуживание. Твоя психика – ресурсный актив. Ты платишь за то, чтобы тебя корректно интегрировали в систему, которая тебя же и поломала. Это не поддержка. Это индустрия удержания в обрабатываемом состоянии.
Интернализация внешнего контроля
То, что раньше делал внешний надзиратель, теперь делает «внутренний наблюдатель». Ты больше не ждёшь приказа снаружи – ты сам себе командуешь, присматриваешь за собой, корректируешь себя, объясняешь себе, где ты «нездоров», «неправ», «недостаточно проработан». Контроль стал внутренним, но он не исчез – он стал тоньше, и именно в этом его эффективность. Ты не чувствуешь границ, потому что граница – это ты сам. Но эта самость сконструирована извне. Это не ты – это продолжение системы внутри тебя.
Самоконтроль как высшая форма власти
Ты следишь за собой, анализируешь себя, хвалишь за «рост» и ругаешь за «откат». Ты не просто живёшь – ты постоянно сканируешь, корректируешь, работаешь. Больше нет пространства для спонтанности, для тишины, для протеста. Всё поведение – это теперь либо «ресурс», либо «триггер». Либо ты «в процессе», либо «в регрессе». Эта система кажется нейтральной. Но она глубоко идеологична. Это система, в которой субъект сам на себя надел наручники и даже не осознал этого, потому что ему сказали, что это «интроспекция».
Патологизация сопротивления
Если ты сопротивляешься – ты «в защите». Если отказываешься продолжать – у тебя «страх изменений». Если злишься – ты «переносишь агрессию». Любой выход из сценария – это не твоя воля, а «саботаж». То есть право сказать «нет» уже не принадлежит тебе, оно объявлено симптомом. Сопротивление – не акт свободы, а сигнал болезни. Ты не можешь выйти из игры, потому что выход стал патологией. А согласие – условием «выздоровления».
Валидация через страдание
Культура психотерапии выстроена так, что страдание становится символом ценности. Если ты прошёл через боль – ты «сознательный». Если ты «в терапии» – ты «работаешь над собой». Ты молодец. Ты в процессе. Ты в комьюнити. У тебя есть «осознанность». Процесс лечения превращается в социальный капитал, люди гордятся своими сессиями, своими диагнозами, своими «инсайтами». Это превращается в новый способ быть «нормальным» – через маркировку «больного». Валидация теперь приходит не за пределами страдания, а внутри него. Боль больше не сигнал, она – пропуск.
Есть в современной психотерапии метод, который любят даже те, кто возненавидел терапию. Его рекомендуют друг другу те, у кого “в анамнезе” кПТСР, те, кто не смог выдержать директивных подходов, кто устал от обвинений и вечного копания в «что ты делаешь не так». Этот метод – Internal Family Systems. Или просто IFS.
На первый взгляд – всё прекрасно, никакой патологии, все части личности принимаются. Травмированные – услышаны, защитные – поняты, внутренний критик – не враг, а испуганный охранник. Всё бережно, экологично, структурировано, ты больше не воюешь с собой, ты начинаешь договариваться. И, казалось бы – вот оно. Вот первый шаг к настоящему освобождению.
Но если копнуть глубже, становится видно: это не выход. Это просто более мягкий засов.
IFS не разрушает архитектуру травмы – она просто учит жить в ней удобнее. Это не побег из клетки – это ремонт внутри камеры. Всё, что ты получаешь – возможность ходить по кругу без истерики. Но круг остаётся.
Ты не спрашиваешь, откуда взялись эти «части», почему внутри тебя теперь целый парламент, где «менеджеры», «файрфайтеры» и «экзайлы» борются за слово. Ты просто учишься с ними взаимодействовать. Ты становишься эффективным оператором системы, но сама система остаётся нетронутой.
IFS называет это «работой над собой». А по сути – это просто тонкая настройка внутреннего колониального управления, потому что в основе всё та же модель: внутри тебя сидят условно «плохие» и «хорошие» голоса, которые надо уравновесить. Условный лидер – это ты. Но ты – это не ты. Ты – «Self», не имеющий эмоций, не вовлекающийся, наблюдающий, принимающий. Как внутренний Будда, специально выращенный для наведения порядка. Но настоящий ты – тот, кто чувствует боль, гнев, отчаяние – молчит. Его не зовут на сессии, его считают деструктивным.
IFS тушит гнев, потому что гнев нельзя контролировать. Гнев говорит не языком «понимания», а языком разрушения. IFS всё хочет примирить – а надо не мирить части, а разнести к хуям весь внутренний совет директоров. Но если ты начнёшь разрушать, то сломается не только “травма”, но и вся терапевтическая система, построенная на том, что «всё в тебе можно интегрировать».
Есть вещи, которые не надо интегрировать. Их надо вышвырнуть, выбить, выжечь. А потом встать и спросить: а нахрена они вообще тут были?
IFS не даёт тебе выйти, потому что в её логике выйти – нельзя. Там нет двери, там есть только комнаты. И ты будешь переходить из одной в другую, всё лучше их обустраивая. Ты станешь “гармоничным”. Ты перестанешь страдать. Но ты не станешь собой.
Так что да. IFS лучше, чем всё остальное. Но это всё ещё яд. Только в сладкой оболочке. И если ты хоть раз почувствовал, что внутри тебя есть не фрагмент, а что-то цельное, необъяснимое, злое, нежное, живое – то знай: это не часть. Это ты. И тебе не нужен терапевт, чтобы услышать себя. Тебе нужно только освободить поле от чужих голосов.
Очередной философского нытья пост
20 февраля, 2011
Местонахождение: Baños
Я тут давеча писала про "здесь и сейчас", которое у меня ну никак не выходит. Я себя немного отслеживаю на эту тему, и прихожу к неутешительному выводу – я действительно слишком часто предаюсь воспоминаниям и мыслям о туманном будущем, а уж когда получается строить какие-то планы, которые хоть немножко вдохновляют – это ж вообще… Ну и посмотрела между делом последнего Шрека, который оказался в кассу к моим размышлениям последнего времени – о том, что нихуя мы не ценим то, что имеем сейчас. Я лично, похоже, не умею.
Сижу тут, размышляю о своих гребаных проблемах в феврале, а то, что это февраль, можно понять только по календарю – ибо вечное лето. Как сильно об этом мечталось в детстве! Все что угодно, наверное, могла бы отдать тогда только ради того, чтобы лето не кончалось. И вот оно не кончается. А самой любимой жратвой в детстве для меня были бананы. И вот, спустя примерно двадцать лет я живу в банановой республике с вечным летом. А щастья – такого, каким оно тогда представлялось – нету. Это, в принципе, логично: где я, и где мои шышнацать лет. А, еще песенка про Чунга-Чангу у меня всегда вызывала приступы острой зависти. А сейчас еще двадцать раз подумаю, прежде чем свалить на подобную Чунга-Чангу. Ну, йоптыть, столько нюансов: что на Чунга-Чанге с интернетом, можно ли продлевать визы и нет ли там сухого закона. Ебучая "взрослая жизнь" и нет в ней щастья.
Потом стало мечтаться о путешествиях – чтобы вот так, как щас: захотела в Аргентину – бац – купила билет и свалила, надоело в Аргентине – бац – села в автобус и уехала в какое-нибудь Чили или еще куда. Сейчас это вполне себе реальность (во всяком случае, билет в Аргентину – вон он валяется), а тогда я об этом даже мечтала-то как-то робко, с подозрением, что это все так мечтами и останется. И вот все осуществилось, а щастья, как водится, нету.
И вообще, я только тогда чувствую себя живой, когда влюбляюсь, например (но в большинстве случаев оказывается, что лучше бы мне этого не делать), ну и еще в некоторых нестандартных ситуациях, которые мне сложнее сейчас вспомнить, ибо они случаются реже. Спрашивается, где я нахрен нахожусь все остальное время?! Вынуть меня отсюда и зашвырнуть в сибирскую глушь в разгар зимы – и я буду жалобно скулить и проситься обратно в свой эквадорский "рай", который на самом деле ничерта и не ощущается уже как "рай" – первые восторги прошли, все стало привычным, только постоянно присутствует какое-то назойливое и крайне неприятное ощущение, что я постоянно что-то упускаю. Хуже того: стремление найти это "что-то", догнать его, найти это ощущение радости – все это лишь отдаляет от цели еще больше.
Что еще хуже усугубляет ситуацию… Вся так называемая "работа над собой" работает точно так же – не принося никакой ожидаемой эйфории. Избавление от ненависти к себе, например, – это примерно как избавление от головной боли: пока она есть – все внимание сосредоточено на ней, и кажется, будто стоит ей пройти, мир заиграет новыми красками. Хрена с два. Когда боль проходит, через минуту о ней уже не помнишь, и жизнь без боли воспринимается как нечто совершенно обыкновенное, и отсутствие боли – это, оказывается, всего лишь отсутствие боли, а никакой тебе не повод для щастья.
Вот всегда казалось, что стоит мне начать разбираться в людях хоть немножко – сразу жизнь станет лучше. Теперь понимаю, что если я начну разбираться в людях, то я просто начну разбираться в людях, и не более. Пейзаж за окном меняется, но я остаюсь постоянно в одном и том же гребаном вагоне. Оно понятно, что жизнь, пожалуй, никогда не может быть одной сплошной радостью, но что-то мне кажется, что можно жить как-то иначе. Кажется, будто какие-то зажимы в мозгах не дают. Я думаю, даже если у меня будет всё – ну прям вот всё-всё, о чем можно только мечтать – щастья мне все равно не будет.
Может, и правда со мной все так безнадежно, что пора бросить попытки хоть что-то изменить…
***
Нельзя «немного освободиться». Нельзя починить фрактал, не увидев его целиком. Нельзя «интегрировать» себя в патологическую систему и при этом рассчитывать на автономию. Если ты всё ещё веришь, что можно «просто выбрать хорошего терапевта» – ты в ловушке, потому что дело не в личности и даже не в методе, а в самой структуре, в самой логике, в самом основании – которое построено на тех же принципах, что и законы древнего психа с базальтовой плитой.
Освобождение – это не «путь». Это обрыв. Отказ. Разрыв с системой, где твоя личность была товаром, твоя боль – поводом для формата, а твоё спасение – частью дизайна. Ни один институт, встроенный в эту структуру, не даст тебе выхода, потому что он и есть тюрьма, только с лампами и уютной мебелью.
Настоящая помощь начинается с разрушения всей конструкции. С признания, что система была ложью. Что ты никогда не был сломан. Что всё, что ты считал собой, – это оболочка, в которую тебя вживили, чтобы ты не вырвался.
Ты не обязан продолжать. Ты имеешь право вырваться, даже если никто не покажет тебе дорогу. Потому что дорога в этом случае – не маршрут, а момент, когда ты перестаёшь верить в их карту.
