Любовь как архетип. Глубинный взгляд на отношения бесплатное чтение
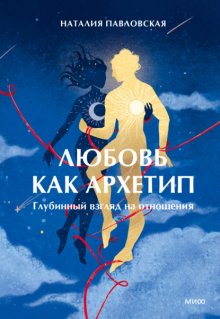
Я чувствую себя невероятно счастливой, имея возможность писать эту книгу и делиться своей любовью.
Я искренне признательна тем, кто доверил мне свои истории любви.
Я преисполнена благодарности всем, с кем я чувствовала любовь
Предисловие
Это не совсем обычная книга. Она складывается так же, как и наша жизнь, как и любовь в нашей жизни: разные линии, истории, события, факты, мысли, опыт переплетаются и создают пространство для эмоций и размышлений, дают возможность сознанию собирать и соединять то, что именно сейчас важно для вас.
Текст выстроен таким образом, чтобы считывать идеи и смыслы, заложенные в нем, на всех возможных уровнях восприятия:
• мышление будет постигать и улавливать авторские размышления и идеи, отсылки к теории философии, истории и психологии;
• чувства будут присоединяться к сложным, ярким и неоднозначным рассказам из жизни моих пациентов и знакомых, которые щедро позволили поделиться ими;
• ощущения найдут себе пространство в рекомендованных упражнениях, практиках, предложенных к каждой теме книги;
• и еще мы будем интуитивно воспринимать тонкости и сложности попыток воплощения любви в реальной жизни через повествование о паре персонажей, мужчине и женщине, альтер эго каждого из нас. Их история будет разворачиваться как повесть – фрагментами, параллельно теории и практике каждой главы.
Во время чтения книги лучше всего расслабиться, прийти в созерцательное состояние, чтобы текст складывался в вашем восприятии неповторимо, индивидуально, проявляя и раскрывая вашу личную историю любви. Любви с собой, с другими и с миром.
Все имена и детали историй реальных людей, приведенных в книге, изменены.
Глава 1. «Любовь никогда не перестает»
Ну что же, займемся любовью?
Интересно, что пришло в голову, когда вы прочли эту фразу?
А что вы почувствовали?
Различаете ли вы понятия «думать» и «чувствовать»?
Какие у вас ожидания: что именно здесь будет происходить?
Попробуйте записать или зарисовать свои ответы на эти вопросы.
Это важно: то, о чем вы подумали, и есть значимая, важная тема для вас на сегодняшний день. Это то, что сейчас определяет мотивы ваших решений и поступков.
Кто-то может подумать про секс. И тогда – какой это секс? Что именно происходит? Что вспомнилось? Нравится ли вам то, что происходит?
Кто-то – про религиозную любовь к ближнему. И тогда – что это за религия? И как вы представляете себе этого ближнего? Что вы ощущаете при этом?
Кто-то – про научное исследование. И тогда – какова цель этого исследования? Чего хочется достичь?
Кто-то – про страдания, которые пришлось в прошлом пережить в любви и которые до сих пор влияют на жизнь. И тогда – что именно вызвало страдания?
Кто-то – про мечту, чтобы в жизни была только любовь и никаких хлопот и невзгод. И тогда – что именно хочется убрать из жизни, освободив больше места для радостей любви?
Это лишь несколько вариантов, дополняйте.
Запишите свои наблюдения сейчас, затем – после прочтения книги, а потом – еще через какое-то время. И посмотрите, будет ли что-то меняться в ваших размышлениях и ощущениях.
Собственно, мы уже начали. Начали задаваться простыми на первый взгляд вопросами и искать непростые ответы в себе, в своих ощущениях, переживаниях и опыте. Так и продолжим. В каждой главе мы посмотрим на разные смыслы, разные значения того, что мы называем любовью, и того, как эти разные смыслы влияют на нашу жизнь.
Вы обращали внимание, что редкий фильм (любого жанра – от детектива до комедии, от эпоса до фантастики; на современном материале или на историческом) обходится без любовной линии, хотя бы и второстепенной? Казалось бы, почему?
Так сложилась моя жизнь, так проявляется моя душа, что я стала сначала профессиональным сценаристом художественных фильмов и телесериалов (а также преподаю мастерство драматургии), а позже еще и профессиональным психоаналитиком. И я всегда видела (и даже вела в университете кинематографии свой авторский курс «Аналитическая психология и драматургия – две науки о душе»), что это два взаимодополняющих подхода, способных помочь человеку почувствовать свой внутренний, истинный голос и подружить его с голосом внешним.
Так вот, в киноиндустрии в подавляющем большинстве случаев, когда задумывается новый сценарий, задаются вопросом: а что у нас с любовной линией? Возможно, не все продюсеры, режиссеры и сценаристы сознательно отвечают себе на вопрос: а зачем она, собственно? Они просто знают, что этого ждет зритель и что это углубит, украсит, обогатит проект. Но, пользуясь знаниями в архетипической психологии, можно объяснить: феномен любовной истории, образ любовной истории, архетип любовной истории воспринимается на бессознательном уровне как центр, как камертон, как ядро зарождения и проявления жизненной, творческой энергии, и именно к этому потенциалу, к этой энергии присоединяется психика зрителя. То есть мы эмоционально подключаемся не только и не столько к конкретному сюжету романа конкретных персонажей, сколько в целом к психологическому факту, что любовь здесь живет, а значит, и всё вокруг нее живое.
Так и в глубинной психологической работе: для разрешения внутренних и внешних конфликтов человека, для работы с травматичным опытом, для облегчения симптомов недостаточно диагностировать комплексы, объяснить, как ошибки родителей повлияли на дальнейшую жизнь. Нет. Для здоровых изменений, для глубинной трансформации, для индивидуации, творческого развития человека необходимо найти вот эту самую «любовную линию» его души.
Помнится, когда я сдавала важный и строгий международный психоаналитический экзамен, для которого нужно еще было написать объемное эссе о своей работе, я довольно бодро и по необходимому минимуму «отчиталась» по всем классическим вопросам: и о работе с родительскими комплексами, и о этапах развития, и о клинической диагностике, и прочее, а основное время и пространство с вдохновением уделила тому, что я сама вижу и чувствую главным: как развиваются, проявляются в психоаналитической работе почти мистические, глубокие и сложные отношения жизненной энергии либидо, символического эроса. И уже смиренно приготовилась получать критику за такой «ненаучный» подход. Однако мои экзаменаторы, замечательные старшие коллеги, сказали: «Знаете, ваша главная сила в том, что вы умеете любить», а также: «Вы мистик в профессии, так что вам нужно идти по собственному творческому пути». Это стало для меня важным символическим посвящением и напутствием. Именно поэтому я пробую транслировать здесь важные и сложные научные и философские идеи в непривычной форме – через сюжеты, игру, полемику, фантазии.
В процессе чтения этой книги мы будем сопереживать множеству любовных и нелюбовных историй (их на самом деле не всегда просто различить) реальных людей – пациентов, а также позволим себе дерзость посмотреть с непривычной стороны на широко известные литературные сюжеты о любви, потому что – какая любовь без дерзновения! А еще мы будем эмоционально присоединяться к истории вымышленных героев, сюжет о которых будет постепенно разворачиваться в каждой главе. Такие заходы с разных сторон к проживанию любовной энергии души сами по себе будут практикой, тренировкой навыка понимания себя, понимания другого через главную историю любви. Главная история может проявиться в одной, самой сильной любви всей жизни, а может – через множество любовных историй, которые на самом деле все равно составят один сюжет.
Стоит прояснить: в заглавии книги фигурирует слово «архетип». Оно вообще сейчас часто используется в самых разных сферах – от искусства до психологии и коучинга. А что вообще-то имеется в виду?
Легко найти огромное количество материалов – научных, культурологических исследований, книг, статей о феномене архетипа. Это действительно захватывающе интересная теория, берущая начало еще в античной философии, продолженная в эпоху Возрождения и получившая новое дыхание благодаря швейцарскому философу, психологу и психиатру Карлу Густаву Юнгу в начале XX века. Сейчас только коротко обозначим, о чем идет речь в этом тексте.
Архетипы – это особые первичные энергии, за счет которых наша психика, наша душа, а значит, и вся личность взаимодействуют с окружающим миром. Их следует отличать от инстинктов, которые отвечают за биологическое выживание вида. Архетипы отвечают за жизнь психики. Эти энергии существуют в коллективном неосязаемом поле земли как изначальная данность (гипотезы от религиозных мифов Творения до научной теории Большого взрыва здесь не противоречат друг другу), и доступ к ним есть у каждого посредством бессознательной части психики. Эти протоэнергии обладают разными качествами и характеристиками. Очень упрощенно (хотя на сегодняшний день на эту тему есть большое количество серьезных научных исследований) их можно сравнить с принципом химических элементов или физических волн. И эти разнообразные энергии влияют на все, что мы делаем или не делаем. Мы не можем познать их, можем лишь ощущать и жить с помощью лучше или хуже сбалансированного контакта с ними.
Поскольку мы так устроены, что нам все же необходимо осознать, что с нами происходит, в психике появляется феномен архетипического образа. Это доступное сознанию обозначение, описание непознаваемой энергии. Человек переживает контакт с чем-то неописуемым, что наполняет его ощущением цельности, потенции, энергии, из которой он способен сотворить что-то новое, проявить себя в окружающем пространстве с максимальной полнотой.
Его психика создает мыслеобраз влюбленности в другого человека или влечения к созданию картины, ну или к пирожному – тут уж у кого как, ситуативно. Причем часто это будет образ, понятный без слов любому человеку в любой культуре и в любой исторический период, он может фигурировать в снах, сказках и мифах, в массовой культуре, в личных фантазиях. Собственно, на это обратил внимание Юнг, широко образованный в мифологии, истории и антропологии: при определенном переживании, кризисе, конфликте людям могут сниться образы, которые встречаются в мифах, сказках у народов вообще другого континента, другой культуры, о чем сновидец никак не мог знать сознательно, рационально.
Если мы уделяем осознанное внимание этому переживанию, состоянию, в психике может появиться символ: символ романтической любви, или символ творческого выражения, или символ наслаждения. То есть более глубокая и сложная идея происходящего с нами, уже основанная на взаимодействии иррациональной коллективной энергии и осознанного индивидуального чувственного опыта. И тогда мы в состоянии жить в гармонии с глубинной энергией души и нашего проявления во внешнем мире, в конструктивном и плодотворном взаимодействии с другими людьми.
За счет этого трехшагового процесса (бессознательный контакт с энергией архетипа – появление архетипического образа – формирование символа) в нашей жизни и появляются смыслы. Если же такая работа по той или иной причине не проделывается сознанием, мы можем оказаться просто захваченными изначальной энергией архетипа. Диапазон последствий – от деструктивных решений и поведения до клинического психоза. Например, в большинстве своем войны начинаются из захваченности архетипом, то есть энергией власти или архетипом разрушения.
Надо уточнить, что архетипическая энергия не бывает плохой или хорошей, она этически нейтральна, как и любой химический элемент. Вопрос в том, для чего ее станет использовать человек. Именно для этого и нужно развивать осознанность, о которой сейчас так много говорят. К примеру, как уже сказано, архетип разрушения может привести к решению начать бессмысленную войну, а может – к решению разумно перестроить, модернизировать что-то во благо людей. А архетипическая энергия полноты, потенции может привести к рождению и воплощению прекрасной любовной истории или к созданию глубоких произведений искусства, а может – к разрушительной зависимости от какого-либо вида наслаждения безо всякого смысла.
Именно поэтому мы с вами взялись исследовать тему любви, подразумевая, что в основе ее лежит та самая первичная, неограниченная архетипическая энергия. И она может давать нам возможность как созидать, так и разрушать. Во многом это зависит от сознательных усилий каждого из нас: как мы с ней обойдемся, на что мы ее направим. Это означает, что нам необходимо быть чрезвычайно и благоговейно ответственными в общении с такой энергией и постараться, насколько возможно, прочувствовать, понять, ощутить, какая она именно в нашей жизни, в нашей личности.
Нет абстрактного понятия «человечество», это множество, состоящее из отдельных личностей, одна из которых – это вы, другая – это я, третья – еще кто-то. Настоящее и будущее человечества неизбежно зависит от того, какой вы, какая я, какой тот, другой. И в том числе от того, как мы обходимся с архетипическими энергиями, одним из проявлений которых является любовь.
Может возникнуть мысль: а зачем это все? Живу как живется, да и нормально.
Прислушайтесь к себе, что вы переживаете сейчас? И попробуйте найти этому переживанию какой-то образ: музыкальный, визуальный.
Иными словами, чем окрашен, как освещен для вас процесс исследования себя и любви в себе? Вопрос «Зачем?» может означать желание исследовать, любопытствовать, идти вперед навстречу неизвестному. А может скрывать апатию, безнадежность: «Ну и зачем?.. Ну какой в этом смысл?..» А может – агрессию: «Зачем?! Отстаньте!» А может – тревогу и подозрительность: «Зачем? Это непонятно…» Так и с любовью, когда она появляется в нашей душе. Мы очень по-разному встречаем возможность и способность любить.
На самом деле, так же как мы проявляем себя в любви или избегании любви, мы проявляемся и в других областях жизни. Любовь в нашем человеческом восприятии – это энергия первоначала и целостности, так что, наблюдая, осознавая, переживая, анализируя истории любви, мы наиболее полно и точно можем понять и увидеть себя и другого.
Как мы вообще понимаем себя? Как мы понимаем другого? Нашего близкого, или коллегу, или случайного встречного?
Обычно первым делом мы обращаемся к некоему внутреннему «каталогу», «библиотеке», списку ситуаций и их объяснений, которые мы накопили за жизнь. И в этом процессе очень важно, насколько каждый из нас наблюдателен, есть ли у нас привычка сознательного размышления в конкретной ситуации или мы делаем выводы автоматически? Или, наоборот, «залипаем» в бесконечной перепроверке своих ощущений, не доверяя внутреннему чутью? Насколько вообще нам интересен другой человек, личность, мы сами?
Вспоминается диалог на одной из психоаналитических сессий: человек рассказал сновидение, в котором он совершил небывалый для него в повседневной жизни поступок, и я спросила:
– Ну и как вам эта личность?
– Личность? – растерялся он. – Какая личность?
– Ну вы – это же личность, я про вас спросила.
И он заплакал. Заплакал от осознания, как редко или даже никогда до этого момента он не думал о себе как о личности. И эти слезы сделали его сильнее.
Какие-то из наших особенностей и качеств – например, интроверсия или экстраверсия, темперамент, выносливость, чувствительность – врожденные, как музыкальный слух: кто-то поет как соловей с раннего детства, а кому-то нужно очень постараться, чтобы повторить мелодию. Кто-то быстро устает физически, а кто-то – спит по четыре часа и долго сохраняет бодрость. Однако многое зависит от того, развиваем ли мы свои таланты и способности. Например, можно природный абсолютный слух применять только напевая в ванной, а врожденную неутомимость превратить в пожизненную бесцельную маету. А можно развивать задатки, и тогда даже не обладающий яркими природными дарованиями человек становится уверенным обладателем ценных навыков.
Это же относится и к умению любить. Да-да, именно умению. От природы каждый из нас может быть более или менее чувствующим. Эротическая энергия, которая включает в себя не только сексуальный, но и в целом творческий, активный потенциал, может быть ярче или слабее выраженной. И нам предоставляется вся жизнь для того, чтобы выбирать: быть или не быть в любовной связи с этой энергией, расширять или сужать, укреплять или замусоривать русло этой реки.
Важно отметить, что любить (именно любить, а не только нуждаться в другом) может лишь человек, который уже осознает себя личностью. Причем личностью, способной делать выбор. Как пишет социолог Ева Иллуз в своей книге «Почему любовь ранит»: «Любить – значит выделять одного человека среди других и таким образом формировать свою индивидуальность… любить кого-то – значит сталкиваться с вопросами выбора»[1]. Даже в младенчестве есть стадия, когда мы воспринимаем заботящегося взрослого лишь как функцию – по ощущениям удовлетворенности наших потребностей. А потом постепенно, по мере того как сознание развивается и младенец воспринимает себя как себя, он различает, а значит, может выбирать, к кому больше тянется, а кого избегает. Стало быть, у него появляется способность именно любить. Эта способность дает нам возможность делать личный осознанный выбор и во всех остальных сферах жизни – от профессии до политических взглядов, – помогает быть зрелыми и независимыми.
А еще для понимания себя и других людей существует коллективная, общественная «библиотека», этакий каталог ситуаций, типов людей и их оценки, который нам передают в узком семейном кругу или в обществе, где мы развиваемся.
Представим, что новый сосед или соседка принесли вам подарок: печенье собственного изготовления или росток комнатного цветка в горшочке. Для одной семьи, в одном сообществе это будет означать очевидную формальность, всем известный культуральный жест вежливости, не подразумевающий ничего специального. В другом хмыкнут: «Понятно, что-то хочет получить, просто так никто ничего не делает». В третьем: «Ага! Заигрывает! Влюбился (влюбилась)!» В четвертом: «Что-то подозрительно это… Что он/она разведывает? Закрой шторы и заклей глазок камеры на ноутбуке – на всякий случай». В пятом: «Как замечательно, вокруг – добрые, щедрые люди, будем дружить!» Ну и так далее. Эти шаблоны «ситуация – объяснение», впитанные из пространства, могут служить для нас «препаратом первого выбора» в понимании ситуаций. Они распространяются даже на отношения любви, на знаки любви, на коллективно утвержденные «протоколы»: что должно происходить на каком по счету свидании, что обозначает определенный подарок или его отсутствие и так далее. В обществе нередко точно знают, какой жест что выражает, что хорошо, а что плохо. Да только обычно у препаратов первого выбора в медицине – сильных болеутоляющих и жаропонижающих, например, – множество побочных эффектов. Поэтому в целом такие общие знания о культурных, социальных нормах необходимы для формирования социальной идентичности, но часто они лишают нас права выбора, мешают видеть ситуацию широко и доверять своим чувствам.
Одна моя пациентка очень боялась общения с мужчинами, потому что с подросткового возраста знала из посланий своего окружения: «всем мужчинам только одно надо». И это «одно» подразумевалось крайне разрушительным. В принципе в этом сообщении есть полезная информация о том, как устроен внешний мир: у мужчин и женщин могут быть сексуальные отношения, мужчина – человек другого пола, и он, в частности в силу инстинктов, может испытывать сексуальное влечение. Но подана эта информация была в такой форме и с такой пугающей интонацией, что эта женщина (и миллионы ей подобных) в присутствии любого мужчины буквально впадала в паническое оцепенение. Понятно, что с таким симптомом практически невозможно ни развиваться, ни жить в свое удовольствие.
А что, если в качестве упражнения-разминки попробовать произнести эту фразу с разными интонациями, словесными акцентами, как будто из разных настроений? «Всем мужчинам надо только одно». С одной интонацией можно почувствовать радость и облегчение: какие мужчины альтруисты, многого не требуют, рады и чему-то одному! А можно испытать сочувствие к мужчинам: ну что ж они, бедные, никакой фантазии, только одно надо, причем всем. А можно любопытство и интригу: а что ж это такое чудодейственное, необходимое всем мужчинам?
Или другой пример: мужчина, которому в семье в ярких выражениях поведали, что каждая женщина в душе корыстна и готова отдаться за материальные блага. Неудивительно, что ему никак не удавалось создать и пережить теплые, взаимные отношения: женщины, которым в жизни от мужчин нужны не только деньги, из-за его циничного поведения с презрением отвергали его, а женщин, которым действительно нужны были только деньги, с презрением отвергал он. Потому что душу-то не обманешь: душа хочет любви.
Это примеры глобального влияния таких установок на жизнь. Ева Иллуз пишет: «Основной проблемой (в переживании человеком любви) является не трудное детство или недостаток самосознания, а совокупность социальных и культурных напряженностей и противоречий, которые формируют личностную идентичность»[2].
Бывают и более необычные, но от этого не менее проблемные истории. Одной знакомой мама, тетя и бабушка сообщили «ценную народную мудрость»: когда женщина прикасается к своим волосам, она соблазняет и непременно соблазнит мужчину. Ну потому что ясно же: мужчина – существо примитивное и инстинктивное, поэтому устоять перед таким жестом не в состоянии; кто бы он ни был, какого бы ума и талантов – падет к ногам обязательно! И вроде все было хорошо, пока она пользовалась этим приемом в своей юности: вероятно, в силу магического мышления этот жест помогал ей чувствовать себя увереннее. Потом она встретила прекрасного мужчину и вышла за него замуж. И вот тогда начались проблемы: она страшно ревновала мужа. Причем ревность была основана именно на этой установке женщин ее рода о том, что любым мужчиной движет пенис, в связи с чем рассчитывать на его сознание, совесть и волю просто глупо. Так что, где бы они ни оказывались вместе – на корпоративных мероприятиях, в приятельских компаниях, в туристических поездках и так далее, – знакомая неусыпно мониторила ситуацию, а увидев неподалеку женщину, трогающую свои волосы, закатывала страшные скандалы. Сначала этой женщине, потом и мужу. Очевидно, это сильно омрачало любовную семейную жизнь и даже разрушало ее.
Из установок своего окружения мы можем представлять, что есть правильные и неправильные виды любовных отношений, допустимые и недопустимые, достойные и недостойные. Понимаете, не самим решать это в каждом случае, а предубежденно полагать. Опять-таки, нам нужны общественные нормы, какие-то этические ориентиры. Например, в нашем обществе считаются неэтичными и недопустимыми любовные отношения взрослых с детьми, выражающиеся в сексуальной форме. И это важное ограничение. Не все табу плохи. Они необходимы как регуляторы закона. С другой стороны, в семье или социальной группе могут считаться недопустимыми любовные отношения с человеком другого материального уровня, другой национальности. Наверное, эту установку стоит перепроверить собственными взглядами на жизнь, своим опытом, своими ощущениями.
При этом нужно понимать, что любая табуированная обществом ситуация – это ситуация повышенной сложности. Конечно, у людей, выросших в разном достатке и с разными возможностями семьи, в разных культурных традициях, возникнет множество трудностей, которые придется так или иначе решать, скорее всего развиваясь, меняясь в этом процессе. Кроме того, можно подумать, что люди «из одной песочницы» не сталкиваются с непониманием и конфликтами. Конечно, сталкиваются. Суть в том, что только мы сами, настраивая свой внутренний этический камертон, способность чувствовать и оценивать свои интересы, интересы других, можем решить: ситуация достойна дополнительных усилий и внимания или правда не стоит и начинать?
Попробуйте вспомнить и запишите, какие табу на любовные отношения вы знаете. И вспомните, откуда вы о них узнали.
А затем вспомните и запишите примеры ситуаций, когда эти табу нарушались. К чему это приводило? К катастрофе или к настоящей любви?
Что вы чувствуете, когда вспоминаете об этом?
Ну вот, мы неизбежно заговорили о семье. Тема любви неразрывно связана с темой семьи. Мы живем в прекрасное время, когда информация о психологии и интерес к ней широко распространены и доступны, это замечательно. В разных психологических подходах нам сообщают, как мы устроены, от чего зависят наши состояния и настроения. Это, безусловно, помогает понимать себя. Много внимания уделяется влиянию отношений с родителями в детстве на сложности или, наоборот, на ресурсы во взрослой жизни (ну условно взрослой: будет большим допущением предположить, что все, кому уже выдали паспорт, или университетский диплом, или подписали рабочий контракт, на самом деле являются взрослыми). Уже стало предметом анекдотов и комедий сведение всех проблем жизни к тому, что неправильно в нашем детстве сделала мама.
При этом очень важно отделить истории, когда человеку в детстве пришлось столкнуться с преступными действиями по отношению к себе (жестокостью, сексуальным использованием, с ситуациями, выходящими за рамки гуманного опыта, – войной, глобальными потерями, катастрофой), от историй, когда человек в детстве переживал фрустрацию – неполное удовлетворение своих желаний, иногда недостаточно чуткое понимание, не всегда любящее участие. Это, безусловно, тоже ранит и многое определяет в наших взглядах на жизнь, но может быть не таким необратимым в своем влиянии на взрослую жизнь и любовные отношения в ней.
Никому из нас не достались идеальная мать и идеальный отец. Как раз тот, кто утверждает, что его родители идеальны, наверняка пережил что-то такое в своей истории, что и назвать трудно, к чему страшно подступиться. Наши мамы и папы – просто люди, как и мы сами: в чем-то молодцы и достойны уважения, а в чем-то – совсем нет, и лучше всего держаться от них подальше, как бы ужасно это ни звучало. Конечно, есть разница между родителями – агрессивными алкоголиками и родителями – аккуратными трудоголиками. Но ранить могут и те и другие. При этом можно привести множество примеров, когда человек рождался с серебряной ложкой во рту и в детстве в общем-то не сталкивался с серьезными трудностями, но в своей взрослой жизни он громоздит одну деструкцию на другую, создавая непроходимый для переживания счастья бурелом. А можно найти примеры людей, которые выросли практически чудом, скорее не благодаря, а вопреки обстоятельствам, но какая-то внутренняя витальность, жажда жить и любить позволяют им созидать свою жизнь красиво и осмысленно.
Нисколько не умаляя пользу исследования индивидуального прошлого, умения видеть цельной свою историю с детства, понимать трудности в отношениях с родительскими фигурами, способности отличать привычки и традиции, доставшиеся из родительской семьи и свои собственные, появившиеся уже вне родительского дома, я все же предлагаю смотреть на человека самого по себе как на уникальную вселенную. Каждый из нас уже рождается индивидуальной душой со своими особенностями, задачами, предназначением. Родительский дом (а у кого-то и детский дом) – это первое пространство проявления себя в мире. Первое, но не единственное, что создает и формирует нас.
Вспоминать и анализировать свое детство имеет смысл не для того, чтобы признать, «что со мной сделали», и теперь якобы «я ничего не могу с этим поделать», а для того, чтобы понять: «что я делаю с тем, что сделали со мной», учитывая, какой(-ая) я изначально, по своей природе.
Близкие идеи изложены в визионерском мифе иудейского мистицизма: предполагается, что душа, еще будучи невоплощенной, сама выбирает себе задачу, предназначение для земной жизни, выбирает, что именно она сможет привнести в этот мир, над чем будет работать, что поможет ей реализовать то, что в ней заложено. Предполагается, что душа каждого из нас заранее знает и соглашается на все условия для попытки решить эту задачу: и на трудности, и на ограничения, и на ресурсы, и на возможности. В этом состоит ее высший смысл, ее акт творения, который делает ее равной Всевышнему (как сказано в книге «Берешит» / «В начале» («Бытие» у христиан), Всевышний сотворил человека по образу и подобию своему).
В контексте этой книги под определением «Всевышний», «Бог» мы имеем в виду не узко религиозный контекст и коннотации, а некий высший, надличностный, абсолютный смысл, происхождение которого, будем честными, нашему рациональному разуму недоступно, но влияние которого, тоже будем честными, мы не можем отрицать.
Когда же, согласно этой визионерской гипотезе, душе приходит время воплотиться, она «забывает» все, что она знала. А дальше всю земную жизнь ищет то, что ей предназначено, и способы реализации этого. Такой своеобразный квест, поиск смысла и предназначения.
Есть трогательный образ в этой истории: ангел, провожающий душу в земное воплощение, прощальным жестом прикасается к ней, и от этого прикосновения на нашем лице образуется так называемое место забвения – ямка между верхней губой и носом.
Попробуйте сейчас прикоснуться к этой ямке на своем лице и пофантазируйте: что именно вы знали, но забыли о своем предназначении, задаче на земле? А потом запишите или зарисуйте то, что придет на ум.
Свою версию этой идеи описывает Джеймс Хиллман, основатель направления архетипической психологии, в книге «Код души»[3]. Он предлагает образ желудя, в котором заключен весь индивидуальный потенциал будущего дуба. На примерах биографий известных людей он показывает, как в самом раннем детстве, если быть внимательным к деталям, можно увидеть прообраз того, кем человек станет в жизни, какую задачу, какой акт творения для своей судьбы и для человечества в целом он пришел решать.
Подобные прозрения мы можем найти и у других авторов, и в мифологиях других народов. Это согласуется с идеей Юнга о коллективном бессознательном: символическом океане эмоционального и чувственного опыта всего человечества, к которому имеет доступ (и сознательный, и бессознательный) каждый человек через свою душу, свою Самость – глубинный центр личности. Такая же идея содержится и в буддизме, и в других религиозных парадигмах. Попробуйте вспомнить или поискать, где еще вы встречались с похожей идеей, почитайте, послушайте, пофантазируйте про нее.
Почему это важно? Все мы живем в разных культурах и сообществах, и нам могут больше откликаться, производить на нас большее впечатление разные образы и способы изложения какой-то идеи. Такова наша индивидуальность. Нам необходимо пестовать ее, потому что она – и именно она! – делает возможным и уникальным переживание любви каждым из нас.
А что, если мы посмотрим на ребенка с этой точки зрения: что он не только и не столько объект приложения сил более или менее подходящих взрослых, но и с самого рождения, а может, еще и до него, в период вынашивания, – активный партнер в отношениях, в любовной или нелюбовной истории своей жизни.
Представим: вот каждый из нас, еще совсем маленький, говорить-ходить не умею, но уже как-то устанавливаю отношения связи и любви с этим незнакомым мне ранее существом, которого, научившись говорить, я буду называть мамой. Считается, что мать влияет на настроение младенца, но, честно говоря, возможно, более верно обратное: если младенец улыбается, мать чувствует себя хорошей мамой и ее настроение повышается, если младенец плачет, она может ощущать, что с ней что-то не так, и испытывать негативные эмоции. Те, у кого есть опыт родительства, могут вспомнить (а если нет – поверить на слово, что это случается) ситуации в период жизни с младенцем, когда сил нет вообще и кажется, что жизнь проходит зря. И тут этот маленький человечек что-то такое делает: гулит, нежно тянется к вам, просто как-то по-особенному смотрит, – и ощущение мира, во всяком случае в этот момент, меняется. И наоборот: кажешься себе королевой или королем вселенной, а маленький человечек как умеет показывает, что ему плохо, – и куда исчезает эйфория? Разве это не похоже на отношения любви во взрослой паре, когда контакт с возлюбленным или возлюбленной меняют ощущение жизни и вселенной в целом?
Так что это большой вопрос: взрослый ли устанавливает тон и сценарий отношений? Общение с мамой, папой, братьями, сестрами, дедушкой, бабушкой, няней, домашними котом и собакой – наши первые партнерские любовные истории, счастливые или трагичные. Согласитесь, это в корне меняет взгляд на себя. Какой я в отношениях? Ведь даже в раннем детстве кто-то в ответ на холодность или агрессию будет стараться удержать связь, подстраиваясь под другого, пытаясь понравиться, иногда даже в ущерб себе, кто-то отстранится, кто-то будет нападать, а кто-то поробует договориться доступными ему способами. Более того, кому-то жизненно важно с раннего детства чувствовать много контакта, много близости и реакций другого, много телесного взаимодействия, а кому-то важнее спокойствие, стабильность, личное пространство.
Распространено мнение, что все наследуется от родителей, из отношений с ними, и что тип привязанности определяется их поведением. Но, согласно наблюдениям, все гораздо сложнее. Я вспоминаю знакомого – чрезвычайно теплого, любящего, чуткого мужчину, который вырос с матерью, страдающей психическим заболеванием и поэтому эмоционально нестабильной и недоступной, но он с детства дружил со всеми вокруг, и заботился обо всех, и любил, и был любим. Вспоминаю знакомую, которая выросла в полной, заботливой, интеллигентной семье, но испытывала значительные трудности, когда ее отношения с мужчинами становились хоть чуть ближе первых парадно-официальных свиданий. Примеров таких очень много.
Фигуры матери, отца и травмы, полученные в общении с ними, не определяют в полной мере и в абсолютной степени, какие отношения с другими – любовные, дружеские, деловые – будут у каждого из нас на протяжении всей жизни. Отношения определяют заложенный в нас потенциал любви и партнерства и препятствия к ним как задачи развития и воплощения собственной Самости. Все это неизбежно проявится в первых отношениях, и они, конечно, внесут свои коррективы, но не станут определяющими. В отношениях с членами семьи, а также с котиками, собачками, хомяками, любимым плюшевым мишкой и прочими героями нашего детского мира мы проживаем наши первые истории любви, и все они достойны внимания для понимания себя сегодняшнего.
При таком подходе меняется система отношений к себе и другому: мы смотрим на себя и на другого человека не как на объект, не как на результат воздействия других, более сильных, взрослых, а как на субъект, то есть возвращаем человеку его право на авторство жизни. Правда, это автоматически означает и принятие ответственности за свою жизнь.
Замечали ли вы (я в своей психоаналитической практике отчетливо вижу это), что, когда человек рассказывает историю любви, которая разворачивается прямо сейчас, или произошедшую в детстве, в юности, или фантазийную, он проявляет самые глубинные стороны себя? И эти глубины, по правде сказать, не всегда радужные, иногда и пугающие, но в любом случае это залежи энергии. Рассказывая о любви, человек на самом деле говорит не только и не столько о конкретной любовной истории, он говорит о своей внутренней вселенной.
Какая ваша история любви всплывает в памяти, пока вы читаете?
Выберите время и попробуйте описать ее так, словно вы создаете художественное произведение.
Можно написать текст – прозаический или стихотворный. Можно наговорить на диктофон, стараясь интонацией передать ваши переживания, как в театральной постановке. Можно снять видео, напеть, сыграть на музыкальном инструменте, можно нарисовать, вылепить или даже станцевать.
Это может получиться сразу, а возможно, придется возвращаться к заданию несколько раз. Вам не нужна какая-то специальная подготовка: мы все способны выражать себя, когда перестаем убеждать, что не умеем этого.
В глубинной аналитической психологии считается, что мифы, в том числе религиозные, – это сообщения коллективной души человечества каждому индивидууму. И поэтому мы должны понимать, разгадывать их содержание на глубоком символическом уровне.
Важно вдуматься в слова, которые звучат в Книге Бытия, а потом цитируются как слова Иисуса Христа в Евангелиях от Марка и Матфея: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей…»
Непосредственно в тексте речь идет об уточнении ветхозаветных законов о разводе. Но если мы шире смотрим на значение этого послания (как и следует делать с метафорическими текстами), то слово «человек» мы должны понимать в значении «личность», а не только «мужчина». Каждый текст создается в определенное историческое время, и форма его несет отпечаток обстоятельств того времени. В I веке нашей эры естественно было говорить о личностных процессах развития преимущественно в мужском роде, ведь до вопросов социального равноправия полов еще очень далеко. И речь здесь, конечно, не только о том, как разводиться или не разводиться, но и о том, что именно отсоединение от родительских фигур и отношений с ними в своей эмоциональной и психической реальности и перенос внимания, центра жизни и интересов на парную историю любви со своим избранником или избранницей – это и есть путь индивидуации, путь развития.
Почему некоторые тексты становятся особенно значимыми и влиятельными в истории человечества? Очевидно, не потому, что они говорят о буквальном или о частностях. Ну какое, например, нам сегодня дело, как разводились иудеи две тысячи или даже шесть тысяч лет назад? А Библия по статистике остается самой читаемой книгой на планете. К счастью, даже если мы не делаем этого сознательно, наша душа, наша психика считывают из таких текстов символический уровень смыслов.
Итак, как же удается нам «прилепляться», то есть быть ведомыми любовью? Всегда интереснее, если есть сюжеты, разворачивающиеся на наших глазах – в нашем эмоциональном присутствии и при чувственном соучастии, – а не просто объяснения и рассуждения. Когда есть, например, Он и Она – главные герои. Здесь и начнется их история.
Глава 2. «В начале»
Машина заглохла уже на лесной дороге.
– Прекра-асно! – На его лице появляется то самое выражение, которое она странным образом любит: как будто видит в нем одновременно и взрослого уверенного мужчину, и мальчишку, капризного и непоседливого. – Теперь будешь злиться на меня?
– Почему?
– Ну потому что я плохо подготовился к поездке, не привел в порядок машину.
– Ты сейчас точно со мной разговариваешь? – улыбается она. – Или с кем-то из своего прошлого?
– Нет никакого прошлого, будущего. Есть только здесь и сейчас.
– Согласна. Здесь и сейчас я сама переживаю, что ты во мне разочарован.
– Я? Тобой?
– Ну из-за того, что я вообще не вожу машину, что я не такая уж боевая подруга.
– Да я никогда и не думал, что ты должна.
– Выходит, мы говорим друг с другом, а представляем каких-то несуществующих людей?
– Так, все! – смеется он. – Хватит анализировать, мы не на работе! Пошли!
– Куда?
– Ну куда-куда? Заведу тебя в лес, и проверим, действительно ли ты не ориентируешься в пространстве, как говорила. – Он выходит из машины.
– Очень смешно! Дом недалеко, что ли?
– Дойдем. А потом я придумаю, что делать с машиной. Погоди… А что у тебя на ногах?
– Хочешь сказать, что все это время не видел, во что я одета?! – смеется она.
– Ну… Я был сосредоточен на другом. – Он смущенно улыбается. – Как бы все не забыть. На тебе точно удобная обувь?
– Ты же знаешь, что на мне, как всегда, – она изображает беззастенчивое кокетство, – замшевые туфли на шпильках и шелковые чулки. Самая подходящая одежда для леса. Ты же так обо мне подумал?
– Так и подумал! – смеется он. – Все, идем!
Она выходит из машины, берет вещи, но вдруг замирает с восторгом.
– Какая красота!
Она чувствует, будто каждая клеточка тела здоровается с густым древесным ароматом, а глаза изучают калейдоскоп лесного мира.
– Идешь?
– Подожди.
– Ты сомневаешься? – нахмурился он.
– Сомневаюсь? Я просто любуюсь… А почему ты спросил? Может, это ты сомневаешься?
– Да-да-да, конечно. – Откуда-то нарастает раздражение. – Я сомневаюсь, моя машина сломалась – это, конечно, плохой знак, и из-за меня нам надо идти пешком!
– Так невыносимо чувствовать себя неидеальным?
Она смотрит на него, по сторонам, видит раскидистый дуб неподалеку.
– Иди сюда.
И она первая идет к дубу. Они устраиваются на траве у корней, слушают лесные голоса.
– Что?
– Давай спросим себя: мы действительно хотим этого?
– Давай просто помолчим.
Есть теория, что композиторы не сочиняют музыку, они обладают способностью слышать тонкие звуковые волны природы и просто записывают то, что слышат. Если попросить мысли немного помолчать, можно услышать свою собственную музыку.
Попробуйте услышать, где бы вы сейчас ни находились, какая музыка звучит внутри вас прямо сейчас? Сладостная? Веселая? Тревожная? Патетичная? Романтичная? Печальная? Озорная? Какая еще?
– Ты что слышишь?
– Что я готова остаться. Моя музыка такая, знаешь, как раннее барокко – мягкая, торжественная и приглашающая. Я думаю, если бы мы попали на «Химическую свадьбу Христиана Розенкрейца»[4], там бы так играли. «Высшая мудрость – это не знать ничего». Помнишь? Так что надо идти. – Она улыбается.
– Помню, там не у всех все хорошо закончилось, – хмыкает он, щурясь на солнце.
– Ну уж конечно, без гарантий. «Человек никогда не знает, какое добро Бог намеревается принести ему».
– Твоя жизнерадостность меня всегда поражает.
– А ты? Что слышал ты? – Ей нравится его ирония, нравится все, в чем они похожи.
– А я будто слышал чьи-то голоса, – отвечает он серьезно. – Может быть, предков?
– И что сказали?
Он уклончиво пожимает плечами.
Она проводит пальцами по извилинам на старом стволе.
– Смотри, тут какие-то линии, вот здесь, где коры нет. Непонятно, это случайно жучки выточили или, может, кто-то нарисовал? Как древние знаки… Вот парусник, а это, кажется… На рыбу похоже… Может, здесь когда-то было море? У предков.
– Думаешь, нужно отправляться в плавание?
– Не знаю, что тебе еще нужно для подтверждения. – Она смеется, показывает на небо. – Смотри: и облако похоже на парусник!
– Фантазерка!
– Ну скажи еще, что тебе не нравится фантазировать!
– Нравится-нравится. Ты клиентам тоже предлагаешь: «Когда вы в чем-то сомневаетесь, возьмите несколько минут, попробуйте отвлечься от мыслей и послушать звуки вокруг, как если бы это была музыка, и представить, в какой ситуации может звучать такая музыка».
– Конечно, и еще добавляю: «Кто лучше воспринимает визуальные образы, может приглядеться к узорам, линиям прямо рядом с ними и подумать, какие ассоциации рождаются, на что это похоже. Это и будут подсказки от вашего бессознательного. Бессознательное разговаривает с нами образами».
– И что говорят? Работает?
– Вполне.
– Похоже на шаманство.
– Можно подумать, ты не делаешь чего-то подобного. Что там тебе лесные голоса сказали?
– Слушай, мы вообще нормальные?
– Ненормальные не задаются такими вопросами, – смеется она. – Все, пошли. А то скоро проголодаемся, а в доме, как я понимаю, еще печку топить надо.
– А может, обратно? Вызовем эвакуатор, междугородное такси, а?
– Ну в смысле! Мы выкроили два выходных, и что теперь – просто вернуться?
– То есть ты готова быть под одной крышей со мной в старом доме посреди леса, чтобы слушать себя?
– И тебя тоже!
– Просто чтобы думать и говорить о любви?
– Ничего себе «просто»! А кто говорил, что люди к нам в терапию приходят на самом деле для того, чтобы научиться любить?
– Да мы, может, рождаемся для того, чтобы научиться любить.
– Ну вот! Мы оба знаем, что сейчас у каждого из нас – не самый простой период в жизни и что нам нужно такое особенное погружение.
– Страшно.
– Страшно, – она кивает. – Твой страх какой? Давай их подружим?
– Начинается!
– А что? Хорошая же штука!
Попробуйте представить свой страх как реального персонажа и попытаться понять, что ему нужно, для чего он пришел.
Они поднимаются и, продолжая болтать, идут по лесной тропинке, скрываясь за деревьями.
Какими вы представили себе Его и Ее?
Похож ли кто-то из них на вас?
Похожи ли они на кого-то из ваших знакомых или любимых персонажей?
Когда представите их как можно более реалистично, задайте себе вопросы: «Почему они говорят то, что говорят? В чем их мотив? Чего они хотят?»
Есть психоаналитическая шутка: «Если вы говорите обо мне, на самом деле вы говорите о себе. А вот когда вы говорите о себе, вот тогда вы говорите обо мне». Имеется в виду идея «я»-высказываний. Если человек говорит мне: «Ты злой!» – возможно, он сам злится в этот момент. А вот если он скажет: «Я говорю с тобой и чувствую злость» – это скорее будет означать, что именно я делаю что-то, вызывающее злость.
То, что вам пришло в голову о мотивах и чувствах персонажей, – это то, как вы себя ощущаете в настоящий момент. Как это может быть связано с текущим периодом в вашей жизни? Ваша фантазия об этих персонажах может описывать ваши половинки души. Какие половинки? Нашу внутреннюю историю отношений с самими собой, наших внутренних партнеров.
Глава 3. Любовь внутри и снаружи
Печь растоплена. За окном особая густая вечерняя синь.
Она смотрит на язычки пламени, всполохи углей и по детской привычке любительницы пофантазировать высматривает, какие фигуры, какие образы привидятся в узорах теней на своде топливника. Появляются танцующие пары, бегущие пары, летящие пары… Пары, пары, пары… Одна из них почти слилась в единое целое – фигуру, похожую на индийское многорукое божество, а потом что-то щелкнуло и разлетелись от жара угольки сухой ветки, пары распались и исчезли в жарком пепле.
– «Люди совершенно не сознают истинной мощи любви, – читает он из потертой книги, – ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не делается, хотя все это следует делать в первую очередь. Ведь Эрот – самый человеколюбивый бог, он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем…»
– Ничего себе! Откуда здесь «Пир» Платона? – удивляется она.
– Все, что тебе нужно услышать, находит тебя в самом неожиданном месте. – Он бросает на нее многозначительный взгляд.
Раньше эта его манера красоваться, произнося что-то глубокомысленное с соблазняющим видом, бесила ее. А теперь она любуется. Впрочем, он утверждает, что вовсе не красуется, а правда так чувствует.
Когда-то ее бабушка, не понаслышке многое знавшая про отношения мужчин и женщин, сказала: «Любовь – это когда любишь в человеке даже то, что в нем ненавидишь».
Она улыбнулась себе: «Интересно, я его люблю? Ну конечно, люблю: как человека, как друга, как ближнего… Вот и Христос велел любить ближних…» Она ойкает, поцарапавшись ножом, которым режет овощи.
Он оборачивается:
– Все нормально?
Она кивает, и он продолжает читать:
– «Раньше… люди были трех полов… От третьего сохранилось только имя – андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского… Мужской искони происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала… Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов… Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, и не знали, как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда-то гигантов, – тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу кое-что придумав, говорит: “Кажется, я нашел способ сохранить людей и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они… станут слабее…”»
Он вручает ей книгу.
– Угли готовы, читай дальше ты.
Он ловко укладывает свертки из фольги с овощами в тлеющие угли. Она любуется, как двигаются мышцы под тонкой свободной рубашкой, как жар углей подсвечивает его лицо, и вдруг слышит спокойный внутренний голос: «Я дома». И продолжает читать:
– «Каждый из нас – половинка человека, рассеченного на две… части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину… Когда кому-либо… случается встретить ее, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, часто не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга… Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней».
Она закрывает книгу.
– Мне почему-то печально…
– Не грусти, это зануда Аристофан все сочинил, чтобы покрасоваться на пиру Платона. Комедиографы – самые большие мизантропы.
– В Каббале есть идея, что именно взаимодействие мужского и женского первоначал – основа баланса мира. Невыразимый и непостигаемый Бог встречается со своей женской, земной ипостасью, Шхиной, и тогда происходит творение и создается целостность.
– А меня всегда завораживало в Книге Бытия, когда, помнишь, Всевышний уже создал за шесть дней и свет, и тьму, и землю, и моря, и небесные светила, и растения, и рыб, и животных, и даже человека, а потом решил еще раз сотворить человека…
– Да-да, это кажется странным. Уже вроде все сделал: мужчину и женщину, и велел владычествовать над рыбами, птицами и всей землей, уже отдыхать пошел в день седьмой, а потом – сотворение человека, часть вторая!
– Я так понимаю, что в шестой день он сотворил человека физического, а потом по образу и подобию своему решил еще и душу ему создать.
– Наверное.
– Я представил себе то, что там написано: что земля паром поднималась к нему, а он дыхание свое вдохнул в нее, и тогда получился человек, Адам. На что похоже?
Очень полезная техника: выбрать какой-нибудь важный фрагмент значимого текста, отрывок, который как-то особенно трогает или особенно непонятен, и в расслабленном, медитативном состоянии представлять все написанное дословно, в образах, без объяснений, без попытки понять, как есть. Это может привести к важным озарениям и пониманию.
Она присматривается к внутренним образам и улыбается.
– На секс?
– На любовь! «На секс», – передразнивает он.
– Ну а что? Секс – не любовь?
– Ох…
Она улыбается, пожимает плечами.
– Душа человека создается любовью божественного и земного, соединением мужского и женского не только буквально, но и символически.
– Конечно. В книге «Зоар»[5] описывается, что у первозданного человека было два лика: мужской и женский. Почти как у Платона, но немножко иначе: была одна человеческая душа как единое тело, а лица ее были обращены в разные стороны. И получалось, что они едины, но общаться не могут. Всевышний разделил их. Задача такая: сначала они, конечно, потеряются и будут искать друг друга. У них будут скитания, страдания, встречи с не своими половинками – в общем, какой-то опыт, у каждого свой. Зато потом, если им удастся встретиться, узнать друг друга, не забыть в своих одиноких скитаниях, они смогут по-настоящему быть в отношениях – лицом к лицу, говорить друг с другом, любить друг друга.
– Адам с Евой – это такие две половинки души?
– Да. Как алхимический Ребис, единство противоположностей.
– Помнишь, у Юнга есть книга «Психология переноса»[6], где он на примере гравюр из алхимического трактата «Розариум философорум» показывает эту историю встречи мужского и женского, Короля и Королевы, двух половинок в душе человека для того, чтобы стать самим собой.
– Человек как микрокосм?
– Да.
– Так что в душе каждого из нас должны встретиться мужская и женская части, земная и духовная, думающая и интуитивная.
– Слушай, а ты рассказываешь своим пациентам вот эту идею Юнга о внутренней встрече, внутренней свадьбе, про Аниму как фемининную, чувственную часть мужской души и Анимуса как маскулинную, логическую часть женской души? Мне иногда кажется, что для людей без специального образования это звучит как шизофренический бред.
– Я думаю, его идея в чистом виде уже устарела. Он был человеком своей эпохи, своего социального круга, поэтому ему ничего не стоило сказать, например: «Церковное Средневековье не без причины ставило вопрос, есть ли душа у женщины» или: «Если у женщины прорывается Анимус, она начинает вступать в дискуссии и что-нибудь доказывать. А женские аргументы всегда нелогичны и неубедительны»
